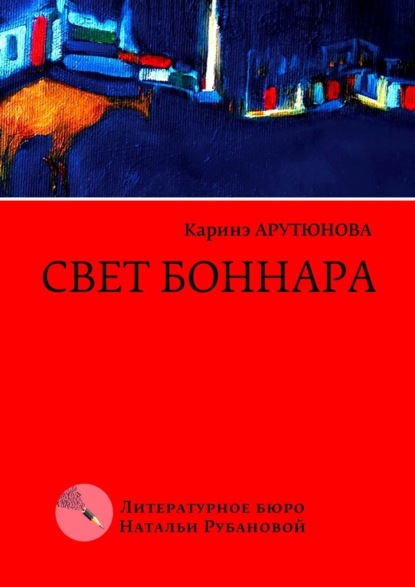Литературное бюро Натальи Рубановой
На обложке: Каринэ Арутюнова, картина из серии
«Явление цвета»
Редактор проекта Наталья Рубанова
Корректор Надежда Винштейн
Дизайнер обложки Артур Даниелян
Художник Каринэ Арутюнова
© Каринэ Арутюнова, 2021
© Артур Даниелян, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0053-8954-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо пролога
Вы открываете конверт с письмом, адресованным лично вам: оно, судя по обратному адресу, написано гением, вашим кумиром, оно о вас, о вашем редком и несравненном даровании. Вспомнили? Что-то подобное было, обязательно было, потому что вы родились когда-то на свет божий, в его краски, запахи и звуки. Вы родились в жизнь – она и есть тот гений, автор письма, с которым вы не расстаетесь, которое проборматываете вновь и вновь, на которое мысленно отвечаете, но не можете найти слов благодарности, равных счастливому потрясению, испытанному при первом прикосновении к нему – драгоценному письму, которое, как оказалось, пишет вас.
Есть композиторы, создающие клавир, а затем – последовательно – раскладывающие его на инструменты, и есть другие, моментально слышащие всю симфонию разом. Мне кажется, так слышит Каринэ Арутюнова, пытаясь совершить прекрасное в своем героизме действие: вместить ежесекундный гениальный диктант жизни в каждую крупицу своего сочинения, – и потому читать ее – большая и незабываемая радость.
Владимир Гандельсман
Если бежать долго-долго вслед за солнечным лучом, говорят, можно дойти до кастильского короля или даже до Мадагаскара.
Чутье подсказывает, что это одно и то же.
Желто-лимонное Лимпопо, сине-золотая пряная Индия и суровая малахитовая Кастилия.
Ах, я бы дошел, но что-то меня держит.
Некие обстоятельства. Надеюсь, временные!
Свет далеких окон
С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.
Вдумайтесь только – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?
Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.
Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.
Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова, – на помощь приходят запахи.
Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой, – так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости накануне долгой зимы.
А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользающий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) двадцати, тридцати – слышишь, как ветви стучат в окно? Как ускоряется шаг?
Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало – кажется, только раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «Леуми».
Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.
Как пахнет тоска, как уголком загибается лист недочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.
Свет далеких окон, нежность скомканных слов (дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза), сопровождающих на каждом ухабе…
Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.
Как пахнет жизнь, подаренная… господи, ни за что, просто так, еще одна.
Новая, неизношенная, целая.
Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела) – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора!) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.
* * *
Ее ты проживаешь наспех, второпях, не успевая распробовать, – как оно там, за всеми стенами, окнами, рамами, – как же там дышится, как живется.
Вначале была река. Вокруг нее вырос город. Да нет же. Города не было. Ничего еще не было. Ни рыночных площадей, ни тюрем, ни школ, ни соборов, ни таверн.
Вначале была она. Река. Женщина. Мальчик. Дорога. Что-то, видимое только двоим, там, за линией горизонта.
Зеркало. Женщина в нем
Из удивительного в старом австрийском доме – полукруглая ванна, в которой хочется провести остаток жизни. Разумеется, в неге и роскоши. При такой ванне сами собой образуются туфельки, чулки, пояс, пузырьки с золочеными головками, обходительные мужчины с уложенными (один к одному) волосами, крахмальные манишки, развернутые салфетки, дамские шляпки, кучер, бокал из богемского хрусталя, полбутылки лафита, щипчики для кускового сахара, сам, собственно, сахар, да не это быстрорастворимое недоразумение, а такой, знаете ли, чтобы играл на зубах. Образуются неспешные беседы при свечах, бал у румынского посла, перебои с водой и электричеством, конки, трамваи, здание ратуши, томик Шиллера, Брамс, имперский размах и увядание, осыпающаяся штукатурка и проступающая сквозь нее плинфа, византийская вязь и латиница, румыны, венгры, австрияки, немцы, поляки, свиные ребрышки, вымоченные в вине, острый соус, серебряный соусник, красные крыши домов, разбитое сердце, пыль времен, высокие потолки, канделябры, старые фотографии, кружевные перчатки, синагога, костел, улица Эминеску, Штейнберга и Гете, кофе по—венски, скрип половиц, витые решетки, балкон, огромное зеркало, женщина в нем.
Там иначе распорядились пространством, – не мы с вами, а те, кто был здесь до. Точно в старинной шкатулке, выдвигаются секретные ящички, расступаются анфилады, проступают барельефы, вязь решеток и кружево балконов, прохлада и тишина подъездов, кладка стен, подробность лестниц и коридоров, – все перечисленное тесно связано друг с другом, одно бессмысленно без другого, как слова, обращенные в пустоту, речь, лишенная подтекста, теряет богатство эпитета и обертона, становится скудной и топорной, так сквозь сложно устроенный механизм человеческой природы прорывается клекот и лай, мычание и хрип, – как, однако, любовно творил нас создатель, вкладывая речь в уста, даря диапазон, силу, глубину, нежность, страстность, холодность, вежливость, куртуазность, мешая «возвышенное и земное», плоское и рельефное, плотское и чувственное, узкое и широкое, – по мере отдаления возрастает значительность всякой подробности, из которой складывается ткань бытия и, стало быть, многомерность сознания, которое тянется ввысь, разворачивается вслед за горизонтом, устремляется и гаснет, точно лампочка, вкрученная в плафон еще при Франце Иосифе, – гаснут лампочки, тускнеют паркеты, останавливаются часовые механизмы, даже они изнашиваются от соприкосновения с хроносом, что говорить о содержимом выдвинутых ящичков, о париках и камзолах, туфельках и чулках, фраках и перчатках, подъезды не выдают воспоминаний, скрывают сюжеты, оберегают тайны, – они распахиваются перед всяким новым жильцом, пугая темнотой и затхлостью, признаками и призраками многократно возрождающейся жизни, уже никак не связанной с тем, кто жил здесь до, – разворачивается лист-вкладыш, являя внутренний дворик второго этажа, – огромные окна, стертые ступеньки, велосипед со спущенной рамой, кожаный нос собаки в окне, белье сохнет, качели скрипят, женщины в цветастом затрапезном по-прежнему заполняют пространство новыми жизнями, а вот и детская кроватка, в глубине, на дне ее, тюфячок, вдруг примиряющий с ходом времен и чередой событий, – всему свое время, вздыхает часовщик, откладывая в сторону изношенный механизм, нежно позвякивают шестеренки, пружинки и винтики, и чистый детский голос, захлебываясь, смеется чему-то безудержно, и тут же другой, множественный, то старый, складчатый, надорванный, то вновь юный, то женский, то мужской, то скрежет и лязг, то перезвон мельхиоровых ложечек, то кадиш, то вальс, то «верою пали стены иерихонские», – матка боска, геброхт золзен верн, а мохайе, – им вторит орган, колокольная рябь, молитва раввина, высокий голос кантора, и маленький доктор с потрепанным саквояжем вновь идет через двор, на крик ребенка и стон роженицы.
Танжер
До сих пор жалею, что не купила эти картины. Совсем небольшие, – на картонках и дощечках написанные, – нет, достаточно грубо намалеванные, – однако грубость эта – от мастерства – это грубость профессионала, который имеет право на вольность, размах, небрежность.
Совсем недорого, – заметил он. Средних лет мужчина с ярким платком на шее, – а кто художник, – взволнованно поинтересовалась я, желая немного потянуть время.
Это мои картины, – тяжеловатой темной ладонью он обвел стол с разложенными на нем работами. Отчего-то я усомнилась в его словах, – разве может художник быть таким, – похожим на уличного торгаша, – тот, настоящий, сидит наверняка в раскаленной каморке и пишет без устали – синий, алый, белый, опять синий.
Укутанных с ног до головы женщин, – эти вспыхивающие силуэты, эти сочные мазки, эти глубокие тона, – сглатывая слюну, жадно перебирала я картонки, так и не решаясь выбрать, – то ли истекающие соком груши, то ли женщин, идущих в хамам, то ли вовсе неясное нечто, – этим «нечто» хочется обладать, – оно вызывает жажду, пересыхание гортани, остроту обоняния, зрения, слуха.
Это нечто – энергия иного мира, растрескавшейся земли. Такова любовь.
Влюбляешься в нечто, чему названия нет, да и нужно ли называть, всматриваться, разбираться, когда под пальцами – плотно, горячо, – в глазах – сухая жара, почти обморок.
Любая из них может стать моей. Я бережно упакую ее, уложу на дно чемодана, а дома буду вглядываться, разворачивая к свету.
Торговец картинами беспокойно заерзал, – хорошие картины, – дорогие картины, – у меня много покупают, – глаза его следовали за каждым моим движением, – а в следующее воскресенье? Вы будете здесь? – наученный опытом, он моментально утратил интерес к беседе, – и я, прикрывая затылок ладонями – полуденное солнце пекло беспощадно, – попятилась.
На следующей неделе он сидел там же, и цвета пылали, ослепляя уже издалека.
Я кружила по базару, не смея подойти, – хотелось еще раз коснуться, – даже не обладать, – обжечься. Только запомнить – плывущих по воздуху женщин, раскаленное небо, белые стены домов, алые лоскуты ткани. То самое наваждение, которое при ближайшем рассмотрении окажется городом, обычным городом, в котором живут обычные люди.
Можно ли обладать мечтой? Хочу ли я увезти ее в своей дорожной сумке, повесить на стену…
Несколько раз наши глаза встречались – его, цепкие, будто жучки, и мои, совершенно обезумевшие от невозможности принять решение.
«Недорого», – заклинали его глаза, – «Танжер», – отвечала я, утирая сбегающие по лицу ручейки пота, – я увезу с собой мечту о Танжере, воспоминание о зное, белизне, синеве.
Воспоминание о невозможном – вот что такое любовь.
Именно воспоминание о невозможном когда-нибудь приведет меня туда, в то самое место, где оплавленный жаром булыжник, узкие улочки, белобородые старцы, огромные старухи с четками в пухлых пальцах, огромные страшные старухи, усеявшие, точно жужжащие непрестанно мухи, женскую половину дома, выстроенного в мавританском стиле, с выложенным лазурной плиткой прохладным полом и журчащей струйкой фонтана во дворе.
Открытка из Буэнос-Айреса
Письмо на почтовой открытке с фотографией прекрасной Элизабет начинается со слов «моему дорогому Дино».
Год не указан, но, судя по всему, оно шло из Буэнос-Айреса в Милан и все же попало в руки адресата. Что стало с ними после? Были ли еще письма, полные нежности и ожиданий? Ответил ли Дино? Что ответил он своей Элизабет? Что почувствовал он, вглядываясь в черты, запечатленные на фото? Была ли это любовь, или страсть, или же привязанность?
Встретились ли эти двое после? Как долго пересекались линии их жизней? В каком году была поставлена точка?
Кто покинул этот мир раньше? Дино или прекрасная Элизабет?
Как чужое письмо попало в лавку древностей, затерялось среди сотен других открыток и писем с видами запечатленных на долгую память мест и лиц?
Когда в последний раз листал он, герой и адресат письма, альбом со старыми снимками?
Я видела его сидящим в глубине лавки. Посреди всех этих вещей, отягощенных историей и пылью времен. Отражение неизвестного мужчины проступало из старинного зеркала, подернутого пленкой множественных воспоминаний.
Возможно, всю жизнь он пытался найти слова, достойные женщины из далекого Буэнос-Айреса.
Возможно, он писал их вновь и вновь, уже потом, когда память стала единственным прибежищем, когда поезд жизни замедлил ход, а затем понесся с неслыханной скоростью, оставляя позади все самое ценное…
И вот оно здесь. Граммофон, саквояж, портмоне. Часы, показывающие одно и то же время, с замершей секундной стрелкой, с повисшей безжизненно минутной.
Кто все эти люди, зачем касаются они моей жизни, моего детства, моих писем и книг?
Я все еще здесь, меня зовут Дино. Я отражаюсь в зеркале, я все еще пишу письма туда, куда не летают самолеты, не ходят поезда, не стучатся почтальоны. Это гораздо дальше Буэнос-Айреса, гораздо дальше. Там, в таинственном Зазеркалье, куда пишутся письма, полные любви и тоски.
Свет Боннара
Порой он садился в поезд, идущий по направлению к югу. Подальше от нежной, акварельной весны этих мест. Поезд мягко трогался с места, – за окнами проплывали невысокие здания, собственно, само здание вокзала, платформа, смотритель, носильщики, разбросанные здесь и там человеческие фигуры, – отдаляясь, они делались все меньше, будто вырезанные из картона персонажи пьесы из жизни провинциального городка. Проплывали розовые крыши, коричнево-зеленые дома, голубые ставни, – чей-то ленивый кот за пестрой занавеской, разросшийся фикус в горшке, женщина в фартуке с высокой рыжевато-каштановой прической.
Затворник и домосед – раз в полгода, – подхватив увесистый чемодан с тяжелыми заклепками по бокам, спешил к ближайшей станции.
Спокойные поля, исполосованные весенним солнцем. Еще немного, – лучи его станут слишком горячими, непереносимыми для незащищенных глаз.
Жара не для него. Жару хорошо пересидеть в прохладе старого дома, за плотно прикрытыми ставнями. Наблюдая за тем, как случайный ветерок колышет краешек занавески, как остывает чай, как небо, разгораясь, остывая, отдает тепло стенам, земле, цветам, деревьям, как листья, накапливая ультрафиолет, тяжелеют, темнеют (поначалу), наливаясь соками, источая густой аромат.
Как клонятся (будто готовясь ко сну) цветы на подоконниках, и наступающие сумерки диктуют свои правила звукам, теням, – как наполняется ванна, стоящая в углу дальней комнаты, как льется вода, – такой умиротворяющий монотонный звук, шорох падающей одежды, скольжение шелка, атласа, льна – вдоль тела той, которая, поеживаясь, склоняется над краем ванны. Выступающие косточки бедер, округлая линия живота, – при всей субтильности и худобе линии остаются плавными, всякий раз поражающими гармоничным соединением друг с другом, – вот ямочка под остро выступающей лопаткой, вот пятно света на левой груди, вот углубление над ключицами, вот родинка у предплечья – еще немного, и тело скроется под водой, – она вытянет ноги, упираясь в край ванны, и волосы, намокнув, завьются над лбом, затылком и висками, а кожа зарозовеет, заблестит. Не дыша, он проводит линию. Нет, не так. Пока только цвет. Несколько розовых, лиловых, коричневых пятен.
Она готова нежиться так часами. А он – смотреть. Запоминая каждую складку, тень, шероховатость. Как, поднимая руки, закалывает гриву рыжеватых на солнце (но склонных к каштановому глубокому) волос. Как, сведя руки за лопатками, застегивает матерчатые пуговки лифа. Натягивает чулки. Если бы можно было сыграть это, он выбрал бы Дебюсси.
Солнце проводит багровые полосы, становится тяжелым, нестерпимым. Он едет на юг. Вопреки сложившемуся мнению, южные цвета оказываются блеклыми, выгоревшими, усталыми – не оттого ли так много белого, отражающего и отталкивающего жар, – смуглые лица, неожиданно светлые острые глаза на них, белые крыши, белый свет, заливающий площадь у фонтана. Уличные женщины откровенно зазывают его, глядя в глаза без всякого жеманства или даже показной стыдливости.
Вода стекает, струится, оставляя лужицы на полу, и этот звук возвращает его туда, – поглядывая на циферблат, он точно знает, что сию минуту она, скрестив руки на груди, касается пальцами ног воды, – вечное дитя, ожидающее ласки, поощрения, нежности, – вот она, кутаясь в широкое покрывало, перебирает складки домашнего платья, проводит пуховкой по скулам, очерченным с изысканным изяществом…
Сидящая напротив девица не сводит с него круглых блестящих глаз.
Какой красавчик этот северянин, – думает она, – и совсем не такой бесцеремонный, как наши южане, – крикливые, быстрые, нетерпеливые. Она улыбается ему кончиками алых губ, прикусывает нижнюю белыми резцами, а верхняя заворачивается, точно у милого зверька.
Смеясь, он покачивает ее на коленях, наблюдая за тем, как медленно она расстегивает платье.
Он слышит звук воды. Хохоча, она вонзает зубы в его запястье, запрокидываясь на спину, хохочет, – ну же, иди сюда, красавчик.
Он видит, как там, в распахнутом окне, женский силуэт, раскачиваясь, клонится, будто опадающая влажная хризантема, – бахрома лепестков под тяжестью капель; пахнет резедой и фиалками, чистым выглаженным бельем. Ах, сколько красоты в обыденном. В простых деталях. Кувшин с горячей водой, кувшин с холодной, продолговатое твердое мыло фисташкового цвета. Несколько гребней. Заколки. Вода, растекаясь, сбегает по выступающим позвонкам, в углу сидит кошка с черным пятном на боку, один глаз прикрыт, лапы – точно белые башмачки.
Со скрипом приоткрывается комод, рулоны ткани ждут своего часа, чтобы выплеснуться из полумрака, – пунцовый, салатовый, бирюзовый; в бирюзе – высокое небо Константинополя, усатый турок в загнутых мягких чувяках; в сиреневом – тишина, покой, умиротворение. Ткань стекает по узким плечам, струится по ногам, стелется по полу.
Ее страшит одиночество. Одну за другой она зажигает лампы, но этого мало. Потрескивают, оплывают длинные свечи, в тяжелых темных зеркалах множатся отражения. То маленькой девочки, стоящей босиком на полу, то юной девушки с мечтательным запрокинутым лицом, то женщины, ожидающей возлюбленного.
Женщина в окне, женщина в ванне, у зеркала. Идущая в длинной до пят сорочке через боковую комнатку с кувшином воды. Ванна стоит в центре комнаты. Будто на сцене. Она считает дни, недели, часы. Подобные стекающей по телу воде, они не оставляют следа. Время как будто застыло, не движется и никуда не бежит.
Уже не смущаясь, она не замечает камеры, установленной так, чтобы фиксировать главные события жизни. Подробности каждого дня. В купальном костюме, в шапочке с перьями, в гимнастическом трико. Ее бледность, худоба, ее нестареющее (и отражение подтверждает это) тело. Идеальная модель. Это именно то, что ему нужно. И не в страсти, пожалуй, дело.
Вагон мягко покачивается. Прикрыв глаза, он дремлет, – сквозь сомкнутые веки пролетают все те же поля, деревья в цвету, станции, смотрители, крепкие, загорелые люди, изящные и в то же время крепкие широкобедрые женщины. Вот эта, с плотно облегающими голову волосами, – тугими, тяжелыми, медовыми, и такими же медовыми глазами, – стройная, точно финиковая пальма, уперев ладонь в выставленное бедро, вызывающе смотрит прямо на него.
Как стремительна линия бедра. От кокетливой туфельки к округлому колену и дальше, вдоль тонкого шва к подвязке. Взгляда достаточно, чтобы охватить ее всю, вылепленную не столь утонченно, как, допустим, та, другая, но, безусловно, созданную для любовных игр, быстрых и грациозных движений. Атласная лента под грудью, смуглые скулы, поворот головы, – пожалуй, все, что останется в памяти, когда поезд двинется с места. Закрыв глаза, он дорисовывает остальное.
Наброски рождаются один за другим. Пастель, карандаш, сепия. Желтоватые листы разлетаются по столу. Только младенцам и животным присуща такая естественная пластика.
Запрокинутые за голову руки, темные впадины подмышек, подвернутая ступня, волосы, разметавшиеся вокруг лба и висков.
Женщина-кошка дремлет на софе, чашка молока стынет на подоконнике. Сноп света будто подсвечивает тонкую кожу предплечья, – сиреневым, голубым.
Поезд мягко покачивается, будто нашептывая: север-юг, север-юг. Как быстро блекнет южная красота. Как быстро вспыхивает страсть. Обернулся – а там уж нет никого. Быстрые шаги за дверью, узкие щиколотки, схваченные тусклыми браслетами; у лавки старик в феске перебирает четки, и глаза его невидящие устремлены в вечность.
Дыхание перехватывает. Ведь и он состарится, устанет жить, осядет, точно песок, у порога чужой комнаты. Чужая женщина подожмет темные губы. Если плеснуть из кувшина на стену, повалит пар. Молчаливые старухи провожают его, навьюченного точно верблюд, – мольбертом, картонками, холстами, пледом. Прощай, бирюза, прощай, густая синева. Прощай, восток.
Колышется занавеска, на ней пляшет тень цветущего дерева. Острые тени. Быстрая любовь под жарким небом. Горсть каленых фисташек. Вкус мяты и жженого сахара. Сколько ей было? По белой стене полз тарантул, изумрудная ящерица сверкала чешуйками, дул ветер пустыни, сердце билось, мешая глотать и дышать.
Где-то льется вода, стекает быстрыми ручейками, даря прохладу и забвение. Здесь все уже было. Душа, совершив тысячу превращений, вернулась на землю. Точно после долгого сна, в котором чужой человек идет вдоль стены, шаг за шагом меняя очертания. Еще мгновение, и он поравняется с собой, бегущим навстречу.