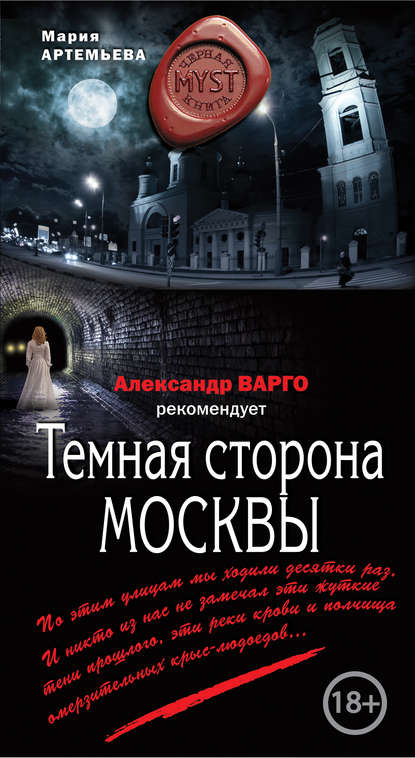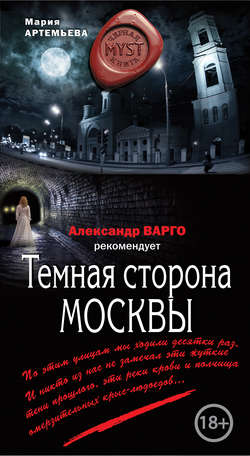
000
ОтложитьЧитал
И все же пролитая ею кровь переполнила чашу терпения Господа; злодеяния ее стали уже таковы, что скрывать их сделалось невозможно.
Дворовые люди Салтыковой – Савелий Мартынов и кучер Ермолай Ильин (тот самый, у кого помещица убила одну за другой трех жен) – совершили удачный побег и, рискуя жизнью, ухитрились-таки подать жалобу в последнюю для них на этом свете инстанцию – лично в государынины руки. Поговаривали, что беглецам помогал кто-то из дворян или судейских, но имена этих помощников остались неизвестны.
Екатерина, дорожившая своей репутацией просвещенного монарха, была вынуждена назначить тщательное следствие.
Первым делом дознаватели проверили домовые книги, которые весьма аккуратно вела хозяйственная помещица Салтыкова. Всего ей принадлежало 600 крепостных. 140 из них, судя по записям в книгах, были «проданы», «отпущены», «ушли в бега» или просто бесследно исчезли! На суде удалось доказать гибель лишь 38 человек.
Показания свидетелей, записанные в деле, были ужасны.
Убийства в доме Салтыковой начались почти сразу после смерти ее мужа, Глеба Салтыкова, и происходили постоянно, начиная с 1756 года. Она рвала слугам волосы, била, порола, прижигала лица их горячими щипцами, обваривала людей кипятком, оставляла голыми на морозе, закапывала в землю живьем…
И в то же время щедро жертвовала церкви, посещала службы, совершала паломничества и раздавала милостыни.
Еще больше она раздавала взяток. Полная и абсолютная безнаказанность преступницы разжигали в ней аппетит к убийствам.
Она и после ареста ничего и никого не боялась. Следствие не смогло побудить кровопийцу ни раскаяться, ни даже сознаться. И угрозы пыток ни к чему не привели.
Ее нарочно приводили в острог, чтобы она присутствовала при муках других преступниц, незнатного рода. Однако чужие страдания и вид крови ее совершенно не смущали. Она с насмешкой относилась к потугам следствия запугать ее.
Как дворянку, Дарью Салтыкову могли пытать только с разрешения государыни, а Екатерина разрешения не давала. И преступница прекрасно была о том осведомлена: у нее имелись пособники среди полицейских и после ареста.
Следствие велось чрезвычайно долго по причине огромного количества причастных к делу людей и, что составляло особенную трудность и препятствие, все это были государственные чиновники, по долгу службы обязанные проверять жалобы и вести следствие.
Государыня Екатерина II почти два года самолично переписывала приговор, составленный от лица Правительствующего сената. Наказывать приходилось дворянку, да еще весьма знатного рода: пол-Москвы состояло в родстве или свойстве с нею. А самодержица российская заботилась о дворянском достоинстве.
Решение отыскалось. В 1763 году Дарья Николаевна Салтыкова была лишена дворянского звания, фамилии и родства. Отныне это была Дарья, дочь Николаева. Небольшую часть ее сообщников и покрывателей – самых низких званий и положения, вроде попа села Троицкого, Степана Петрова, – сослали в каторжные работы.
Самой же Дарье по воле царицы пришлось отбыть час «поносительного зрелища» на Лобном месте Красной площади. Ее привязали к столбу с надписью «душегубица», и толпы простолюдинов дивились и ужасались «людоедке», о которой уже вся Москва была наслышана.
Опозоренную перед всем светом преступницу поместили на пожизненное заключение в подземную тюрьму, нарочно для нее выкопанную в подвале Ивановского монастыря.
В том самом месте, где боролся с чертом Илларион, была «похоронена заживо» Дарья Салтыкова. Она сидела в земляной яме в полной тьме, лишенная человеческого общения; иногда ей дозволяли поесть при свете свечного огарочка… А по большим церковным праздникам она подходила к окошку в потолке, настолько близко, насколько пускала цепь, какою была она прикована к стене, и, подставив лицо дневному свету, пыталась перекинуться словечком с кем-нибудь из случайных прохожих.
На нее приходили поглазеть как на диковинного зверя; матери пугали ею детей… Большинство же людей, брезгуя ее ужасным видом и безумными речами, шарахались, старались как можно скорее миновать страшное место.
Лицо бывшей душегубицы сделалось с годами мучнисто-белым, глаза ввалились и ослепли, а волосы сбились в колтуны и вылезали клочьями. Она отвыкла от живых людей.
В подземной могильной яме ее окружали только призраки. Они соседствовали с нею все эти годы, видения загубленных ею – запоротых, зарытых живьем в землю, обваренных кипятком, изувеченных, замерзших на лютом морозе.
И еще были с нею бесы – виновники лютой одержимости. С ними она перешептывалась в темноте, и они отвечали ей.
* * *
В 1778 году секунд-майор Николай Андреевич Тютчев навестил покинутую им Москву.
Большой карьеры на государственной службе он не сделал. Зато семейным счастьем оказался богат и в детях удачлив. В хозяйственных делах преуспел: начав когда-то с одного именьица и двадцати крестьянских душ, входивших в приданое жены, довел число крепостных до двух тысяч, увеличил свое благосостояние, скупая то и дело по случаю земли и расширяя владения. Лучше всего ему, как бывшему землемеру, удавались межевые тяжбы. Вот и теперь, явившись в Москву, он выиграл давно тянувшееся дело…
Пребывая в прекрасном настроении, прошелся он по московским магазинам, отыскивая подарки, гостинцы и сюрпризы для домашних.
Оказавшись у Ивановского монастыря, Николай Андреевич услыхал разговор двух мужиков, торчавших зачем-то без дела под святыми стенами.
– Вот, гляди, ужо ее наверх выпустят. Сейчас, как служба начнется, примечай. Вон в той яме!.. Людоедица вылезет.
Услышав про «людоедицу», Николай Андреевич вздрогнул. Что-то припомнилось ему в этих словах знакомое. Но ведь прошло уже семнадцать лет!..
Он встал и прислушался к разговору праздных мужиков.
– Одержима она, старики говорят, самим Сатанаилом. В остервенение входит, остановиться не может: а кровь почует – распалится, и уж тут все. Пока до смерти не замучит, до последней капли, до бездыханья – не отойдет. Проси не проси, хоть плачь, хоть умоляй – все одно: убьет. Так что ты смотри, близко не подходи – вцепится еще.
– За что ж в меня-то?..
– За что?! Думаешь, ей причина нужна?.. В ней бес сидит, а он духа живого в людях не терпит, понял? Как завидит плоть людскую – так и тянет раскровянить…
– Она, говорят, поленом больше всего…
– Это чтоб мясо помягше было, чтоб потом есть.
Мужики, перебивая друг друга, говорили страшным шепотом.
Вдруг с шумом разлетелись галки: звонарь начал перезвон к обедне.
Отпихивая друг друга локтями, мужики кинулись вперед, притискиваясь ближе к решетке, чтоб рассмотреть в темном провале за нею «людоедицу». Молча ждали, замерев, таращились и сопели, шмыгая носами.
Николай Андреевич, словно завороженный, придвинулся тоже к отверстию в стене и заглянул в дыру.
– Вон! Вон она! – крикнул один из мужиков и указал пальцем.
В самом темном углу что-то завозилось; Николаю Андреевичу показалось – кучу ветхого тряпья шевелят крысы. Пахнуло гнилью, и то, что представлялось майору кучей тряпок, придвинулось к самой решетке, выпростав из глубины мучнистое рыло.
– Сата-ната-лята-гата… Ляти-мяти-гати-сати… – невнятно забормотало существо.
– По-бесовски разговаривает! – в ужасе прошептал один из зевак. – Упырь! Как есть упырь…
– Заклинает, окаянная…
Услыхав человеческие голоса, упырь вдруг встряхнулся, прыгнул к решетке и звонко залаял. Делая попытки вцепиться в чью-нибудь ногу, упырь выл, рычал и размахивал руками с черными загнутыми когтищами.
Мужики бросились врассыпную. А упырь, подставив слепые бельма под ласковые лучи солнышка, довольно рассмеялся: ему понравилось, что зеваки испугались.
– Смотрите мне, дураки! Я вам обиды не спущу. Живыми в землю закопаю! У меня тут слуг много… – женским голосом сказал упырь и вдруг деловито принюхался.
При виде того, как подземный бес нюхает воздух, Николаю Андреевичу сделалось дурно.
А упырь, встревоженно прижавшись мордой к решетке, внезапно поинтересовался:
– Николюшка, это ты?!
– Нет! Нет!!! – вскрикнул Николай Андреевич. Нервы его сдали. Он бросился вниз по улице, совсем не в ту сторону, куда шел прежде, но ему было все равно.
– Николюшка! Передумал, что ли? Иди же ко мне! Смотри, я ведь обиды не спущу!!! – бесновался демон за решеткой подземной тюрьмы. Совершенно уже неузнаваемая Дарья Николаевна Салтыкова, вопя и рыча, кусала в бессильной ярости железные прутья.
Бывший любовник, задыхаясь, убегал.
Впервые в жизни он до конца осознал, от какой ужасной участи уберегли его Бог и удачливая фортуна. Он бежал от страшного места, где, казалось ему, сам воздух был заражен ненавистью и безумием кровавого чудовища.
Покидая Москву, он радовался жизни и тому, что преследовавший его демон, так и не оставивший своей к нему ненависти, пребудет навсегда заточен там, далеко от его дома, жены и детей.
Далеко, очень далеко. У черта на куличках.
* * *
В 1779 году Н. А. Тютчев перекупил у новых владельцев бывшее имение Салтыковой, Троицкое.
Спустя еще 18 лет после того он умер богатым и уважаемым человеком, окруженный друзьями, детьми, внуками, любящей родней.
А Салтычиха, проклятая и забытая даже близкими, пережила бывшего любовника на четыре года. Смерть избавила ее от мучительного заточения лишь в начале следующего царствования, в 1801 году (в страшный год убийства Павла I).
Когда в Москву вошла армия Наполеона, Ивановский монастырь сгорел дотла.
Странно, но, хотя большинство московских зданий после войны восстановили, Ивановский монастырь так и не собрались отстроить заново.
Часть его бывших земель отдали впоследствии под здание ведомства с наиболее зловещей славой в советскую эпоху – КГБ.
Духовная битва, судя по всему, продолжилась.
Либерея
Подземелья Кремля
(Рассказ студента-историка)
В 1992 году я учился на втором курсе политехнического. Но, честно говоря, посещали меня тогда мысли, что с высшим образованием, может быть, надо завязывать.
В стране творилось невообразимое. Революция. Приватизация. Каждый поневоле в коммерцию ударился, потому что ничем больше кормиться не получалось.
Я с приятелями время от времени тоже кое-какие комбинации проворачивал – не все же у папы с мамой на шее сидеть!
И вот после одной особенно удачной сделки – в одном месте купил, в другом продал – я решил окончательно: брошу институт, уйду в коммерцию. Фиг с ним, с дипломом! Только сначала отдохнуть смотаюсь. Давно на море не был. Последние, так сказать, каникулы отгуляю.
Сказано – сделано. Билет купил. Сел в поезд Москва – Симферополь. Весь такой беззаботный, в предвкушении… Очень надеялся на хорошеньких попутчиц.
Но в моем купе их не оказалось. Какой-то жирный старикан устроился на нижней полке напротив меня. И сразу – за хавчик. Сел, разложился. Лупит вареное яйцо трясущимися пальцами. А ногти на пальцах прямо траурные.
Вот уж не подумал бы, что именно этот неопрятный старикашка повлияет на мой выбор профессии! Но именно так оно и получилось.
Разговор между нами завязался чрезвычайно просто. Как всегда в пути, я листал опостылевшую за последние четыре часа газету, зачитанную уже, что называется, до дыр, разгадал кроссворд с последней полосы, и вот уже когда совсем нечем было заняться, я кинул взгляд на раздел, всегда обычно мною пропускаемый, – отдел частных объявлений.
И обомлел. То, что я прочитал там, в голове как-то не укладывалось: «Куплю книгу “Письма другу, жительствующему в Тобольске„за 15 тысяч долларов. Посредникам гарантируется вознаграждение».
– С ума народ посходил! – не удержавшись, воскликнул я.
Старик напротив прекратил жевать, взглянул на меня и, заметив мое изумление, скосил глаза в газету.
– Ах, это, – сказал он. – Безумный Казимир. Все-то ему неймется!
– Вы что, знаете человека, который дал это объявление?! – удивился я. – Ну и ну! Хотел бы я посмотреть, за что он предлагает такие деньги! Небось эдакий золотой кирпич, а? В золотом переплете – не меньше!
Мне было смешно. Но старик отвечал скучно, без малейшей улыбки:
– Редкая книга не всегда в золоте. И не всегда красивая.
– Да уж еще бы! Тем более – с таким названием! Могу себе представить.
– Что ж… Тобольск – город ссыльных. Эта книга – переписка между одним сосланным и его бывшим приятелем, весьма незначительным лицом, мелким московским духовным чином. Их имена вам ничего не скажут: в учебниках истории эти деятели отнюдь не числятся на первом месте.
– Тогда почему же ваш приятель готов платить такие безумные деньги за их переписку? – допытывался я.
– Надеется сорвать куш: сыскать Либерею! – сказал старикашка, аккуратно моргая на меня рыбьими глазками. Заметив, что я ничего не понимаю, он вздохнул и, пожевав губами, принялся тщательно разъяснять по порядку – так же тщательно, как перед тем разжевывал редиску с яйцами и огурцами.
– Либерея, юноша, чтоб вы знали, – величайшая историческая загадка. Если это слово перевести с латыни, так оно означает просто «книгохранилище», – говорил старик. – Речь идет о библиотеке московских царей, она же – пресловутая библиотека Ивана Грозного.
Разгадать эту историческую загадку – заветная мечта многих частных и государственных фондов, не только в России. Ну и отдельные лица тоже спят и видят, как бы проникнуть в тайну. Одни ученые полагают, что библиотека давно погибла. Другие – что она вообще миф, легенда, сладкая сказочка для дураков… Но золото Трои тоже было когда-то сказочкой. До тех пор, пока Шлиман не откопал его.
Упомянутая библиотека, по косвенным свидетельствам, обладала невероятной ценностью. В ней хранились в течение нескольких веков, кроме царских архивов и государственных документов, манускрипты, летописи и фолианты самого разного происхождения. Основу составляли книги византийских императоров из Константинопольской библиотеки – часть приданого Софьи Палеолог, вывезенного ею из Византии в 1472 году, когда она обвенчалась с московским государем Иваном III, дедом царя Ивана Грозного. Летописи сообщают о семидесяти подводах с книгами! Утверждается, что в этой коллекции находились свитки и рукописи из знаменитой Александрийской библиотеки и даже из библиотеки Чингисхана.
Книги привозили в дар московским князьям, покупали и забирали как добычу при захвате и разорении городов – Новгорода, Твери, Владимира, Суздаля, Пскова, татарских крепостей. Так, после смерти казанского хана Сафа-Гирея татары выдали Ивану Грозному вместе с вдовой и сыном всю казну умершего властителя. В казне же среди главных сокровищ числились арабские ученые трактаты.
То есть, если верить слухам, московская Либерея являлась богатейшим собранием книг Востока, греческих, латинских, еврейских и арабских авторов, летописаний древних славян, скифских и других народов.
Там могли быть редчайшие, потрясающие вещи, сохранившиеся, возможно, в единственном экземпляре!
«Аноним» Дабелова, которому не все, правда, склонны доверять, показывал, что в Либерее содержались, например, полный экземпляр «Истории» Тита Ливия, «Энеида» Вергилия, утраченные комедии Аристофана, сочинения Цицерона и многое другое. В списке Дабелова упомянуто около 800 единиц – и в числе авторов как известные, так и неизвестные науке имена: Кедр, Замолей, Гелиотроп. А среди книг известных авторов есть и такие, которые обнаружены были только в начале XIX века во фрагментах.
Отчасти по этой причине список Дабелова некоторые авторитеты считают подделкой. Кто знает?..
Список, собственно говоря, был неполной копией памятной записки на старонемецком языке. Какой-то безымянный пастор в ответ на запрос некоего важного лица по поводу библиотеки московских царей составил ее по памяти… Записка была обнаружена профессором Дабеловым – почтенным, кстати сказать, преподавателем Дерптского университета – в архиве города Пярну.
Можно, конечно, считать Дабелова мошенником – тем более что оригинал из архива города Пярну куда-то испарился. Но истории известен следующий эпизод: в 1556 году в присутствии дьяков Посольского приказа Андрея Щелкалова, Ивана Висковатого и Никиты Фуникова лютеранский пастор Иоанн Веттерман, Томас Шреффер и несколько пленных юрьевских немцев осматривали библиотеку царя Ивана Грозного. Немцам показывали Либерею, намереваясь нанять их в качестве переводчиков иностранных книг. Испугавшись, что варвары-московиты засадят их всю жизнь корпеть над переводами, немцы сразу отказались: сослались на недостаток знаний. Один только пастор Веттерман то и дело восторгался исключительным богатством библиотеки и сокрушался, что не может выкупить все эти замечательные книги для лютеранских университетов.
Эпизод этот описан хронистом-ливонцем Ниештедтом и никем из историков никогда не оспаривался.
Список Дабелова, следуя логике, мог копировать записку, написанную пастором Веттерманом. Но доказать этот факт невозможно. Поскольку записка, частично скопированная профессором, канула в Лету столь же бесследно, что и описанная в ней Либерея.
Библиотека пропала после смерти Ивана Грозного. Царь умер внезапно, во время игры в шахматы. Он не успел составить завещание и не сообщил наследникам всех государственных секретов – в том числе о месте, где содержалась Либерея, как часть сохраняемой в тайне царской казны.
Было известно лишь, что московские государи хранили библиотеку в подвалах, опасаясь пожаров, которые часто случались в деревянном городе.
Вот в подземельях древнего Кремля и видел библиотеку пастор Веттерман. Видел Либерею и дьяк Большой казны Василий Макарьев, по приказу царевны Софьи прошедший потайным подземным ходом от Тайницкой до Арсенальной башни.
Хотя, если точно следовать фактам, изыскания дьяка Макарьева в 1682 году вызывают сомнения: на тот момент библиотека уже считалась пропавшей.
Дьяк Макарьев якобы видел и описал палаты под землей, заставленные сундуками до самого потолка, – добраться до них оказалось невозможно: запертые решетки на входе не пускали. Царевна Софья приказала не трогать странные находки до ее особого распоряжения. Впоследствии же тайные подземные ходы обвалились, и уже Конон Осипов, пономарь церкви Иоанна Предтечи на Пресне, попытавшийся осенью 1718 года проникнуть в описанные Макарьевым подвалы под Тайницкой башней, наткнулся на забитые глиной каменные колодцы и разрушенные своды, не дававшие хоть сколько-нибудь углубиться под землю.
– Либерея – это прекрасно! – не утерпев, перебил я старика. – Но я так и не понял: какое отношение ко всему этому имеет переписка с тобольским другом за пятнадцать тысяч долларов?!
– Если в этой переписке есть хотя бы часть того, о чем я думаю и на что надеется мой безумный знакомец Казимир, то цена ей – не пятнадцать тысяч, а все пятнадцать миллионов долларов, – хладнокровно сообщил старик и продолжил рассказывать: – Куда подевалась библиотека московских государей?.. Этим вопросом задавались и задаются многие. Огромное собрание книг, большинство из них – пергаментные… Пергамент может, конечно, сохраняться веками. Да к тому же книги были помещены в окованные железом сундуки. Но все же Либерея могла сгореть, утонуть, погибнуть под обвалами в подземельях. Ее могли украсть во время Смуты. Или даже просто съесть – оголодавшее польское войско, осажденное в Кремле русскими ополченцами князя Пожарского. И нечего тут хихикать! Пергамент – это кожа, ее можно варить и есть. Не слишком питательно, но голод не тетка. А поляки, сидевшие в Кремле, дошли в конце концов до прямого людоедства. Друг друга кушали. Что уж там пергаменты!
Но ведь всегда есть надежда. А вдруг?! А что, если Либерея цела? Как найти пропавшее сокровище? Я знаю людей, чья страсть к отысканию этого культурного клада столь велика, что они и сами готовы… землю грызть. Проверяются самые странные версии и теории, малейшие намеки и догадки – была бы хоть какая-то вероятность.
Есть такая довольно одиозная версия об украденных книгах… Ведь даже отдельные книги, содержавшиеся в Либерее, были столь редки и примечательны, что сами по себе являлись целым состоянием, или, скорее, достоянием. Это такой соблазн! Для некоторых людей просто непреодолимый. Возможность отыскать подобную книгу, упомянутую в каких-либо исторических источниках, – это возможность, во-первых, подтвердить само существование легендарной Либереи, а во-вторых – нащупать след вероятного ее местонахождения, ну и…
– Я начинаю понимать, к чему вы клоните, – улыбнулся я старику. Но он, раскочегарившись, только махнул рукой в мою сторону, чтоб я заткнулся. Торопливо хлебнул минеральной воды и заговорил снова:
– Однажды к Ивану Грозному обратился ногайский хан Тинехмат. Просил отыскать в Либерее рукопись сочинения Казвини «Аджанбу-аль-махлукат», в переводе с арабского – «Чудеса природы». Книгу искали, но не нашли… Неизвестно: царь обманул или слуги-балбесы не сыскали. Не в этом суть. – Старик неожиданно замолчал, а когда начал говорить снова, по лицу его забегали какие-то тени. – XVI век – время, когда магия и наука еще не были окончательно разделены. Научные трактаты содержали много чепухи, время от времени блистая гениальнейшими догадками, достойными звания открытий. В ту эпоху магия и наука трудились вместе на одной ниве познания. И действия обеих одинаково не одобрялись религией…
Рукопись «Чудеса природы» являла собой именно такое осуждаемое церковью смешение оккультных и натуралистических опытов познания природы. Это был труд человека, пытавшегося с самыми практическими целями собрать и обобщить все известное ему знание о мире. Это был учебник жизни, собрание мудростей и секретов природы, одна из первых попыток человека поставить натуру себе на службу. И там имелась масса рецептов – как именно это сделать…
За окнами вагона сгущалась синева. Поезд шел мимо обширных лугов, обрамленных чернеющими вдалеке елками. Внезапно я увидел, как ворон, распластав крылья, повис в воздухе, пытаясь лететь вровень с идущим поездом. На этой странной картине время как будто застыло.
Лицо старика, моего собеседника, с каждой минутой сильнее погружалось в темноту, покрываясь все более рельефными морщинами. Этот древний вещун старился прямо на моих глазах.
Он продолжал говорить, но очень тихо. Зашел с другого конца.
– Екатерина Алексеевна Долгорукая, в 1725 году одна из первейших красавиц Москвы, воспитывалась в Варшаве. Далеко от своей азиатской отчизны.
В Польше московитские земли считались дикими, а все русское отдавало варварством. И Екатерина Алексеевна, впитав взгляды своих наставников и наставниц, не любила родную страну. Она не обрадовалась возвращению в Москву, несмотря даже на то высокое положение, которое было ей тут уготовано, и на восхищение, которое выказала ей вся местная молодежь из числа знати.
Юная княжна Долгорукая была равнодушна к грубым чувствам соотечественников, но послушна своему отцу, Алексею Григорьевичу. А у него были четкие планы относительно дочери. Вот эти планы и пришлись по душе гордой холодной красавице. Государь российский, Петр II, находился под несомненным влиянием брата княжны Долгорукой, Ивана Алексеевича. Долгорукий-старший не слишком доверял легкомысленному сыну и крайне, как самого большого счастья души своей, желал закрепить успех семейного влияния на царскую особу.
Если по чести, то у Долгоруких уже не было выбора. Умный расчетливый Алексей Григорьевич отдавал себе в том полный отчет: либо они, Долгорукие, окончательно сковывают государя в тесном кольце любви и заботы – так, чтоб тот без них и пальцем шевельнуть не посмел, – либо всех их, даже фаворита Ивана, друга царского, закуют в кандалы и сгноят в Сибири, а то и вовсе головы лишат. Уж больно много недругов у их знатной фамилии. Ни при каком дворе фавориты не живут дольше каприза своего повелителя. А посему надо поторопиться!
Ведь Долгорукие многим успели насолить, сражаясь за близость к власти. Свалили и самого всемогущего Меншикова. А ведь тот, хитрец и пройдоха, дочь Марию с государем уж было обручил. Да все одно: вместе с дочерью гниет нынче в ссылке, в Березове. Надо, надо торопиться… Добыть Катеньке брак с царем, и глядишь – царская корона у князей в кармане! Катька хоть и дура-баба, а мысль отцовскую верно поняла. Недаром в Польше воспитывалась. Ради короны княжна на все готова. Но тут вышло препятствие ужасное и никак не ожиданное.
Ленивый разгильдяй и пьяница Петр II, никчемный внучок царя Петра Великого, влюбился – неслыханно! В свою родную тетку, дочь Петра Алексеевича, живую и бойкую очаровательную Елизавету Петровну! И то сказать: разница в годах между племянником и теткой была столь невелика, что, если б не церковные запреты, ничего удивительного в таком союзе никто бы не углядел.
И уже составлялась при дворе партия подхалимов, напевающих царю в уши: дескать, есть некие возможности церковные запреты обойти…
Как в таких обстоятельствах мужчину окрутить с другой, ежели он не то что этой другою не соблазняется, но даже и смотреть в ее сторону не хочет?!
Алексей Григорьевич на дочь и кричал, и кулаком стучал, обвиняя в нерадивости и сущеглупости женской, но, однако, и сам понимал: не в чем дочь винить. Девица старается изо всех сил. И даже, не побрезговав, к пьяному государю в постель влезла. Да только что с того? Государь к княжне холоден и равнодушен…
– Да уж… Против воли мужика женить?! Разве только чудом, – высказался я. Лица старика я уже не видел, но в голосе уловил зловещую усмешку.
– Да. В ноябре 1729 года произошло чудо, и весьма нехорошее: Петр II торжественно обручился с Екатериной Алексеевной Долгорукой. Княжна получила официальный статус царской невесты. Это был неожиданный удар под дых всем придворным партиям. Юная Елизавета Петровна на обручении плакала – понимала, что уж кому-кому, а ей-то при злой сопернице-разлучнице на беззаботную жизнь рассчитывать не приходится. Сам же Петр выглядел ошеломленным и будто примороженным…
Никто не понимал, как удалось Долгоруким совершить это грязненькое чудо. А свадьба между тем была уже назначена, причем на неприлично близкую дату – 19 января 1730 года.
Как сумели Долгорукие провернуть неподъемное дело столь стремительно и в столь отчаянно не подходящих обстоятельствах?! Если бы венчание состоялось, об их страшном секрете никто и никогда не узнал бы.
Но свадьбу сорвали. Уж очень много политических фигур было бы отодвинуто от кормушки этим браком!
Никакие уговоры на царя Петра не действовали. Его не удалось добром отговорить от свадьбы с княжной Долгорукой. Поэтому в день своей свадьбы упрямый молодец повенчался… со смертью.
Простудился, заболел и умер. Действительно: накануне брачной церемонии много времени провел на открытом воздухе, зимой, катаясь по льду. Одно удивительно: умер-то царь от черной оспы!
Вот ведь непонятная странность: промерзнув, царь залихорадил и… покрылся оспяными черными пузырями. Сгорел в три дня. Разумеется, это не могло быть случайностью.
Немедленно после царевой смерти начались допросы в подвалах Преображенского (Пытошного) приказа. Если бы их протоколы сохранились целиком – это было бы незабываемое чтение, и, возможно, много полезного удалось бы из них почерпнуть.
Но – увы! – остались только косвенные свидетельства, отрывочные и недостоверные.
Известно немногое: люди московского князя-кесаря Ромодановского после кончины государя схватили и препроводили в застенки и Ивана, и Алексея Григорьевича, и Екатерину Долгоруких. Их допрашивали с применением пытки, сообразно складу и особенностям каждого из преступных лиц. На допросах княжна Долгорукая, не таясь и не запираясь, показала, что ради удовлетворения своего непомерного тщеславия и премногого нахальства воспользовалась колдовской книгой «Дивные чудеса природы», которую привезла самолично из Европы.
Давным-давно эту еретическую книгу выкрал из царской библиотеки сам князь Андрей Курбский. Ее перевели с арабского пражские евреи. Колдовать по этой книге, готовить любовные зелья, дабы опоить ими государя, Долгорукой помог некий иностранный авантюрист польского происхождения Теодор де Шарни, посвященный во многие магические иерархии.
Авантюрист Теодор был схвачен вслед за своими высокими покровителями и подвергнут пытке наиболее строгим образом, как лицо закоренело нераскаянное и дерзкое. После допросов выяснилось: не Теодор никакой он, а Федька Шаров, беглый крепостной дворян Стародубских… Как у этого Федьки-Теодора оказалась книга, украденная из Либереи Курбским, – на допросах не интересовались.
Впрочем, и сами допросы быстренько свернули: государь умер, а с неудачливыми фаворитами и так все уже было ясно. Судьба их определилась: ссылка в Сибирь. В тот же самый Березов, куда наладили они в свое время врага своего, Меншикова, с дочерью…
После Иван Долгорукий был переправлен на каторгу в Тобольск, вместе с колдуном-иерархом Шаровым. Княжну, как женщину, пожалели, отослали в Новгород, в Воскресенский монастырь, где содержали в большой строгости. Великодушная Елизавета Петровна, взойдя на престол в 1741 году, повелела ее выпустить и пожаловала званием фрейлины. Екатерина Алексеевна ухитрилась даже выйти замуж в 1745 году за генерал-аншефа графа Брюса. Но и этот брак княжне не удался: тем же годом бывшая государыня-невеста скончалась.
А вот таинственный колдун-авантюрист Федор Шаров прожил долгую, хотя и не легкую жизнь в тобольских рудниках, а после – на поселениях. Там и началась его переписка с неуемным искателем Либереи – Кононом Осиповым, пономарем церкви Иоанна Предтечи, что на Пресне. Эта самая переписка и легла в основу книги «Письма другу, жительствующему в Тобольске».
Судя по всему, пономарь очень хорошо знал таинственного Теодора де Шарни: они были близко знакомы с детства… Вот почему именно с этим человеком – кстати, единственным из всех известных ему, кто держал в руках украденную из Либереи книгу, – пономарь обсуждал поиски пропавшей библиотеки.
Упрямый пономарь предпринял не одну, а целый ряд раскопок в Кремле. С позволения главного управителя Москвы князя Ромодановского он привлекал к археологическим изысканиям солдат-рекрутов. Действовал он столь яростно и упрямо, будто бы знал, ГДЕ искать. Но – НЕ НАШЕЛ.
По крайней мере, по официальным сведениям в городском архиве.
А там… кто знает?
Лично я считаю, что Теодор де Шарни, он же – Федор Шаров, был не просто авантюристом, а – как это часто случалось в ту старинную беспокойную эпоху – являлся членом какого-нибудь тайного общества и, скорее всего, католической инквизиции, у которой всегда находилось много интересов в московских православных землях.
Думаю, этот хитрец ловко водил за нос упрямого Конона Осипова, руками его пытаясь достичь каких-то своих собственных неясных целей… Да, впрочем, что с того?
- Приют
- Дикий пляж
- Нечто
- Льдинка
- Кулинар
- Корень зла
- Медиум
- Кукла
- Дом в овраге
- Кристмас
- Полночь
- Особь
- Нечеловек
- Саркофаг
- Морок пробуждается
- Гример
- Электрик
- Камень
- Химера
- Обиженная
- Взгляд висельника
- Животное
- В моей смерти прошу винить… (сборник)
- Запертая дверь
- Цинковый поцелуй
- Гурман
- Неадекват (сборник)
- Трофики
- Молитва отверженного
- Фрагменты
- Людоед (сборник)
- Зефир в шоколаде
- Пуповина
- Попутчица
- Закопанные
- Двое в лодке (сборник)
- Темная сторона Москвы
- Темная сторона Петербурга
- Донор (сборник)
- Прах
- Бабочка
- Ненужные (сборник)
- Нелюдь
- Татуировка (сборник)
- Дитя подвала
- Хроники несчастных
- Номер 19
- Оцепеневшие
- Закрытый показ