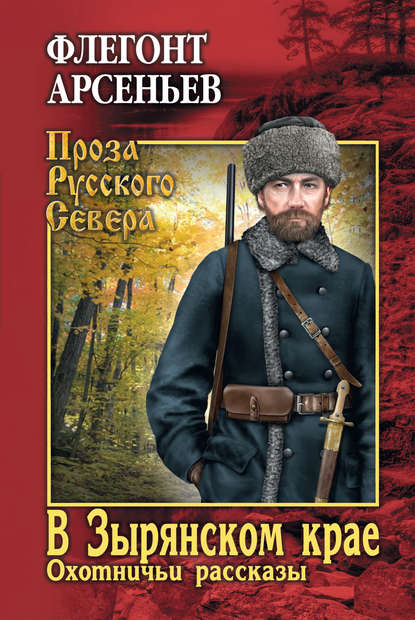000
ОтложитьЧитал
От автора
Мои охотничьи рассказы не есть руководство для молодых начинающих охотников. Я в них не говорю о технической части охоты, не даю советов выбирать ружья, натаскивать собаку, отыскивать дичь и т. п.! Я излагаю в них мои личные впечатления как охотника, как любителя природы во всех ее проявлениях. Я описываю в них с полною искренностью разные случаи на охоте и со мною, и с моими товарищами по профессии, стараясь передавать их именно так, как они происходили, ничего не присочиняя и не прикрашивая. Абрам, выведенный в рассказах моих, есть личность действительно существующая и действующая на охотничьем поприще до сих пор неутомимо.
Выпуская в свет мои охотничьи рассказы, я рассчитываю на читателей преимущественно из кружка охотников. От них одних дорого для меня порицание или одобрение. В долгие зимние вечера, когда завывают снежные вьюги или трещат морозы, когда охота невозможна и душа охотника томится в ожидании весны или лета, возьмите мою книгу, дорогой товарищ, и побеседуйте с нею: она, быть может, развлечет Вас, перенося Ваши мысли то в темные леса нашего дальнего севера, то на широкие воды шекснинских разливов, на эти излюбленные для дичи места, где приволье и простор для охотника господствуют еще и доныне во всей своей силе.
На Шексне
I. Охота пуще неволи
Это было вскоре после успеньего дня. Я заказал Абраму разбудить меня до солнечного восхода, с первыми брызгами света. К охоте все приготовлено было с вечера: ружье вычищено, патроны начинены, попутники: яйца вгустую, сочни, пирожки с свежею капустою, соль в бумажке, фляжка водочки – все это завернуто в салфетку и положено в ягдташ; охотничье платье под руками, около постели, собака накормлена и уложена под кровать; даже двери, в избежание скрипучего завывания, смазаны свечным салом; словом, все начеку, для того чтоб на утренней заре, в самый сладкий спень[1], без шуму и хлопот, не тревожа домашних, встать, одеться и поскорее отправиться на облюбованные места, о которых обсуждено было тоже с вечера. Предположено начать поле с Кершинских росчистей и обойти около полос, засеянных овсом: не попадутся ли тетеревишки: они обыкновенно сдаются в эту пору в яровые хлеба. Потом пройти болотной дорогой и нивами на ручей Вязовик, где предполагалась охота на уток. Оттуда на реку Шуйгу, на Барскую заводь, на Кривоссшя озера и на другие места. Всего предстояло выходить верст двадцать. Впрочем, как усчитать версты охотнику: тут захочется обойти болото, там озеро, инде придется вернуться назад версты полторы, а инде, кружась на одном месте, незаметно выходить версты две, три, отыскивая разбившийся поодиночке тетеревиный или курапатичий выводок.
В три часа утра растолкал меня Абрам от глубокого (что в ожидании охоты, надо оговориться, редкость) и, помнится, очень приятного сна. Мне снилось, что я богат, что у меня много денег и красавица жена.
– А что погода? – спросил я Абрама.
– Да так себе, – отвечал он, – дождичек накрапывает, ветерок.
Я начал одеваться. Армида вылезла из-под кровати, отряхнулась и зевнула заунывным звуком, потом потянулась, пристально посмотрела на меня и, догадавшись, к чему я готовлюсь, начала выражать свою радость вилянием хвоста, прыжками и тихим визгом. Через десять минут мы вышли.
Погода была прескверная, небо заволокло тучами, в воздухе сыро и холодно, ветер какой-то непостоянный: то подует с одной стороны, то с другой. Дождик брызгал вяло, с промежутками, и вовсе не походил на дождик, а на что-то такое, вроде вспрыскивания несколькими каплями, как бы нечаянно оторванными от облаков и заносимыми ветром… Из-за лесу поднималось черное облако и толстым слоем расползалось по небу. Его клочковатая форма и темно-синий цвет стращали серьезным дождем.
– Дрянь – погода! Оттуда будет большой дождик, – сказал я Абраму. – Не воротиться ли домой, да не залечь ли спать? А? Как ты думаешь?
– Что дождик: не сахарные, не растаем. Какова пора – ружья в чехлы уберем, а сами под стог. А не то, пожалуй, и домой. Как сами знаете…
В самом деле, подумал я, не сахарные, не растаем. Отчего же не идти, коли есть еще возможность.
Каждому истинному охотнику понятно чувство, начинающее по-своему беспокоить его с той поры, как он задумал идти на охоту, в особенности же с того часа, когда уже он собрался на нее и вынужден еще пережидать целую ночь до ее начала. Это какое-то особенное, строптивое чувство: его мудрено объяснить. Я, по крайней мере, не берусь подводить его под психические начала, хорошо зная, впрочем, что оно имеет свой особенный характер, что оно тревожно, докучливо, и вместе с тем приятно и доступно только душе охотника. Охотничья страсть начинает разбирать еще с вечера, тут рассчитаешь удачу, даже все меткие выстрелы, весь ход охоты со всеми ее удовольствиями так и рисуется в воображении. Ляжешь пораньше спать, чтобы запастись силами, не тут-то было – сон наступает трудный, бессвязный, его нельзя даже назвать сном, это какой-то полусон: то и дело открываешь глаза. Иногда и никакого сна нет: тревожно ворочаешься с боку на бок, да прислушиваешься, в ожидании желанного времени, к бою стенных часов и считаешь качание маятника. Вот, наконец, дождался, вышел из дому, и что же? – холодно, ветер, дождик, погода скверная, вовсе неудобная для охоты. Планы разрушаются, а не хочется, чтоб они разрушились. Что делать в таком случае? Чтоб не ворочаться, начинаешь природу объяснять по-своему: находить, что холодно потому именно, что еще утро; что солнце еще низко, поднимется повыше – обогреет, что из этих облаков дождика не будет – их пронесет вон туда, ветер затихнет, день должен разгуляться. Словом, какая бы погода ни была, непременно найдется возможность отправиться в поле, если уж собрался. Так уж это бывает с охотниками всегда, так было и с нами в ту пору. Объяснив настоящее состояние погоды в свою пользу и найдя ее в некоторых отношениях даже весьма благоприятною для отыскания дичи, мы нахлобучили фуражки, подхватили ружья замками под мышку, чтобы не замокли, и решительно отправились на места.
Армида бежала впереди шагах в сорока. Она искала довольно усердно, но ничего не могла причуять. Обойдя яровой хлеб и два небольших болотца, мы повернули в некошеные нивы. Погода делалась хуже, ветер дул сильнее, черное облако росло и быстро подвигалось к нам; дождик крупнел.
Нам пришлось идти высоким пыреем. Пожелтевшие листья его и обсоломевшиеся стебли смотрели осенью. Собака забегала. След был горячий. Она быстро бросалась то на ту, то на другую сторону, круто поворачивалась и делала прыжки. Подобный беспокойный иск бывает по увертливой, бегучей дичи: по коростелю или по болотной курочке. Эта дичь чрезвычайно утомляет собаку и портит ее стойку.
– Видно сову по полету: по дергачу ищет проклятая. Армида, назад! назад, Армида! – свирепо закричал Абрам.
– Не трогай ее, братец! «На безрыбье и рак рыба» – убьем хоть дергача, – сказал я Абраму, излаживаясь стрелять.
– Стоить терять заряд на этакую дрянь, если б…
Но не успел он договорить, как коростель, вспугнутый собакою, взлетел из высокой травы и, отвесив неуклюже ноги, торопливо потянул к лесу. Я выстрелил, коростель упал, Армида подала его.
– Ну вот хорошо – начин полю есть, – сказал Абрам уже совсем другим тоном, бережно укладывая коростеля в ягдташ.
– А не сам ли говорил: дичь дрянная, выстрела не стоит?
– Штука-то не в том, а что пуделя по первой не дало – вот это хорошо! На все, батюшка, своя примата есть, вот что!
Между тем дождик становился все сильнее и сильнее. По чрезвычайному шуму с той стороны, где растянулось большое, темное облако, можно было догадываться о скором прибытии ливня.
– Каков дождик лупит. Нас вымочит до последней нитки, надобно бежать вон под тот стог, – сказал я Абраму, вбив последний пыж в ружье и накладывая пистон.
– Управляйтесь скорее, да и побежим, а то и впрямь вымочит.
Стог был саженях в пятидесяти. Мы скоро до него добежали и уселись со стороны, противоположной дождю, натеребив сперва под сиденье побольше сена. Армида поместилась между нами, крепко свернувшись в клубок и прижавшись к стогу. Чрез минуту спустился ливень.
– Эк жарит, точно из ведра! – заметил Абрам, глядя на дождик.
– Да, большой дождик. Хорошо, что мы вовремя убрались.
– А ведь этакой дождик лучше: скорей очистит. Не то что жмычка: сеет себе, как в сито. Уж тогда не жди, чтоб прояснило: ненастье на весь день, а здесь духом все пронесет.
– Да, это правда.
– Бывало, маленькие, – заговорил Абрам голосом воспоминания, – в такой дождик бегаем босиком по лужам да поем:
Дождик, дождик – пуще,
На улице – гуще…
Дождик, дождик, перестань,
На улице – горностай…
Перегрязнился – горя мало. Из луж вон нейдем, пока матка прутом не пугнет.
– Да, мало ли чего не бывало!
Я задумался. Простое воспоминание Абрама навело на меня воспоминания, довольно запутанные и сложные о прошлом. Как хороши беззаботные детские годы! Недаром их называют золотым временем: тогда каждая затея заманчива, каждая игра – радость. После же, когда вступишь в жизнь, сколько чувств и мыслей истратишь понапрасну, сколько обид и оскорблений перенесешь ни за что, какой длинный итог неудач и ошибок накопится из разных отношений с людьми!
И почему это так неловко живется на свете? Немного нам дано времени для жизни, а мы и это-то немногое не умеем прожить удобно и покойно…
Дождик шел. Тучки быстро переносились по небу. С востока прояснялось. Вдали над лесом зачернела какая-то движущаяся точка. Я стал ее наблюдать. Точка все более росла и приближалась; вскоре нетрудно было рассмотреть стадо журавлей, клином тянувших на юго-запад. Они летали на высоте вне ружейного выстрела, тяжело размахивая крыльями.
– Вот и журавли в отлет держат; что-то рано нынешний год: видно, раннюю зиму чувствуют.
– А куда высоко летят. Что, если бы такое ружье, чтоб оттоль спустить? – сказал Абрам, рассматривая стадо журавлей, летевших в это время прямо над нами.
– Пулей можно, кто хорошо стреляет.
– На лету-то?.. пулей-то? да неужто есть такие стрелки?
– Мало ли какие есть стрелки: с лошади, на всем скаку попадают пулей в пятачок.
– Диковинное дело! Таким не мудрость вышибить журавля из эвтова стада.
– А ты бы желал так стрелять?
– Еще бы! Для всякого случая пригодно хорошо стрелять: да вот хоть и для этих приятелей – давно я на них зол! – отвечал Абрам, кивнув головою в ту сторону, куда пролетели журавли.
– А убивал ты их?
– То-то, что нет. Охота смертельная подцепить хоть одного долгоногого, да не счастлив я на эту дичину. Нонече, правда, подходила мне славная линия: зашиб было одного – с полчаса лежал мертвый. Сам виноват, улетел, окаянная сила!..
– Как же это было, что мертвый улетел?
– Да вы не смейтесь, это не шутя было. Вот я вам расскажу. Поехали мы с братом Петром в Сосновцы в ботнике[2] бить тетеревей с подъезду…
– Так это было в полую воду?
– Да, в водополицу. Вода ужас была велика: все гривы отопило. На Оленьей голове только и осталось суши, что сугривочки маленькие. Помните, на них еще зайцев мы с вами по-год гоняли?
– Небольшие, сажен по пятидесяти, узенькие и высокие, похожи на насыпи. Две или три их там?
– Три. Собрались мы в тот раз на ночевку. День ясный такой – солнышко так и парит. На воде тихо, не шелохнет. Но тетеревье худо подпускали; прах их знает отчего – еще где завидят – полетят. Выстрелов двадцать мы в них закатили, убили только трех, да и то с грехом: не по одному разу каждому доставалось…
– Что же так? Напуганы, что ли, были?
– Кому пугать!.. Уж так не запаило: и погода хорошая, и подъезжаешь легохонько, и веслом хоть бы одинова булькнул, а нет, не сидится им, дуй их горой, точно леший их плетью гоняет: летят, да и все тут, хоть тресни! Вот не верь после этого приметам: только вышел в лодку садиться, Митревна навстречу – пырь! Я тут же и подумал: ну, мол, не будет задачи: лукавый ее сунул – опризорит старый хрыч!.. Так и вышло: и тетеревей нашли, и подъезжанье какое славное было, стреляли, стреляли, всего трех убили. А как примаялись-то: просто из сил выбились. Дело пришло к вечеру, мы на ночевку…
– На ночевке и журавль?
– А вот, слушайте, до чего дойдет. Солнышко закатилось чисто. Тишь такая. Мы на большую Сосновицу. Котелок с собой: брат Петря развел огонь и стал гошить кашицу из тетерьки. Со мной была рябчиковая дудка. Дай, мол, я пройдусь вдоль гривы-то: не отзовется ли где рябчик. Пошел и посвистываю себе с перемежкой. Слышу, откликнулся. Я еще, еще откликнулся; я еще – а он ко мне и летит, сел на землю, да круг меня так и бегает, так и топорщится, хвост распустил, как индей, да с-одново так и насвистывает. Изгодилась тут чистовинка; он выбежал на нее и остановился, оглядел меня и стрекочет. А стрелять таково хорошо и близко: я приложился – бац! – промах! Умирать полетел! Какая же досада взяла! Смерял – всего тридцать шагов. Плюнул и изругался – грешный человек! Уж эти мне старые ведьмы: попадутся навстречу – никогда пути не бывает. Пошел назад к огню и давай окуриваться богородской травой…
– Откуда же ты ее взял?
– Запасено было давно: года три, как в аптеке в Ярославле на пятачок купил и кажинный раз с собой брал, пока вся не вышла. Говорят, от призору-то она больно пользительна.
– Окурился, да и за рябчиками?
– Нет, уж было поздно, да к тому же и проголодался сильно, не до рябчиков!.. Сели с братом за кашицу – медовым кушаньем показалась: так напузырились, что на-поди…
– Где же журавль?
– Вы погодите! Вот, думаю, завтра будет утро важное: на сушу слетятся токовать тетеревье, робеть нечего – сделать шалаш в пригодном месте, да и забраться в него на ночевку. В Сосновицах широко, да и лесно; дай поеду на Оленьевские сугривки! Петря остался в Сосновицах, а я нарубил ельнику для шалаша, да и марш – прямо на тот островок, что на котором нива-то, да еще посредине три большие осины. Промеж их сделал я себе важнеющий шалаш и завалился спать. Долго ли, коротко ли я спал, уж не знаю, только ранехонько еще, лишь занялась заря, разбудил меня тетерев: как чувыкает, проклятый, над самым ухом – я так и вскочил. Осмотрел: вижу, сидит на дорожке (от шалаша вдоль гривы шла прямая дорожка) и начал керкать… Керкал, керкал и затоковал, близехонько от меня, сажени с три. Я не бил: зачем, мол, его бить: токовик, может, назовет много. Опять прилег; не сплю, слушаю – не прилетят ли к токовику. Вдруг захлопотало; тетеря… да и угораздил ее прах сесть на мой шалаш. Что тут делать? Боюсь пошевелиться – шалаш низехонный – услышит, улетит… И случись же грех такой: захотелось мне на ту пору чихнуть. Я крепиться… Нет, приспичило, невтерпеж. Я мизинцы в ноздри заткнул наплотно. Не тут-то было: свербит в носу, да и конец делу. Бился, бился, – что ж бы вы могли думать? – ведь не мог утерпеть: чихнул-таки-чихнул, проклятая сила!.. Улетала тетеря. А токовик жаром жарит. Прилетал тетерев, сел на осину – этого срезал, мой! Потом еще тетеря, на осину же; тоже моя. Вдруг, откуда ни возьмись, два журавля – бух к самому шалашу: один за осину – не видать; другой на дорожку – весь начиста! В ту пору со мной были два ружья: мое да ваше персидское, с бочонком, что казна в серебре. Ружье харчистое, бьет славно. Дай, думаю, цапну из этого смертодава. Приложился верно, да и что тут не верно: целая мостина сажен в двенадцать – чему тут быть, разражу, думаю. Бац! пал жаравь. Другой побегал. Потом воротился назад и начал летать вокруг, а сам кричит в одну душу! Самец, должно быть. Раз пять облетел вокруг гривы и потянул к Сосновицам. Токовик мой не слетел: знай себе наяривает, только отдался от шалаша-то подальше. Я высматриваю, как бы мне и его убить. Нельзя, за кустом пришелся, чуть видно – чернеет… Жаравь трепещется. Начал вставать, а силы-то нет: встанет, да падет, встанет, да падет… Бился, бился – поднялся кое-как на одну ногу, стоит, ощипывается своим долгим-то носом. Тем временем тетерев выбрался на дорожку. Я из Персидского же, поминовав жаравля, бац в тетерева, – перевернулся! А того, проклятого, вдруг как будто кто сзади-то кнутом дернул: замахал, замахал крыльями, да и поднялся, да и полетел и полетел… только я его и видал. Я так и остолбенел: ну, мол, оказия!.. не даровое это! нечисто!
– Уж не леший ли, по-твоему, был журавль?
– Грешник, что таить: этак и подумал…
– Так и улетел?
– И улетел!
– Досадно было?
– Как же не досадно? Дело-то вышло диковинное, небывалое. Сами посудите – сколько времени лежал чуть жив и улетел! Ну, хоть бы я стрелял его далеко, ранил, а то близехонько – и из какого ружья!.. Ведь тетерева-то я убил шагов в семьдесят – не совстрепенулся!
– Что же зевал? Ну, другой бы раз в него.
– Не чаял я в проклятом такой совести, а то где бы не хватить? Невдомек дураку, что крылья целы: где, мол, улетит – мой, да и все тут! Да и бежать некуда. Уж такая оплошка.
– Дрянь дело, Абрам, часто случаются с тобой такие оплошки.
– Ну, случись в другой раз – не дам маха. С неделю или с полторы после этова сидел я в шалаше на току у озера. Перед солнечным восходом густой туман сделался: так и стелется по озеру. Вот в тумане и вижу, что-то шагает большое такое. Знатно, думаю, жаравь… Попался же проклятый! Я из одного ствола – бац! Пал, потом справился и ну бежать. Я из другова – свалился. Подхожу брать: что за чудо? Такой диковинный птицы отродясь не видывал: жаравь не жаравь, цапля не цапля, вся искрасна, словно ржавчиной покрыта, носина большущий и долгоногая, а на грудине борода. Принес домой – говорят – зыпь какая-то.
– Какая зыпь! Выпь разве?
– Выпь, что ли, кто ее знает. Такая чудная птица. Степан Иваныч говорит: зажарьте – есть стану, самое скусное мясо. Стали потрошить, а в ней ящерицы, лягушки и всякая гадина. Нашу Федору с души смутило. Так и бросили.
– Так незадача тебе на журавлей.
– Да, не задается. Но чтобы нарочно за ними ходить – я ведь не хаживал. Сами знаете, у нас их малость, да и охота-то трудна больно за ними: сторожки, проклятые, никаким манером подобраться нельзя. Вот в романовском уезде, под Никольском, в осеннее время их тьма-тмущая; примени – овец. Место эдакое широкое, плоское, они и стануют тут. Романовские охотники давно точат на них зубы, да тоже ничего не могут поделать. Раз как-то человек десять ездило, и Федор Павлыч тут же, и ружья у кого картечами, у кого пулей заряжены были; да плохо – ни одного не убили.
– Что же? Не допускали, что ли?
– Говорит, не допускали. А и то сказать, кто их знает, может, плохо стреляли, Федор Павлыч перед тем, как ехать в поле, для пробы стрелял пулей в мету. Мета-то сделана была на овине; он не то чтобы в мету, и в овин-то не попал. Ему и говорят: где тебе убить журавля – в овин не мог попасть! Хоть и барин, а пришло же на него такое затмение, что он на это отвечал…
– Что отвечал?
– Вот, говорит, что сказали: овин-то один, а журавлей-то много! Все так и покатились! Что смеху было!
– Вот как. Неужели, по-твоему, нет возможности стрелять журавлей?
– Можно, да осторожно! А ловко придется, так где же не убить. Вот Васька кузнец дробью за один раз пару убил. А бушинский доезжачий какую штуку мне сказывал: был, говорит, я на охоте. Вот и вижу, говорит, пара журавлей ходит в кустах, в ракитнике. Я и начал, говорит, около их кружить, да все с кажинным разом к ним ближе да ближе. Знаете, винтом эдаким ездил. А они ничего, говорит, сидят себе да посматривают. А лошадь-то, говорит, удалая. Вот как больно-то близко подъехал к ним, да как толкну, говорит, лошадь изо всех сил прямо на них… Они летать, а, вишь, сразу-то подняться не могут, с разбегу все, я, говорит, одного левой рукой подхватил за крыло, а другого захлестнул арапником.
– Ну, брат, это не любо не слушай, лгать не мешай.
– Божится; правда, говорит.
– Не всему верь. Наскажут тебe турусы на колесах. Однако ж, пойдем-ка, дождик перестал: нечего тратить золотое время. Армида, вставай! Заспалась.
Погода разгулялась. Облака с дождем протащило к западу. Стихло. Лишь изредка слышен быль легкий трепет листьев березы и всегда живой осины. Поднялось солнце и на умывшуюся дождем природу бросило ярые лучи из-за лесу, а на противоположной ему стороне загоралась радуга самыми отчетливыми и резкими цветами. Длинные тени от высоких дерев полосами легли по сенокосному пространству, и на листочках растений, как алмазные блестки, заиграли дождевые капли. Весело смотреть на природу после ненастья: на душе делается свободнее, легче, чувствуешь себя крепче и здоровее, какая-то особенная благодать распространяется в воздухе и чем-то добрым, неизъяснимо прекрасным действует эта благодать на человека.
– Вот как погодка-то разгулялась! Сегодня день славный будет, солнценён, мешкать нечего, пойдемте-ка пошибче, на хорошие места придем скорей.
– Пойдем, пойдем поскорей, прибавляй шагу, – отвечал я на слова Абрама, который и без того с необыкновенным рвением торопился на заветные места.
Мы перешли Раминскую чащиницу, потом болотной дорогой перебрались через окольшину и углубились в нивы. Они почти все были скошены: некошеных оставалось очень мало, да и те с реденькой, посохшей и пожелтевшей от жаров травой. Негде тут прятаться ни молодому тетереву, ни даже коростелю. Так прошли мы нив десять. Абрам, который вообще молчать не любил, начал разговор.
– Походили мои ноженьки осенесь по этим нивам. Вдоль и поперек их изведал, и все-то по ночами.
– Чего же ты искал по ночами?
– А за земляными все ходили. Отужинаем, мужики спать, а я свистну Злобному да Проворку – и марш за земляными. Целые ночи прохаживали, таки вплоть от зари до зари, устатку не знавали. Вот оно что охота-то значит.
– Ну, тут не одна охота – и прибыль есть.
– Есть и прибыль: рублев десятка на два наохотничал, на нуждишку.
– Невесела эта охота, – сказал я.
– Кому как, а мне весело и за земляными ходить. Вот, видите эту большую дуплистую иву, что промеж двух берез-то; поди этой ивой, по рази, нашел я хоря: помучил же он меня проклятый.
– Как помучили?
– Да так, задали надзолу: всю ноченьку за ними промаялся – насилу взяли. В тот день за работой что ли долго провозился, задержало ли что, теперь не помню, только больно поздно вышел я на охоту. Ружье с собой взято было. Не успел я свернуть в эти нивы, Злобный залаял по земляному, слышу, и проворно подоспели, себе стоном стонут. Я к ним на голос, да все в пробег. Темень такая, только и свету, что от звезды да от месяца, и то не постоянный были свети: облака тащились, застилало, бесперечь спотыкаюсь за кочки да падаю. Подбегаю. Собаки вони у той ивы, что давя показывали; корень такой раскидистый у ней, растет на большом коблюху. Вижу – мои собаки горячатся, так и рвут коренья. Хорь зверь вонючий: жарко чуют. Вот разрубил я в коблюхе большую дыру. Злобный в нее весь залез, визгом визжит там, – видно, близко заслышал. Проворко обострожился, смотрит, не выскочит ли где земляной. Славная была собака этот Проворко, с соображением. Так, ни за что довели ее у меня. Уж как жалко было. Хорошая собака для меня пуще Бог знает чего. Ну вот, хорошо. Начал я в коблюх палкой тыкать то с той, то с другой стороны – нет, затаился проклятый, даже не отзовется. Иной раз сейчас же застрекочет, точно скажется, что вот, мол, я здесь. Тут же возился, возился – ничего нет. Давай опять рубить коблюх; везде понаделал дыр – хоть человек полезай, не то что собака: нет пути, ничего не слышно. А собаки не отстают: возятся около коблюха, лают, визжат, грызут коренья, да и конец делу. Что за чудо! Вот начал я опять рубить, целого места не оставил, весь коблюх разворотил, не только хорьку, мыше бы негде усидеть. Нет ничего. Ума не приложу, где затаился. Часа три так дармя промучился. Неужто собаки облаялись? Плюнул, заткнул топор за пояс, взял ружье и хотел уж прочь идти. Вдруг Злобный как завизжит благим матом и, слышу, хорь застрекотал. А, думаю, вот поймал. Подбегаю. Покинь, покинь! – кричу. Hет, обмишурился, не тут-то было. Собаки царапают лапами да грызут самый корень-то у ивы. Уж тут веселее стало водиться: узнал, что недаром – хорь есть. Подсунул палку под корень, а в иве-то, в стволе, было дупло большое. Он, проклятый, дуй его горой, со страсти и забился туды натуго. Никаким манером ни взад, ни вперед: сидит себе как в печурке. Еще одна минуточка, так бы и просидел, спасся бы окаянный. Совсем прочь хотел идти, уж было и собак стал откликать, да Злобный потянул, видно, его за зад, он и отозвался. Как теперь быть, как его достать оттоль. Думал, думал: дай, вытащу рукой за хвост, брошу собакам – и дело с концом. А голой-то рукой взять боюсь: он зубом такой едовой, больно может укусить. Со мной уж было по раз: извился как змея, да так вцепился в рукав, – насилу мог оторвать. Вот, надел я рукавицу, ощупал дупло, так руку-то не могу просунуть, и собаки-то никак не могут забить морду подальше, чтобы к нему-то подобраться, по той причине, что все толстые корни, ну и не допущают. Прибились они сердечные, – в грош: все грызли да рыли. Проворко до того уморился, что уж лег оподля каблюха. Разрубил я еще корни – рука пролезла, я схватил хоря за зад, тащу, а он упирается, цывкает; собаки вслушались, бросились опять к каблюху, обострожились. Выбросил я его: «Проворко, Злобный! вото! возьми, возьми!» Собаки засовались, стали хватать… прах ведает, как прометались, ускользнул! Такая напасть! Чего уж, в руках был, да и тут… Ну да и то сказать, темно было, хоть глаз выколи: время близилось к полуночи, месяц закатился, а от лесу-то мрак такой!.. Вот начали собаки разыскивать. Долго таково нюхрили: то в коблюх сунутся, то опять назад, то в кочку. Такая кочка тут была; видно, и тут надушил. Нюхрили, нюхрили, – попали на след и бросились с лаем, с визгом: знамо дело, по горячему следу гонят и по хорю, как по зайцу. Повели собаки, да все болотом-то, ольшиной-то. Я вслед за собаками, чтоб без меня не задавили. Задавят – покинут, – что толку, впрок не пойдет. А тут такое место гадкое: кочки, кубринник, хлал; бежать неспособно, да и ночь-то глухая: спотыкаюсь, падаю, наказанье да и только; а все охота!.. слышу, мои собаки повели на берег. Славно, думаю, хоть из болота-то выберусь. Нива случилась; с нивы на берег дорога, я по ней. Вот, выбежал к реке. Что за чудо! Уж собаки на той стороне, так стоном и стонут на одном месте: либо хорь опять забрался в коблюх, либо в берег, в трещину. Это часто бывает. Что делать? Шексна вчера только что встала, лед ненадежный. Да и ночь-то – зги не видно. Ну, как в полынью юркнет? А охота так и подмывает, так и подталкивает… Ох, охота, охота! Взяло меня раздумье. А собаки-то там рвут и мечут, рвут и мечут! Ну, думаю, была не была: где суждено умереть, того места не обойдешь, не объедешь. Сотворил молитву, перекрестился – угодник божий, Никола Чудотворец, спаси!.. Спустился ко льду, попробовал топором у берега – крепок. Я и рассудил: собаки, мол, бежали вместе, две-то будут против одного меня: их подняло, так авось и я не провалюсь. Опять перекрестился, простился с батюшкой, с матушкой, со всем белым светом и побежал на ту сторону. Лед трещать, я бежать; лед трещать, я бежать! Так и гнется, так и визжит под ногами, а не проламывается: осенний лед не то, что вешний – прочнее. Перебежал благополучно. Чья-то молитва до Бога дошла? Вот оно что значит вдаться человеку в охоту: всякое рассужденье потеряет, совсем без ума. Ну, черт ли совал в такую пропасть из-за хорька? Сгиб бы ни за что и искать было бы негде. Выбежал я в гору. Не слышно моих собак, смолкли. Опять досадно: видно, задавили, пропадет хорь. Вот, слышу, что-то в кусточке, близехонько, шевелится. Я туда. Ко мне навстречу Проворко. Смотрю, где Злобный? Нет его. Я сметил делом-то, да в кусточек. Вглядываюсь, а Злобный стоит у пня да что-то лижет. А это он хоря. Оне без меня его обработали. Вижу, лежит задавленный около пня, окочурился. Ну, вот и ладно, без хлопот; шкурка, кажись, цела, не попорчена. Оне у меня такие собаки вежливые: не истреплют, не изорвут. Уж назад побоялся ночью через реку, проходил до утра по той стороне, еще взял одного хоря, а на заре убил тетерева польника. Славная была заря: тишь, туман такой, мороз. Вылет тетеревей был большой, можно бы поохотиться еще, да уж мне не до того было: всю ноченьку проходил, устал, ко сну так и клонит. Нашел большой шест – оно с шестом-то по льду безопаснее – и насупротив дома хорошохонько перебрался на свою сторону.
– Хороши хорьки были?
– Один, первый-то, знатный, чистый хорь был, до последней шерстинки весь выкунел. Ну а другой-то не так чтобы.
– Что, из окружных-то деревень ходят сюда за хорьками?
– Где же не ходить, ходят. Только на нашей-то стороне чужим не позволяем: народец ведь бархатный – обчистят все, хоть шаром покати. Собаки же у них добрые, время праздное.
– Смотри, Абрам – ведь глухарка?
– Глухарка и то с молодыми, должно быть. Выводок. Где Армида-то?.. Вон она где. Смотрите, смотрите – причуяла, запекала.
Пока Абрам рассказывал о своих подвигах за хорьками, мы шли местами самыми пустыми, где решительно нельзя и подумать отыскать какую-либо дичь. В скошенных нивах не могло меститься ничего; в лесу, в котором начищены эти нивы, хоть и держались черныши и вальдшнепы, но ходить в нем не было возможности: с левой стороны ужаснейшая крепь из перепутавшейся между собой молодой поросли липняка, дуба, вяза, черемхи, шиповника и других деревьев лиственной породы; с правой же глухое болото с кочками, с трясинами, полное воды и хламу, где черт ногу переломит и куда, по этой причине, собака не смела даже и сунуться. Ружья были за плечами, Армида рыскала свободно, и мы шли тем скорым шагом, тою нетерпеливою походкою, какая обыкновенно бывает у охотников, напрямик идущих на места, на которых думалось добычливо поохотиться. Поэтому нас обоих поразило, когда нежданно-негаданно, сама по себе, вдруг поднялась глухарка с места, вовсе несоответственного этой породе дичи, и пересела на другую сторону нивы, в кусте мелкого осинника.
– Вы пойдете за собакой, а я тетерю-то ударю: подберусь краем, лесом-то. Я приметил, она cелa в полдерева, вон на ту сухую осину, – проговорил торопливо Абрам. – Не перерядить ли ружье? Мелкой дробью заряжено.
– Когда тут переряжать, близко подберешься – убьешь и этой.
Мы подошли к тому месту, с которого поднялась глухарка. Тут нива как-то уцелела от покоса, и высокая осока, быльник и красивый папоротник густо разрослись в мелком кустарнике. От влажности почвы солнце на этом месте не высушило травы – сочная и зеленая, она достигла здесь очень большого роста, так что почти совсем скрывала собаку. Абрам отправился к тетерке, а я остался с Армидой. Она запекала. По всем ее движениям, по внимательному иску, крутым поворотам, наконец, по измятой и перепутанной траве можно было безошибочно заключить, что тут бродил выводок. Вот собака подняла морду, сильно потянула в себя воздух и медленно, шаг за шагом, начала подвигаться вперед; уши немного приподнялись, хвост выпрямился, в глазах напряженное внимание – дичь близка. Вот переступила она еще три, четыре раза, выровнялась и остановилась. Блаженная минута для охотника! Люблю я видеть собаку на глубокой, твердой стойке, когда она, вся вытянувшись, приподняв немного правую переднюю ногу, стоит как вкопанная, замрет, как говорится, над дичью. Ни за что не продам я этой минуты! С готовым ружьем, изловчившись как следует, в полном настроении страстного охотника – нетерпеливо стоишь за собакою; а сердце между тем бьет тревогу, и ждешь не дождешься – что-то взлетит. Думаешь – дупель, думаешь – бекас. Да как-то он потянет? Да не сделать бы промаха? На этот раз я думал: а как-то велики молодые тетерева. Глухари в августе должны быть уж очень большие. Много ли их? Не поднялись бы все вместе.
- Миледи Ротман
- Вокруг да около (сборник)
- Северный крест
- Бедные дворяне
- В краю непуганых птиц (сборник)
- Берег мой ласковый
- Поселение
- Осударева дорога (сборник)
- Ленты Мёбиуса
- Вологодские заговорщики
- В Зырянском крае. Охотничьи рассказы
- Трава-мурава
- Охота на убитого соболя
- Посох вечного странника
- Одиночное плавание
- Позови меня, Ветлуга
- Дома не моего детства
- Росяной хлебушек
- Путешествие в решете