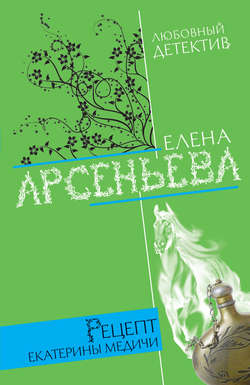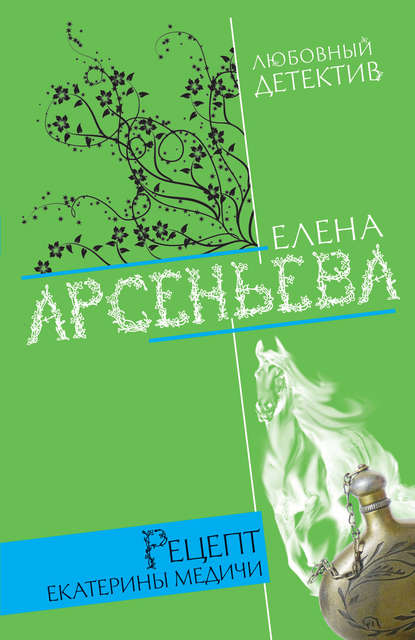Крокодилы пытались нырнуть в Шпрее, но их вовремя поймали и застрелили.
«Берлинский дневник» Васильчикова М.
История, как известно, только всеми принятый вымысел.
Стендаль
– Конечно, то, что здесь у нас нет виселиц, упущение. Во всякой цивилизованной стране…
– Вы, кажется, забыли, мой бригаденфюрер, что рейх – не всякая страна, а государство избранных!
– Смотрите-ка на него! Он еще и зубоскалит!
– Вот и еще одно упущение: и виселиц у вас нет, и зубы у меня целы…
– Ох, Меркурий, вы нарываетесь на неприятности. Неужели вам будет легче, если перед смертью – а ваша смерть будет мучительной, поверьте! – вам еще и зубы вышибут?
– Только прикажите, мой бригаденфюрер…
– Оставьте, Клаус! Ну что вы можете? Раскровенить ему рот ударом кулака и запачкать помещение? Быстро, грубо и грязно. Никакой эстетики. Я еще понимаю, если бы здесь оказался дантист с набором инструментов, который сначала вдумчиво рассверливал бы ему зубки бормашиной, а потом по одному выламывал бы остатки и вынимал нервы этаким железным крючочком… Что, Меркурий? Вы замолчали? Вам больше не хочется шутить?
– Сознаюсь – нет. Я наконец-то понял, что смерть – событие настолько серьезное, что встречать его следует в торжественном молчании.
– Тем более – свою собственную смерть. Вернее, вашу смерть, Меркурий. Хотите, я расскажу, что, собственно, вас ждет через полчаса? Кстати, именно лимит времени не позволяет мне сейчас дать приказ Клаусу вызвать какого-нибудь дантиста, знающего толк в пыточном ремесле. Вы начнете встречать свою кончину ровно в 17.30 и ни минутой позже…
– Кажется, я начинаю благословлять нашу пресловутую германскую педантичность.
– Вы меня перебили, Меркурий.
– Прошу прощения.
– Так и быть, прощаю. Я только хотел сказать, что встречать свою кончину вы начнете в 17.30, а закончите спустя двадцать минут – в лучшем случае. А то и через полчаса. Так что погодите хвалить эту самую педантичность. Как бы вам не пришлось ее проклинать. Молчите, Меркурий? Ну скажите хоть что-нибудь! Не желаете? Тогда скажу я. Как вам известно, обычную казнь путем отсечения головы сочли для вас чрезмерно милосердной, и вы приговорены к повешению. Но поскольку виселиц в Германии нет, то их заменяют вот эти крюки. Взгляните-ка наверх, Меркурий. Видите, они ввинчены в потолок?
– Они очень напоминают мне те крюки, на которые мясники в своих лавках подвешивают освежеванные туши.
– Вот-вот. Скоро вы будете болтаться на одном из этих крюков, именно что подобно мясной туше, пусть и не освежеванной. Вон тот господин – это ваш палач. Присмотритесь к нему повнимательней, ведь его лицо будет последним, что вы увидите в этой жизни. Так вот, он наденет вам на шею петлю. Однако не веревочную. По приказу нашего фюрера мы заменили веревку фортепианной струной, чтобы вы и вам подобные умирали не от перелома шейных позвонков, а от медленного удушения. Вы будете биться и дергаться, повторяю, от двадцати минут до получаса, а мы будем наблюдать вашу агонию. Если у кого-то сдадут нервы, он сможет подкрепиться коньяком. Кстати, Клаус, а где коньяк? Опять забыли? Ну, это не дело! Сходите за ним. Может быть, мы предложим Меркурию глоточек… последний глоточек радости в этой жизни. Но я продолжу. Видите, по углам стоят софиты? Когда начнется представление, их включат: ведь ваша казнь будет сниматься на пленку. Потом пленку доставят в ставку фюрера, чтобы он немножко поразвлекся. Кстати, такие фильмы и впрямь доставляют ему массу удовольствия. И он очень гневался, когда узнал, что один из кинооператоров сошел с ума во время казни. «Как этот слабонервный хлюпик умудрился проскочить мимо расового отдела? – кричал фюрер. – Наверняка у него иудейские корни…»
– А кстати, герр бригаденфюрер, уж вам-то лучше, чем мне, должно быть известно, что Лукас Гаурико, из-за которого заварилась вся эта каша, был иудеем и, значит, ни за что не проскочил бы мимо вашего расового отдела.
– Да бросьте, Меркурий. Ну что вы, право, брызжете ядом, словно издыхающий кентавр Несс? С чего вы взяли, что Гаурико был иудеем? Прочли в какой-нибудь жидовской книжонке? Им дай волю, они чего только не напишут! И Христос у них иудей, и все апостолы, и Гаурико, и Нострадамус, само собой разумеется… Нет уж, не бывать тому! Влюбом случае я вполне присоединяюсь к высказыванию геноссе Геринга: «Я сам решаю, кто здесь еврей!» Я не верю ни одному слову, написанному в Библии, понятно? И она, и Новый Завет – не более чем апокрифы, измышленные сим пронырливым племенем, которое умудрилось захватить в свои руки первоисточники. Мне даже случалось читать какой-то бред на тему, будто сама звезда Давида представляет собой символ извечного соединения мужского и женского начал, которое является краеугольным камнем всей человеческой философии и основой всех отношений между людьми. Эти, в пейсах и ермолках, очень бойко елозят своими перышками по бумаге! Мне жаль, что вы решили отдать за них жизнь. Чем они вас взяли? Вас, истинного арийца, человека такого ума, такой силы духа… Вспомните, сколько вы перенесли испытаний! Вам давался шанс исправить ошибки молодости. Вы могли бы стать великим человеком в рейхе, если бы только захотели. Чем они вас подкупили?
– Вы будете смеяться, герр бригаденфюрер. Меня никто не подкупал. Мне вообще наплевать на евреев. Но антифашизм рождается из отрицания нацизма, а значит, из отрицания антисемитизма, хотите вы этого или нет. Нельзя быть одновременно нацистом и христианином!
– А зачем вообще быть христианином, Меркурий? Главное – думать о величии своей державы… Вы напоминаете мне глупого юнца, получившего огромное наследство и бездарно промотавшего его на дешевых шлюх. Вы ради племени предателей и сами совершили предательство, уподобившись Иуде. То, что вы получаете теперь, совершенно заслуженно. И если употребить библейские аналогии, то получается, что вас, как нечестивого Олоферна, предала на смерть бесстрашная Юдифь… Но довольно болтать. Вон идет Клаус с коньяком. Я не предлагаю вам выпить – уже и операторы подоспели, и главный прокурор входит… Еще донесут, что я чрезмерно любезен со смертником! Так что… прощайте, Меркурий. Что ж, meine Herren, можете приступать.
– Падайте, фрейлейн! Падайте!
Сильнейший толчок в спину – и Марика летит вперед. Едва успевает выставить руки, не то грянулась бы лицом в рыже-белые обломки кирпича и известки. Какая-то тяжесть наваливается сверху. Вдобавок что-то страшно воет, грохочет совсем рядом, и эти кошмарные звуки приближаются, наваливаются, оглушая, выматывая нервы душераздирающим визгом. И вот разрыв! Марика утыкается в сгиб руки, ладонью другой бессильно шарит по голове, пытаясь прикрыть макушку. Первое ощущение – накрыло прямым попаданием в ближайший дом. И дыхание спирает, и глаза лезут из орбит, и пронзительный крик – даже не верится, что это она, Марика Вяземская, может кричать таким истошным заячьим криком! – рвется из груди, и сверху кто-то задавленно хрипит и содрогается. Мелькает мысль, что человек, сбивший ее с ног и прикрывший своим телом, убит и теперь бьется в последних конвульсиях, испуская предсмертный хрип. Молниеносное воспоминание из вчерашнего дня: Марика идет мимо развалин, возникших на месте какого-то отеля, а может быть, жилого дома (теперь в Берлине все смешалось, очертаний знакомых улиц не узнать, иной раз остановишься в отчаянии, заблудишься среди скелетов зданий и огромных груд битого кирпича!), пожарные и полицейские толпятся кругом, из-под каменных обломков доносится мучительный стон:
– Wenn ich nur Bewustlos wäre! Если бы я только был без сознания!
«Wenn ich nur Bewustlos wäre!» – думает сейчас Марика. Ощущение, что на ней лежит труп, даже страшнее мысли о собственной смерти.
Но вот постепенно до нее доходит, что и она еще жива, и жив этот человек, придавивший ее всей своей тяжестью к земле. И немедленно становится легче дышать, потому что он проворно поднимается и хватает Марику за плечи:
– Вставайте, фрейлейн! Бежим! Сейчас снова налетят!
Ничего не видя в клубах пыли, она кое-как встает на ноги, кое-как начинает переставлять их. Человек берет ее за руку и тащит за собой. Он бежит очень быстро, совсем не обращая внимания на то, что Марика еле поспевает за ним и только чудом не падает. Снова нечем дышать… запах гари, пыли, запах газа… Из-за черно-красно-белесой завесы, заслонившей мир, раздается чей-то срывающийся крик:
– Скорей же, господа! Я сейчас закрою дверь!
Человек, который тащит Марику, делает такое резкое движение, что на миг ей кажется, будто он решил оторвать ей руку, и в следующее мгновение она влетает в некую глухую тьму. Под ногами ступеньки, с которых она не падает только чудом… Еще кто-то, успевший спастись в последнюю минуту, прошмыгивает мимо, какой-то очень высокий человек, а потом наверху раздается тяжелое железное лязганье, как если бы закрыли очень тяжелую дверь и вдобавок задвинули огромный засов. И воцаряется тишина, и нет уже больше дымной, газовой вони, вокруг сырой холод, который воспаленным ноздрям Марики кажется чище самого чистого лесного воздуха… Июньскими вечерами на Унтер-ден-Линден нежно, сладко пахло медом… Когда это было? Да было ли вообще когда-нибудь?!
– Отряхнитесь, фрейлейн, – слышен рядом насмешливый голос. – На вас страшно смотреть.
– Ну и не смотрите, если так уж страшно, – бормочет Марика, делая нелепые движения руками перед собой. Она изо всех сил пытается отряхнуть плащ и волосы, но руки пока не слушаются. – И вообще, что вы можете видеть, когда тут тьма непроглядная?
Ну, не столь уж и непроглядная. Просто незнакомец быстрее освоился с окружающим полумраком, однако теперь и воспаленные глаза Марики начинают различать смутные очертания стен, людей, каких-то вещей. Кажется, они на станции метро – на одной из многочисленных берлинских станций, превращенных с некоторых пор в бомбоубежища. Темнота слабо рассеивается свечами и маленькими синеватыми фонариками, какими обзавелись берлинцы с тех пор, как погасли все уличные фонари. Кто-то читает, кто-то дремлет, кто-то тихо молится… Вот двое играют в шахматы, ребенок пытается завести юлу, очень высокий худой мужчина сосредоточенно отряхивает коротковатый и слишком широкий ему плащ, наверное, с чужого плеча. А, кажется, этот человек вбежал в убежище вслед за Марикой. Как хорошо, что он спасся! Как хорошо, что спаслись все эти люди! Дай Бог, чтобы метро оказалось надежным укрытием…
В каких только убежищах не побывала Марика за последнее время, что живет в Берлине! На прошлой неделе полицейский поймал ее в самом начале тревоги и силой втолкнул в тесное, узкое помещение, все опутанное трубами с горячей водой. Наверное, это была котельная. От одного взгляда на трубы становилось страшно: ведь в случае попадания бомбы все здесь были обречены свариться заживо! Марика тогда вспомнила судьбу одного дома на Харденбергштрассе, неподалеку от того, где она сама снимала квартиру: бомба упала рядом с домом, и от ударной волны лопнули трубы в подвале, куда спустились жильцы в поисках спасения. Все утонули, хотя квартиры их остались в целости и сохранности, только стекла вылетели.
В метро все же лучше, чем в подвале или в котельной.
Марика оглядывается. Кое-где на платформе видны низенькие, в половину человеческого роста, стены: кто-то из ее знакомых говорил, будто их возвели на некоторых станциях метро для того, чтобы перекрыть путь воздушной волне.
– Неуютное местечко! – раздается рядом все тот же насмешливый голос. Его обладатель и закрывал Марику собой от осколков камня, потом тащил ее в убежище…
Марика поворачивает голову и смотрит на незнакомца. Он не слишком высок – а впрочем, это только с точки зрения Марики, которая выше ростом, чем большинство знакомых ей девушек и молодых людей. Кому-то это нравится, кому-то нет, кто-то сплетничает, что напрасно Марика Вяземски (так произносят ее трудную русскую фамилию немцы) кичится своим аристократическим происхождением: истинные аристократки должны быть изящны, миниатюрны, а она… Ну да, она высокая. Как это говорили ее русские предки? Верста коломенская! Интересно, нравятся высокие девушки этому господину в пыльной серой шляпе и мятом сером макинтоше, туго-натуго перетянутом поясом, словно щеголеватый летчицкий комби друга Марики, знаменитого пилота Бальдра фон Сакса? У незнакомца такая же тонкая талия, как у субтильного Бальдра, хотя в плечах он гораздо шире. Марика видит бледное лицо с узким ртом, прямым носом, над которым углом сошлись брови, и мерцающими глазами. Цвет их сейчас не различить, конечно, но можно не сомневаться, что мерцают они насмешливо, никак иначе! Сколько ему может быть лет? Тридцать, сорок? Про таких говорят: неопределенного возраста, без особых примет. Конечно, с одного взгляда ясно, что расовый отдел он пройдет с гордо поднятой головой, а все же ничего в нем нет особенного, что бы позволяло ему разговаривать с незнакомой девушкой с такой оскорбительной снисходительностью!
Внезапно длинные брови этого человека изгибаются забавными уголками. Похоже, он чем-то изумлен.
– Фрейлейн Марика? – восклицает он. – А я-то не понимал, почему не мог справиться с искушением и не спасти жизнь очаровательной барышне! При моем-то вопиющем эгоизме… Оказывается, я просто хочу, чтобы вы как можно дольше входили в число моих знакомых. Как видите, именно эгоизм – движущая сила моего альтруизма!
Вообще говоря, у Марики великолепное чувство юмора. Это признают все ее приятели и подруги, однако, во-первых, она этого человека совершенно не помнит, а во-вторых, иронические интонации его голоса успели надоесть. Что в ней такого, что так веселит ее спасителя? А вдруг… а вдруг он успел заметить, что на ней нет чулок? Вот именно, что нет – голые ноги искусно разрисованы в мелкую сеточку особой краской, которую где-то, на каком-то военном складе, раздобыл Марике и ее подруге Урсуле все тот же Бальдр фон Сакс. Урсула и Марика чуть не сутки трудились, раскрашивая друг дружке ноги и подбадривая себя смехом: мол, во всяком плохом есть свое хорошее, в данном случае хотя бы то, что шов нарисованных «чулок» никогда не сползет в сторону! Бальдр предлагал свою помощь в разрисовывании двух пар «самых стройных ножек на свете», но подруги со смехом выставили его за дверь, наградив, впрочем, признательными поцелуями. Все-таки женщина без чулок и женщина в чулках – это совершенно разные женщины! Ходят слухи, будто английский парламент принял специальное постановление, разрешающее дамам в связи с трудностями военного времени появляться в публичных местах без чулок. Но рейхстаг такого постановления еще не принял, поэтому каждая берлинка изворачивается как может. По талонам почему-то выдают такие толстые нитяные чулки, что носить их впору только старухам, да и то – зимой. Конечно, на черном рынке шелковые чулки можно достать, как и все остальное, но жалованье у Марики не столь велико, чтобы позволить себе покупать чулки на черном рынке. Они же рвутся чуть не каждый день! То есть одна пара у нее все-таки есть, но она ее бережет на случай холодов. А пока еще тепло, можно походить и в нарисованных чулках. Кажется, этой краской что-то там красят в самолетах, поэтому она несмываемая. Очень забавное ощущение: днем и ночью ты в чулках! Конечно, ноги нужно очень старательно брить, но это уже такие тонкости, о которых мужчины даже подозревать не должны. Однако… однако неужели этот незнакомец и впрямь заметил, что у Марики ноги разрисованы, словно у какого-нибудь индейца из романов Фенимора Купера? Марика, правда, не может припомнить, разрисовывали ли индейцы ноги, но это не суть важно. Итак, незнакомец все же заметил отсутствие чулок и теперь смеется над ней! Но откуда он знает ее имя?
– Вот что, фрейлейн Марика, – решительно говорит незнакомец. – Пойдемте-ка вон туда…
Он машет рукой в сторону какого-то совсем уж темного угла в самом дальнем конце платформы.
– А что мы там будем делать? – артачится Марика, которая ужасно устала, не хочет никуда идти, тем более в эту темноту, а хочет посидеть, просто посидеть – пусть даже на голой и грязной платформе.
– Все, что вы пожелаете, милая барышня, – усмехается незнакомец с каким-то особенным лукавством, и Марика хмурится: право, не зря ходят слухи, будто очень многие мужчины становятся в бомбоубежищах как-то особенно развязны, отпускают всякие скабрезности и недвусмысленно склоняют девушек к разным вольностям, а то и непристойностям: якобы все равно пропадать, так зачем беречь то, что они берегут? – Все, что вам будет благоугодно! А прежде всего – попытаемся максимально обезопасить себя. Я сейчас пытаюсь вспомнить наземный, так сказать, мир, и сдается мне, что почти над нами находится какое-то здание. То ли ресторан, то ли жилой дом. А вон там, в конце платформы, расположен второй выход из метро, там уж точно ничего нет сверху. Понимаете, о чем я говорю?
Марика кивает. Нетрудно понять его логику: метро в Берлине не слишком-то глубоко упрятано под землю, над ними сейчас лишь тонкий слой грунта. Если бомба попадет в высокий дом, падающая громада запросто может пробить и асфальт, и землю, засыпав тех, кто ищет спасения здесь, на платформе. Пусть уж лучше, кроме земли, над головой ничего не будет, тогда есть хоть какая-то надежда, что после падения бомбы тебя откопают… или не откопают, что в некоторых случаях гораздо лучше. Во всяком случае, умрешь сразу и не будешь мучиться под обломками, как тот несчастный, стон которого все еще звучит в ушах Марики: «Wenn ich nur Bewustlos wäre!»
– Кстати, – роняет навязчивый провожатый, – не забудьте первое правило спасения: если потолок рухнет, падайте на живот и прячьте голову под согнутым локтем.
Марика снова кивает (это правило с некоторых пор знают в рейхе, кажется, и новорожденные младенцы, которые впитывают его с молоком матери!) и быстро идет в конец платформы. Незнакомец шагает рядом.
По пути они огибают группу старушек, судя по всему, приятельниц, а может быть, соседок, которые сидят, каждая перед своей свечкой, и увлеченно, даже с каким-то ожесточением вяжут носки. Самая что ни на есть мирная картина: бабушки вяжут носочки внучатам… Правда, носки очень большие, явно не детские. Ну что ж, возможно, внучата у бабушек уже вполне взрослые, наверное, сражаются на Восточном фронте… Правда, сейчас лето, шерстяные носки вроде бы не слишком актуальны… однако они свидетельствуют о предусмотрительности заботливых бабулек, а также о том, что они не верят в скорейшее и победоносное завершение русской кампании, которое денно и нощно пророчит по радио министр пропаганды Геббельс, провозглашая при этом свое непременное: «Фюрер в нас, а мы в нем!» Честно говоря, все это отдает изрядным примитивом и здорово навязло в зубах.
– Посмотрите-ка на них повнимательней! – шепчет в это время спутник Марики, и ей кажется, что он с трудом сдерживает смех.
Она переводит взгляд на лица старушек – и сама едва не хохочет: оказывается, у бабушек подбородки подвязаны полотенцами, и из них, словно бороды, торчат мокрые губки.
– Что с ними? – сдавленно шепчет Марика.
– Считается, что это предохраняет от фосфорных ожогов, – бормочет незнакомец и, не сдержавшись, тихонько хихикает. – Что касается меня, я предпочту ожог такому безобразию. Судя по всему, вы тоже.
– Почему вы так решили? – вскидывает брови Марика. – Может быть, все дело в том, что у меня нет при себе ни губки, ни платочка!
– Мне кажется, вы очень легкомысленная особа, – усмехается провожатый. – Я это сразу понял, когда увидел вас впервые. Вы шли по коридору АА[1] под ручку с какой-то пухленькой блондинкой и так громко хохотали, что даже не заметили шефа, который стоял у дверей своего кабинета и посматривал на вас. Я спросил, кто эти веселые девушки. «Фрейлейн Лотта Керстен и фрейлейн Марика Вяземски из фотоархива», – ответил он. «Как Вяземски? – удивился я. – Это ведь славянская фамилия? Надеюсь, барышня не из остарбайтеров?» – «Вы шутите, Хорстер!» – усмехнулся ваш шеф… Кстати, Хорстер – это я, – небрежно уточнил человек в макинтоше. – Вернее, Рудгер Вольфганг Хорстер, хотя я предпочитаю рекомендоваться просто Рудгер. Если угодно, можете звать меня именно так. Мне, конечно, следовало представиться раньше, но как-то было недосуг. Надеюсь, вы меня простите за некоторое нарушение приличий. Но возвращаюсь к вашему шефу. Он сказал: «Отец фрейлейн Вяземски пострадал от большевиков: до последнего времени семья жила в Латвии и перебралась в рейх только после вторжения красных в Прибалтику, лишившись имения под Ригой. У отца какие-то связи чуть ли не в рейхсканцелярии, именно поэтому его дочь здесь. А впрочем, она толковая, хотя и несколько легкомысленная особа».
– О! – восклицает Марика, замирая на месте и бросая на своего спутника уничтожающий взгляд. – О!
Если прежде этот Рудгер Вольфганг Хорстер («просто Рудгер») лишь слегка раздражал ее, то теперь Марика не может смотреть на него иначе как с презрением. Доверительная беседа с шефом Auswartiges Amt, бригадефюрером СС Шталером! Шеф никогда не являлся в министерство в штатском – только в мундире и сапогах, помахивая хлыстом и в сопровождении овчарки, такой же угрюмой, как хозяин. Шталер славился отменной зрительной памятью и чуть ли не с первого дня знал, в каком отделе и кем работает тот или иной из многочисленных сотрудников министерства. Однако еще до своего появления в АА Шталер был известен тем, что являлся одним из авторов «окончательного решения еврейского вопроса». Как же это их с Лоттой Керстен угораздило не заметить в коридоре страшного начальства?! Предположим, Марике нечего бояться, но ведь мать Лотты – еврейка. Уж кому-кому, а фрейлейн Керстен надо было быть особенно осторожной в присутствии шефа!
Надо полагать, Хорстер – того же поля ягода, что и Шталер. Только теперь до Марики доходит, что его серый макинтош выглядит весьма подозрительно: именно такие носят «черные берлинцы» – гестаповцы и эсэсовцы, когда хотят выглядеть «как порядочные люди». Можно подумать, их кто-нибудь способен принять за порядочных людей! Наверняка этот Хорстер – тайный агент, какой-нибудь провокатор!
– А кстати, фрейлейн, – осведомляется тайный агент и провокатор, – почему вас зовут Марикой? Кажется, это румынское имя. Или венгерское. Что, у вас не только русские, но и венгерско-румынские корни? Или вы сами переименовали себя в честь очаровашки Марики Рёкк, дабы не отставать от моды? Ну что ж, имя вам весьма к лицу, хотя ваша внешность скорее утонченно-интеллектуальная, а вовсе не броская, как у «Девушки моей мечты»[2].
Марика презрительно кривит губы и молчит. Незачем этому «просто Рудгеру», приятелю эсэсовца Шталера, знать, что Машеньку Вяземскую стали называть Марикой с легкой руки Бальдра фон Сакса, который влюбился в нее с первого взгляда и принялся взахлеб уверять ее и всех приятелей, что наконец-то встретил девушку своей мечты.
– Впрочем, хоть вы и тезки с Марикой Рёкк, актрисы из вас ни за что не вышло бы, – небрежно роняет Рудгер Хорстер. – Вы совершенно не умеете скрывать свои чувства. Знаете, что сейчас написано у вас на лице? «Mon Dieu, comme m’a appоrtè à cette société?»[3] А между тем сказано ведь в Писании: «Не судите опрометчиво!»
Это ошибка: Марика отлично умеет скрывать свои чувства! Иначе в Берлине просто не выжить. Если бы она дала волю своим эмоциям, ее прах давно уже выгребли бы из печей крематория Плетцензее[4]. Однако сейчас она и в самом деле вытаращила глаза, услышав, как Хорстер говорит по-французски. Любимый язык Марики… Для нее не было разницы, говорить на этом языке или по-русски. С английским она была в точно таких же прекрасных отношениях – все же в Риге работала секретаршей в американской фирме. По-итальянски Марика тоже болтала вполне бойко. А вот с немецким у нее всегда было неважно.
Именно из-за этого она никак не могла устроиться на работу после переезда в Берлин. Из Риги Марика привезла великолепные рекомендации: у нее-де выдающиеся способности к стенографии и скорописи, отчего она – истинная находка для любой фирмы. Но ведь ее выдающиеся способности проявляются, только если стенографировать на английском! А когда она пришла на испытания в АА и ей дали блокнот с ручкой, начальник канцелярии принялся диктовать так быстро и с таким чудовищным баварским акцентом, что Марика половины слов не поняла. По выражению лица начальства, читавшего потом ее стенограмму, моментально стало ясно, что результат у нее – хуже некуда. Ее вежливо спровадили, пообещав «подумать», но она уже ни на что не надеялась и была немало изумлена, когда пришло письмо с приглашением работать в фотоархиве АА. Конечно, помогли связи, которые были у папа́ с давних, еще довоенных (в смысле – до Первой мировой войны!) времен, не то ее, иностранку, никогда не взяли бы в такое учреждение.
Сначала Марика обрадовалась новой работе. Но потом поняла, что радовалась рано: жалованье ее составило всего лишь триста марок, причем сто десять вычиталось в качестве налогов. А жить на сто девяносто марок не так уж легко, особенно если тебе двадцать шесть лет и ты торопишься успеть взять от жизни все, все, что только возможно, прежде чем накатят на тебя ужасные тридцать, после которых, конечно, следует либо уйти в монастырь, либо покончить с собой. Ну что ж, у семьи Вяземских после революции нет больше возможности сидеть сложа руки и жить на ренту. А с каким удовольствием Марика делала бы это! В том смысле, что ничего не делала бы. Играла бы на аккордеоне, танцевала бы с Бальдром фон Саксом, лучшим партнером на свете, танго, чарльстон и фокстрот, занималась бы гимнастикой и бегала на лыжах, шила бы себе новые платья, заказывала новые шляпки…
– О, моя шляпка! – в ужасе восклицает Марика. – Пресвятая Богородица! Где моя шляпка?
– Что вы говорите? – раздается рядом недоуменный голос, и Марика догадывается, что от потрясения перешла на родной язык.
Она бросает на Хорстера отчаянный взгляд и принимается приглаживать растрепанные волосы. Понятно, почему он сказал, что на нее смотреть страшно! Понятно, почему насмехался! Мало того, что ноги без чулок, так ведь она еще и без шляпки!
А между прочим, именно «просто Рудгер» в этом виноват, никто больше. Ведь это он толкнул Марику на землю с такой силой, что шляпка свалилась с ее головы. И самое обидное, что Марика буквально позавчера получила ее от модистки! Конечно, дома в картонках хранятся еще пять или шесть шляпок: ведь это – единственный предмет дамской одежды, который можно купить без карточек, в любом количестве, на которое хватает денег. Но они все старые, изрядно примелькавшиеся и поношенные. А эта была новая! И такая прелестная!
– Понимаю! – говорит между тем Хорстер с теми же ехидными нотками. – Вы потеряли шляпку? Примите мои соболезнования. Однако не горюйте, многим немецким женщинам в наше нелегкое время приходится нести куда более тяжелые потери. Более того, они должны быть постоянно готовы к новым жертвам ради победы рейха.
Точно! Хорстер – провокатор! Наверное, из тех, кто подслушивает досужие разговоры замученных войной берлинцев и доносит потом в гестапо. Ни слова больше, ни полслова!
– Не понимаю, при чем тут женщины? Почему они должны страдать? Конечно, они сами голосовали за приход Гитлера к власти, однако заставлять их платить за свою веру такой дорогой ценой – это бесчеловечно, – слышится вдруг негромкий голос, и Марика оборачивается почти со страхом: кто так неосторожен, кто поддался на дешевую уловку «просто Рудгера»?
В трех шагах от нее, в раскладном шезлонге, какие до войны стояли чуть ли не на каждом берлинском балконе, а потом превратились в незаменимый предмет для обустройства быта людей, загнанных в бомбоубежища, сидит человек, закутанный в плед. На голове его зеленая тирольская шляпа с непременным фазаньим перышком, седые усы мгновенно напоминают о кайзеровских временах. В первую минуту Марика едва не бросается к нему с восторженным криком: «Дядя Георгий!», настолько он похож на старшего брата ее отца, однако, во-первых, дядюшка живет в Риме, а во-вторых, у него нет столь резкого, воистину орлиного профиля с сильно выступающим подбородком, который кажется еще острее из-за седой эспаньолки и невольно напоминает Марике любимейшую сказку детства – «Король Дроздобород». На вид этому «Дроздобороду» далеко за пятьдесят, а впрочем, из-за полумрака, царящего в метро, трудно сказать точно. В левой руке мужчина держит листы бумаги, а худые, длинные пальцы правой сжимают разом и фонарик, который бросает узкий, словно лезвие, луч света на страницы, и карандаш, которым человек изредка делает пометки в рукописном тексте.
«Наверное, какой-нибудь профессор готовится к лекциям», – почтительно думает Марика. Кстати, ее дядя Георгий Васильевич Вяземский тоже профессор – он читает семиотику в Римском университете, хотя теперь наука о значении символов отнюдь не принадлежит к числу самых популярных.
– Вы что-то изволили сказа… – высокомерно начинает было Хорстер, но внезапно голос его вздрагивает, и Марика видит, что глаза его приковались к рукописи, которую держит в руках «Дроздобород». Он так и не договаривает, словно онемев.
– А вы что-то изволили спроси… – мгновенно парирует «Дроздобород», и Марика с трудом сдерживается, чтобы не хихикнуть. – А я изволил сказа… что в нынешние многотрудные времена потеря хорошей шляпки вполне может быть отнесена к истинным бедствиям и вполне способна разбить нежное женское сердце. Будь моя воля, я раз и навсегда запретил бы все игрушки с военной, так сказать, окраской, вроде горнов, мечей, барабанов, оловянных солдатиков и т. д. Однако невинные дамские радости достойны всяческого поощрения! Между тем мужчины склонны недооценивать роль этих прелестных мелочей в истории человечества. Возьмите хотя бы сказки! Красная шапочка некоей болтливой Mädchen, которая пошла в гости к бабушке, знаменитые хрустальные башмачки Сандрильоны, шнурки для корсажа и нарядные ленты, которые сводили с ума легкомысленную Белоснежку[5], – все это составные части материальной культуры человечества. И кто знает, какую роль сыграла бы злосчастная шляпка в судьбе этой милой фрейлейн, не будь она потеряна. А впрочем… – «Дроздобород» поднимает на растерянную Марику проницательные светлые глаза и вдруг воздевает руку с зажатым в ней фонариком и карандашом: – А впрочем, что-то подсказывает мне: еще не все пропало! И взамен простенького изделия скромной берлинской модистки вы скоро получите в подарок творение известной французской модельерши мадам Роз. Что-нибудь вроде большого ярко-зеленого сомбреро с черными лентами, которое будет вам удивительно к лицу. Верьте мне, милая барышня!