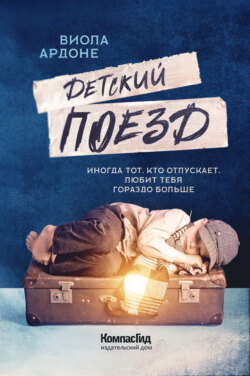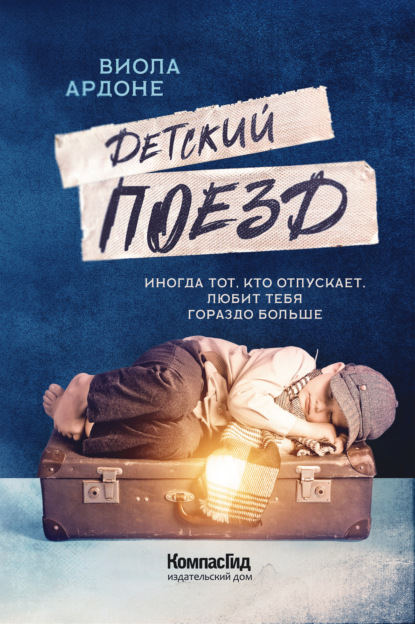Original title: I treni dei Bambini by Viola Ardone
© 2019 Giulio Einaudi editore
© Издание на русском языке. ООО «Издательский дом «Тинбук», 2022
* * *
Джайме
Часть первая
1946
1
Мама впереди, я чуть сзади. Переулками Испанского квартала мама ходит быстро: на каждый её шаг – два моих. По дороге я разглядываю ботинки прохожих. Чистые, целые: по очку за левый и правый; дырявые: минус одно очко. Босиком: ноль очков. Но вёхонькие, блестящие лаком: звёздочка, призовая игра. Своих ботинок у меня никогда не было, я вечно за другими донашиваю. И вечно стираю ноги. Мама говорит, шаркаю много. Но разве я виноват? Это всё чужая обувь. Она принимает форму ног, которые носили её до меня, перенимает их привычки, выбирает другие дороги, другие игры. А когда попадает ко мне, сперва не может понять, как я хожу и куда направляюсь. Потом потихоньку привыкнет, но к тому времени нога уже вырастет, обувь станет мала и всё начнётся сначала.
Мама впереди, я чуть сзади. Не знаю, куда мы идём: она говорит, это для моего же блага. Значит, снова какой-то подвох, как со вшами. «Это для твоего же блага» – и вот я лысый, как дыня. Хорошо ещё, мой друг Томмазино теперь тоже лысый, как дыня, – для его же блага. Соседские ребята нас засмеяли: сказали, мы будто два покойника, ползущие с кладбища Фонтанелле. Поначалу Томмазино не был мне другом. Однажды я увидел, как он стащил яблоко у Луня – седого коренщика, торговавшего с телеги на рыночной площади, – и решил, что друзьями мы быть не можем. Моя мама Антониетта не раз говорила: пускай мы бедняки, но не воры. Начнёшь воровать – кончишь побродяжкой в канаве. Вот только Томмазино, заметив меня, спёр ещё одно яблоко. И поскольку сам я это яблоко не крал, а получил в подарок, то и съел его без зазрения совести – по правде сказать, в один присест проглотил. С того момента мы друзьями и стали. Яблоки-друзяблики.
Мама идёт прямо посередине мостовой, даже под ноги не смотрит. Я шаркаю следом и, чтобы прогнать страх, подсчитываю набранные за обувь очки. Загибаю пальцы до десяти и начинаю снова. Как наберётся десять раз по десять, непременно случится что-то приятное – такова игра. Правда, со мной ничего хорошего пока не случалось – наверное, потому, что я не слишком-то хорошо считаю. Вообще, цифры мне страсть как нравятся. Не то что буквы: те я по одной ещё различаю, но стоит им выстроиться в слова, сразу путаюсь. Мама вечно твердила, что я не должен вырасти таким, как она, потому и отправила меня в школу. Я, конечно, сходил, но не больно-то мне понравилось. Одноклассники так разорались, что голова ещё долго гудела, даже когда я домой вернулся. Класс крохотный, воняет потными ногами. Не шелохнись, слова за партой не вымолви, знай сиди да чёрточки рисуй. Училка нос скривит и ну бормотать, будто каши в рот набрала, а кто её перебьёт, сразу подзатыльник схлопочет. Я за пять дней схлопотал целых десять – считал их, загибая пальцы, очки набирал, да только ничего не выиграл. И решил, что больше в школу не пойду.
Мама, понятно, не обрадовалась, но сказала, что, раз так, будет приучать меня к труду, и определила в тряпичники. Поначалу работа казалась раем: весь день гуляешь, собирая по соседям или на свалке старые тряпки, а после тащишь их Долдону под навес на рынке. Но через пару дней я уже приползал домой настолько уставшим, что с тоской вспоминал училкины подзатыльники.
Мама останавливается перед серо-красным зданием с высокими окнами.
– Пришли, – говорит.
Эта школа выглядит куда лучше прежней: кругом тишина, ногами не воняет. Мы поднимаемся на второй этаж и ждём на деревянной лавочке в коридоре, пока голос из-за двери не произносит: «Следующий!» Поскольку никто не встаёт, мама понимает, что следующие – это мы, и мы входим внутрь.
У моей мамы Антониетты фамилия Сперанца, что значит «надежда». Сидящая в комнате синьорина, обнаружив это, бормочет:
– Ну да, а что ещё остаётся…
И я думаю: ага, сейчас мама развернётся, пристукнет каблуком, и мы пойдём домой. Но нет.
– А вы подзатыльники любите? – спрашиваю я, на всякий случай прикрыв голову руками.
Синьорина смеётся и щиплет меня за щеку, но не больно.
– Садитесь, – предлагает она. И мы садимся.
Эта синьорина вовсе не похожа на училку: нос не кривит, а, наоборот, улыбается, показывая ровные белые зубы, носит короткую стрижку и брюки, как мужчина. Мы молчим. Синьорина представляется Маддаленой Крискуоло – может, мама её помнит? Она ведь против нацистов боролась, чтобы избавить нас от их притеснений. Мама несколько раз кивает, но всем нам очевидно, что ни о какой Маддалене Крискуоло она никогда раньше не слышала. Маддалена говорит, что спасла мост в районе Санита, который немцы хотели взорвать динамитом. И за это ей дали бронзовую медаль и грамоту. А я думаю, что лучше бы ей дали новые туфли: сейчас на ней одна целая и одна дырявая (ноль очков). Маддалена говорит, мы правильно сделали, что пришли к ней; что многие люди стыдятся; что ей с товарищами приходится обходить дом за домом, стучаться в каждую дверь и убеждать матерей, что желают им и их детям исключительно добра. Что многие захлопывают дверь прямо перед её носом или кричат всякие гнусности. В это я верю, поскольку и сам часто слышал такие слова, когда ходил по домам, выпрашивая старое тряпьё. А синьорина говорит, что те славные люди, кто ей поверил, не будут разочарованы. И что моя мама Антониетта – большая молодчина, раз дарит сыну такой подарок. Вот только у меня никогда никаких подарков не было, если, конечно, не считать старой шкатулки, куда я сложил все свои сокровища.
Моя мама Антониетта ждёт, пока Маддалена закончит говорить, потому что не особенно сильна в болтовне. А та всё разливается, что её работа – давать детям надежду. И на меня посматривает. Лучше бы дала мне, ребёнку, хлеба и рикотты, и лучше сладкой, а не солёной, – я её пробовал однажды, на американской вечеринке, куда пробрался вместе с Томмазино (босиком: ноль очков).
Мама молчит, потому что Маддалена не унимается: они, мол, с товарищами организовали специальные поезда, чтобы отвезти детей на Север. И только тогда мама подаёт голос:
– А вы уверены? Он же просто наказание Господ не, сами видите…
Маддалена говорит, что я поеду не один – нас таких много.
– Так значит, это вовсе не школа! – наконец-то понимаю я. И улыбаюсь. А вот моя мама Антониетта не улыбается:
– Будь у меня выбор, разве я бы пришла? Вы уж постарайтесь, сделайте что возможно…
На обратном пути мама снова идёт впереди, хотя и не так быстро. А проходя мимо прилавка с пирожками, где я всякий раз дёргаю её за юбку и ною, пока не получу свою трубочку, вдруг замирает.
– Со шкварками и рикоттой, – бросает она парню за стойкой. – Одну.
Но ведь сегодня я ничего не клянчил! И если мама ни с того ни с сего решила купить мне жареную трубочку ещё до полудня… Здесь точно какой-то подвох.
Парень сворачивает трубочку, жёлтую, как солнце, и толстую – едва в рот влезет. Я беру её обеими руками: боюсь уронить. Она тёплая, пахучая, я дую, рот и ноздри тотчас же наполняются ароматом масла. Мама, присев рядом на корточки, смотрит на меня.
– В общем, ты всё слышал. Большой уже, восемь скоро. А про наше положение и сам знаешь. – Тыльной стороной ладони она стирает жир с моего лица, спрашивает: – Дашь попробовать? – и, не дожидаясь ответа, отщипывает кусочек. Потом встаёт, и мы идём домой. Я ни о чём не спрашиваю, просто шагаю себе. Мама впереди, я чуть сзади.
2
Больше мы о Маддалене не заговаривали, и я решил, что, наверное, мама о ней забыла или передумала. Но через пару дней стучится к нам одна монашка, отец Дженнаро её послал. Мама кричит из-за двери:
– Чего надо, чернорясая? Ступай себе!
Но та стучится снова, и мама, отложив штопку, чуть приоткрывает дверь – узенькую щёлочку, только крючковатый, землистого цвета нос и просунуть. Тогда монашка спрашивает, нельзя ли войти, и мама вяло кивает, хотя всем своим видом показывает, что не особенно рада. Монашка говорит, что мама – добрая христианка, а значит, должна понимать: Господь всё видит. Дети, говорит, не отцу-матери принадлежат, они – Божьи чада. А эти коммунисты только и мечтают, что первым же поездом отправить нас в Рос сию, где нам руки-ноги отрежут, лишь бы мы не вернулись. Но мама не отвечает. Держится, слова не проронит. Так что в конце концов чернорясая злится и уходят восвояси.
Я тут же спрашиваю:
– Ты что, и правда хочешь меня в Россию отправить?
А она, снова взявшись за шитьё, начинает бормотать:
– Россия, не Россия, фашисты, коммунисты, да и священники с епископами – мне всё одно: неизвестность. – С другими людьми мама почти не говорит, только сама с собой. – Вот голод и тяжкий труд – их я знаю… Эту бы бездельницу в рясе, у которой ни мужика рядом, ни ребёнка, на моё место – уж я бы на неё поглядела… Легко языком ворочать, когда детей растить не надо! Где она была, когда слёг мой малыш Луиджи?
Луиджи – мой брат, и, не приди ему в голову дурацкая мысль заиметь в младенчестве бронхиальную астму, он был бы меня на три года старше. А так я уже с самого рождения оказался единственным ребёнком. Мама о Луиджи почти не упоминает, только зажигает иногда лучину перед фотокарточкой, что над комодом. Мне о нём рассказала Хабалда, добрая тётка из дома напротив. Мама тогда ужасно страдала, соседи даже считали, что она не поправится. Но родился я, и она обрадовалась. Хотя, наверное, не так сильно, как с Луиджи. Иначе зачем бы ей отправлять меня в Россию?
Я выскакиваю из дома и бегу к Хабалде – та всегда всё знает, а если чего не знает, найдёт, у кого выспросить. Но Хабалда говорит, ни в какую Россию меня не повезут. Мол, слыхала она про эту Маддалену Крискуоло и других: помочь нам хотят, надежду подарить. А что мне делать с надеждой? Одна у меня уже есть – в фамилии: я ведь тоже Сперанца, как моя мама Антониетта, только зовут Америго. Это отец придумал. Я, правда, его никогда не видел, и всякий раз, как о нём спрашиваю, мама закатывает глаза к небу, будто собирается дождь, а она не успела развесить бельё на просушку. Он, говорит, большой и сильный. Уехал в Америку искать счастья. «А вернётся?» – спрашиваю. Рано или поздно вернётся, говорит. В общем, ничего он мне не оставил, кроме имени. Так всегда и бывает.
С тех пор как прошёл слух о поездах, соседи потеряли покой и сон. Каждый твердит о своём: один доподлинно знает, что нас продадут в рабство в Америку, другой уверяет, что отправят в Россию и сожгут там в печке, третий слышал, что увезут больных, а здоровых оставят матерям – из тех, кому на своих детей не плевать по неграмотности или бестолковости, кто не станет делать вид, будто так и надо. Я вот тоже неграмотный, но в нашем переулке меня прозвали Нобелем – столько я всего знаю, хотя в школу больше и не хожу. А я всё на лету схватываю: покручусь тут-там, послушаю сплетни, погляжу, кто что делает. Учёным ведь никто не рождается.
Моя мама Антониетта не любит, когда я о её делах болтаю. Потому-то я никому и не говорю, что у нас под кроватью мешки с кофе, которые Долдон приносит. И тем более о том, что сам Долдон по вечерам к нам заходит и с мамой в комнате запирается. Не знаю, что он там жене рассказывает: может, что в бильярд играет. А меня в это время на улицу гонит. Говорит, им поработать надо – ему, значит, и ей. И я отправляюсь тряпичничать: ищу всякую ветошь, лоскуты, истёртую до дыр американскую военную форму, грязное, кишащее блохами нижнее бельё. Поначалу, когда он заявлялся, я уходить не хотел: даже и представить себе не мог, что Долдон станет в моём доме свои порядки наводить. Тогда мама велела мне проявлять к нему почтение, потому что с ним важно поддерживать дружбу и потому что он даёт нам еду. Сказала, он дело знает: мол, если кто меня чему путному и научит или что покажет, так только он. Я ничего не ответил, но с тех пор чуть он на порог – я на свалку. Тряпки, что нахожу, приношу домой, чтобы мама выстирала, отгладила и зашила, а потом тащу на рыночную площадь, Долдону, и он продаёт их тем, кто чуть побогаче нас. А я, пока туда-сюда хожу, разглядываю чужую обувь да подсчитываю на пальцах очки, и, как наберу десять раз по десять, случится чудо: отец вернётся из Америки богачом, и Долдона я даже на порог не пущу. И дверь у него перед носом захлопну.
Как-то раз игра и в самом деле сложилась: я увидел у театра Сан-Карло синьора в лакированных туфлях, таких новеньких и блестящих, что они одни потянули на сотню очков. А когда вернулся домой, Долдон торчал под дверью. Оказывается, мама видела, как его жена гуляла по проспекту Ретифило с новой сумочкой под мышкой.
– Тебе нужно научиться ждать. Подожди, придёт и твоё время, – буркнул маме Долдон.
На что она ответила:
– Но сегодня подождать придётся тебе, – и домой его в тот день не пустила.
Долдон постоял немного, закурил сигарету, сунул руки в карманы и пошёл прочь. Ну, я потопал за ним – просто чтобы поглядеть на его разочарование – и говорю:
– А что, у нас выходной сегодня или праздник какой? Работать не надо?
Он на корточки присел, сигаретой затянулся, а когда выдохнул, изо рта вылетело много-много мелких дымных колечек.
– Запомни, парень, – заявил он мне, – женщины и вино суть одно и то же. Либо ты их, либо они тебя. И если позволишь им себя одолеть, вмиг лишишься воли, в раба превратишься. А я как был свободным человеком, так всегда им и буду. Давай-ка завалимся в остерию, я тебе красненького налью. Сегодня Долдон сделает из тебя мужчину!
– Ой, как жаль, что я не могу составить вам компанию, у меня дела…
– Это у тебя-то? Какие такие дела?
– Как обычно: тряпичничать. Гроши, конечно, но хоть на еду… Вы уж простите… – и я ушёл, оставив его стоять в одиночестве, глядя на уплывающие колечки сигаретного дыма.
Найденные тряпки я складываю в корзину, которую дала мне мама. А поскольку чем корзина полнее, тем тяжелее, я стал носить её на голове – подсмотрел, как делают женщины на рынке. Сегодня ношу, завтра ношу, вот и доносился до того, что волосы на макушке повыпадали, уже лысина проглядывает. Как по мне, потому-то мама меня и обрила, а вовсе не из-за вшей!
Слоняясь по округе, я потихоньку расспрашиваю о поезде, но ничего нового не узнаю: одни говорят одно, другие – другое. Томмазино без конца твердит, что уж ему-то ехать не обязательно: еды у них в доме хватает, а до того, чтобы просить милостыню, мать, донна Армида, никогда не опустится. Тюха, старшая по нашему переулку, ворчит: при короле, мол, такого не было, чтобы матери детьми торговали. Нет, говорит, больше в людях до-сто-ин-ства! И всякий раз, как это слово произносит, стискивает немногие оставшиеся жёлтые зубы, торчащие из почерневших дёсен, и сплёвывает через дырку. Мне кажется, Тюха с самого рождения была уродиной, потому и мужем не обзавелась. Вот только болтать об этом не стоит – ясное дело, больная мозоль. И о том, почему детей нет. Когда-то она держала щегла, но и тот улетел. Правда, о щегле с Тюхой поговорить можно.
Хабалда тоже вековуха, хотя никто точно и не знает почему. Одни говорят, отказывала всем, кто просил её руки, и в конце концов осталась одна, а всё потому, что на самом деле безумно богата и не хочет ни с кем деньгами делиться. Другие – что был у неё жених, да умер. Третьи – что избранник, как оказалось, уже был женат. Но только, скажу я вам, всё это сплетни.
Лишь однажды на моей памяти Тюха с Хабалдой хоть в чём-то сошлись: когда немцы в поисках съестного добрались и до нашего переулка. Обе тогда напекли пирогов с голубиным помётом, выдав его за шкварки – традиционное блюдо нашей кухни. Те ели да нахваливали: gut, gut![1] – а Тюха с Хабалдой, толкая друг друга в бок, только тихонько посмеивались. В общем, немцы с тех пор не возвращались, даже чтобы покарать охальниц.
Моя мама Антониетта никогда меня не продавала. Раньше. Но тут, дня через два или три после визита монашки, возвращаюсь я домой с корзиной тряпок и вижу эту Маддалену Крискуоло. Ага, думаю, вот за мной и пришли, покупать собрались! И, пока мама с ней разговаривает, всё слоняюсь по комнате, будто полудурок, а на вопросы или вовсе не отвечаю, или нарочно какую-нибудь ерунду скажу: стараюсь походить на дефективного, чтобы не решились меня покупать. Потому что какой дурак станет покупать дефективного или, того хуже, чокнутого?
Маддалена тем временем рассказывает, что всегда жила в бедности, да и по сей день живёт, что голод – не наша вина, а несправедливость мира и что мир можно сделать лучше, но для этого женщинам надо объединиться. Хотя вон Тюха вечно ворчит: мол, как станут женщины носить короткие стрижки и брюки, навроде Маддалены, тут мир вверх тормашками и перевернётся. Но скажу я вам: не ей бы с её усищами рот разевать! Вот у Маддалены усов нет, только полные ярко-алые губы и зубы белее белого.
Потом Маддалена, чуть понизив голос, говорит маме, что знает её историю, сочувствует её тяжкой утрате и что женщины должны проявлять солидарность, помогать друг другу. А моя мама Антониетта ещё пару минут сидит, уставившись в голую стену, и я понимаю, что она думает о моём старшем брате Луиджи.
К нам в дом и до Маддалены приходили разные дамочки, но чтобы с короткими волосами и в брюках – такого не бывало. Те блондинки в дорогих платьях и с безупречными причёсками уж точно были настоящими синьорами. Едва завидев их в переулке, Хабалда криво усмехалась: «Опять благотворительницы прибыли!» Поначалу мы радовались их приходу и особенно картонным коробкам, полным еды, но со временем сообразили, что ни пасты, ни мяса, ни сыра в этих коробках не бывает – только рис, вечно один рис и ничего кроме риса. Когда они объявлялись, моя мама Антониетта поднимала глаза к небу и говорила: «Боже, сколько риса у нас сегодня! Так и по-китайски заговорить недолго!» Сперва благотворительницы не понимали, в чём дело, и только потом, когда увидели, что их коробки больше никто не берёт, принялись наперебой уверять, что рис – важнейший национальный продукт и что пора возрождать «рисовую кампанию». Тогда им попросту перестали открывать двери. Тюха, узнав об этом, долго разорялась, что раз мы не ценим благородство и до-сто-ин-ство, то и сами ничего не заслуживаем. Хабалда в ответ заявила, что этим рисом нас только дразнят, и с тех пор всякий раз, как кто-нибудь собирался всучить ей что-то ненужное, говорила: «Вот, опять благотворисельницы прибыли!»
Маддалена тем временем обещает, что в поезде вовсе не скучно, а семьи из Северной и Центральной Италии примут нас как собственных детей: накормят, дадут новую одежду и обувь (два очка). Услышав это, я перестаю изображать дефективного и говорю:
– Ладно, мам, продай меня уже этой синьоре!
Полные алые губы Маддалены растягиваются в улыбке, она смеётся, а моя мама Антониетта тыльной стороной ладони отвешивает мне оплеуху. Я хватаюсь за горящую то ли от боли, то ли от стыда щёку. Маддалена вмиг прекращает смеяться и берёт маму за руку, но та дёргается, будто коснулась кипящей кастрюли. Не любит мама, когда её трогают, даже ласково. Тогда Маддалена ужасно серьёзным голосом говорит, что вовсе не собирается меня покупать. И что Коммунистическая партия организует то, чего никогда прежде не видывали, то, что войдёт в историю, о чём будут помнить долгие годы.
– Как о пирогах с голубиным помётом? – перебиваю я.
Моя мама Антониетта сердито оборачивается, и я уже готовлюсь к очередной оплеухе. Но она только спрашивает:
– Ну а сам ты чего хочешь?
Я отвечаю, что, если мне дадут ботинки, причём оба новых (призовая игра!), я готов до самого логова коммунистов пешком идти, не то что на поезде ехать. Маддалена улыбается, а мама только кивает: вверх-вниз, вверх-вниз. Что значит «договорились».
3
Моя мама Антониетта замедляет шаг возле уже знакомого здания – штаб-квартиры коммунистов на виа Медина: Маддалена сказала, чтобы ехать на поезде, нужно внести меня в список. На первом этаже мы сталкиваемся с тремя юношами и двумя девушками. Девушки сразу ведут нас в комнату с письменным столом и красным флагом за ним, усаживают и начинают расспрашивать о всяком-разном. Одна спрашивает, другая записывает на листке бумаги. Наконец та, что спрашивает, даёт мне карамельку из вазочки. А та, что пишет, кладёт свой листок на стол перед ни чего не понимающей мамой. Потом вкладывает ей в руку перо и велит подписать. Мама не двигается. И я тоже от леденца отказываюсь, хотя от запаха лимона уже щиплет в носу. Не каждый день, знаете ли, достаётся настоящая конфета.
Из соседней комнаты доносится перебранка. Девушки молча переглядываются: похоже, они давно привыкли к крикам и ровным счётом ничего не могут поделать. Моя мама Антониетта тем временем всё сидит с пером в поднятой руке перед листком бумаги. Я спрашиваю, зачем за стенкой так орут. Та, что прежде писала, молчит. Зато вторая отвечает: мол, это они не ссорятся, а обсуждают, что нужно сделать для лучшей жизни, и вообще, это политика. А я тогда спрашиваю: простите, вы что, даже между собой договориться не можете? Она кривится, как если бы сунула в рот орех и обнаружила, что он горький, потом бормочет, что между товарищами тоже иногда случаются расхождения, различные поветрия… Тогда та, что писала, пихает её локтем, словно намекая, чтобы не болтала лишнего, потом оборачивается к маме и говорит, мол, если она не может написать своё имя, то пусть поставит крестик, а они обе подпишутся как свидетели. Моя мама Антониетта краснеет и, уставившись на листок, рисует кривоватую х. Услышав о поветриях, я пугаюсь, поскольку Хабалда вечно ворчит, что поветрия вызывают бронхит, а мне сказали, что больных никуда не возьмут. По-моему, это несправедливо: что, больным нельзя поехать и уже там подлечиться? А то, как правильно заметила Тюха, со здоровыми легко проявлять солидарность. Тюха вообще хорошая тётка, если не считать усов и почерневших дёсен. Иногда она даже даёт мне лиру-другую. Просто так.
Потом девушки пишут что-то в толстой книге и провожают нас к выходу. Юноши в соседней комнате по-прежнему спорят о политике. Худощавый паренёк со светлыми волосами всё время повторяет непонятные слова: «южный вопрос» и «национальная интеграция». Я взглядываю на маму: может, она что поняла? Но она упрямо тянет меня дальше. Когда я прохожу мимо светловолосого, он оборачивается ко мне, будто хочет сказать: ну же, подтверди! Я уже открываю рот, чтобы ответить, мол, я ничего в этом не понимаю и, не приведи меня (для моего же блага) моя мама Антониетта, вообще никогда бы сюда не попал. А мама хвать меня за руку и едва слышно шипит:
– Тоже невтерпёж вляпаться? Закрой рот и марш на улицу!
И мы идём к двери. Светловолосый паренёк понуро смотрит нам вслед.