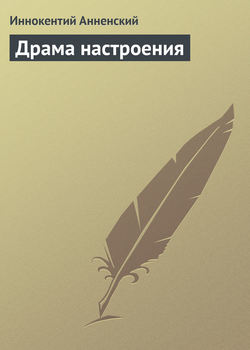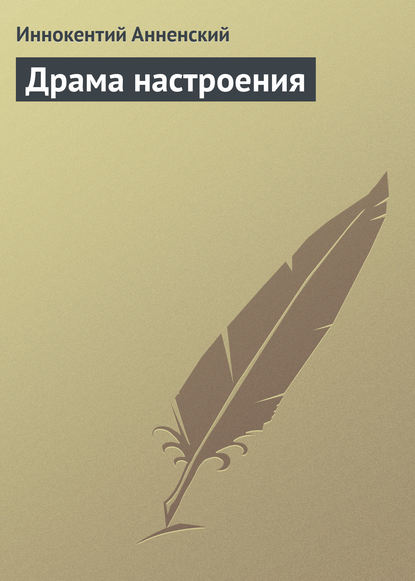I
Что это такое? Сцена это или литература? Малеванная декорация или художественная школа? Штрихи, набросанные на канву, чтобы быстрая игла протянула по ним цветные нити и потом сплела эти нити в кресты, а кресты в цветы? Или здесь все уже дано художником, и актерам остается только показывать с наиболее выгодной стороны свой талант?
Я думал над этим вопросом, но, по совести, не сумел на него ответить. Я лично могу искать в словах драмы только самого художника, хотя отнюдь и не уверен при этом, что объясню вам его концепцию и даже, что точно передам драму Чехова как бы его же словами. Но задача моя, видите ли, облегчается тем, что Чехов более, чем какой-нибудь другой русский писатель, показывает мне и вас, и меня, – а себя открывает при этом лишь в той мере, в какой каждый из нас может проверить его личным опытом. Были времена, когда писателя заставляли быть фотографом; теперь писатели стали больше похожи на фонограф. Но странное выходит при этом дело: фонограф передает мне мой голос, мои слова, которые я, впрочем, успел уже забыть, а я слушаю и наивно спрашиваю: «А кто это там так гнусит и шепелявит?..» Люди Чехова, господа, это хотя и мы, но престранные люди, и они такими родились, это литературные люди.
Вся их жизнь, даже оправдание ее, все это литература, которую они выдают или и точно принимают за жизнь. И не думайте, пожалуйста, чтобы это показывало их высокое литературное образование или тонкий вкус, давало им строгие критерии, – ничего подобного. Нет, слово «литература» здесь значит у меня все, что я думаю решить, формулировать и даже пересоздать, не вставая с места и не выпуская из рук книжки журнала или, наоборот, бросаясь вперед сломя голову…
– Куда вы, Иван Иванович?.. Борьба, решения для таких людей не есть нечто, вызываемое самою жизнью, непосредственным впечатлением, неотразимым импульсом. Вот захотел и баста – и сделаю, отвечу, а сделаю. Обыкновенно это – нечто литературное. Мне, видите ли, ненавистны японцы, потому что они убили вот этого самого юношу, который нарисован в «Новом времени»[1] еще кадетом. И жизнь говорит мне только это. Но, увы, книга дает сцепление фраз более для меня убедительное, а главное, – более привычное. Послушай, да ведь это же литература, проснись – ведь ты живешь… Нет, не могу, выбейте у меня из-под ног эту литературу, и что же я на воздушном шаре полечу, что ли? Как бы там ни было, но не дивитесь на чеховских персонажей, если они живут, как во сне. Не смейтесь над тем, что они так любят говорить и что вон тому барону надо было пять лет упражнять свою решимость, чтобы стать вместо офицера бухгалтером на кирпичном заводе. Не считайте и эту девушку бессердечной, если она плакала оттого, что шарманка напомнила ей Москву, а когда принесли ей известие о смерти жениха, так она не нашла для этого беззаветно любившего ее человека ни одного живого слова, а ограничилась тирадой философского характера. Вспомните, что все эти люди похожи на лунатиков вовсе не потому, что Чехову так нравились какие-то сумерки, закатные цветы и тысячи еще бутафорских предметов, приписанных ему досужей критикой, а потому что Чехов чувствовал за нас, и это мы грезили, или каялись, или величались в словах Чехова. А почему мы-то такие, не Чехову же и отвечать…