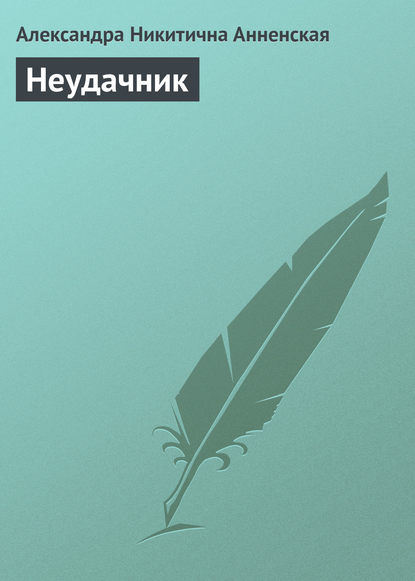Глава I
Мальчики на дворе одного из больших домов Москвы затеяли веселую игру. Дети, человек шесть-семь, от двенадцати до четырнадцати лет, устроили настоящее сражение снежками. Трое из них укрепились в узком коридоре, между сараем и поленницей дров, остальные старались выбить их из этой позиции. Осаждающие осыпали крепость градом снежных пуль, осажденные делали смелые вылазки, чтобы добывать доски, пустые ведра и разный хлам, которым они старались завалить входы в свою крепость. С обеих сторон слышался крик и смех, начальники обоих отрядов командовали так громогласно, что их могли бы услышать сотни подчиненных. Несмотря на довольно значительный мороз, детям было тепло от сильного движения; только руки, которыми они сгребали и бросали снег, посинели от холода.
Форточка одного из окон нижнего этажа отворилась, и из нее выглянула женская голова.
– Дети, Петя с вами? – спросил женский голос.
– Нет, мамочка, – отозвался предводитель осаждающих, красивый мальчик лет тринадцати, – он не захотел играть, вон он стоит у дверей.
Александра Петровна заглянула в ту сторону, куда указывал ее сын и действительно увидела у входа в дом мальчика, лет двенадцати, бледного, худенького, дрожавшего от холода.
– Петя, приди сейчас же домой, – недовольным тоном позвала она и, захлопнув форточку, вернулась в комнату. – Какой несносный характер у этого Пети, – обратилась она к своему мужу, Федору Павловичу Красикову, сидевшему с газетой в руках у другого окна, – ни за что не хочет играть с другими детьми; сегодня я насильно послала его, так он целый час простоял у дверей, посинел от холода, а все-таки не послушался.
В комнату несмелыми шагами вошел Петя. Это был некрасивый мальчик, с торчащими рыжеватыми волосами и бесцветными близорукими глазами. Он казался сильно озябшим; лицо его было иссине-бледно; он весь как-то ежился и прятал покрасневшие от холода руки под свою серую гимназическую блузу.
– Скажи, пожалуйста, Петя, – обратилась к нему Александра Петровна, – зачем я тебя послала во двор?
Мальчик опустил голову и молчал.
– Петя, я у тебя спрашиваю, неужели ты не можешь хоть ответить?
Молчание.
– И как же тебе не стыдно, Петя. Я тебя не браню, я с тобой говорю, как с разумным мальчиком, а ты молчишь. Неужели тебе так трудно ответить! Отчего ты не пошел играть с детьми, как я тебе велела?
Тонкие, бледные губы Пети были плотно сжаты; он продолжал засовывать руки под блузу, но видимо не намеревался отвечать.
– Упрямый мальчик! – рассердилась Александра Петровна: – с тобой нельзя обращаться, как с порядочными детьми; поди прочь, если ты не хочешь отвечать мне, так и я не буду говорить с тобой…
Петя вышел из комнаты такими же тихими шагами, как вошел в нее, осторожно припер за собой дверь и пробрался в полутемный коридор, подальше от той комнаты, где сидели Красиковы. Там топилась печка, он уселся на полу против нее и с удовольствием грел свои иззябшие руки и ноги. При красноватом свете огня лицо его потеряло свой мертвенный бледный оттенок, губы перестали упрямо сжиматься, складки между бровями разгладились, все черты лица смягчились.
Пригретый печкой, один в полутемном уголке, он почувствовал себя спокойно, хорошо, и вспомнилось ему, что так же спокойно и хорошо бывало ему давно-давно, когда он жил дома, в деревне, совсем маленьким мальчиком…
Отец его служил приказчиком в имении Федора Павловича, жалованье получал маленькое, а семья у них была большая, две сестры старше его да двое или трое детей моложе; мать должна была сама и стряпать, и стирать белье, и детей нянчить, и корову доить. Работа утомляла ее, постоянные лишения раздражали, она ворчала на мужа, бранила и била детей; в избе было тесно, душно, неуютно, постоянно раздавался то крикливый голос хозяйки, то плач или возня ребят. Пете – тихому, слабенькому мальчику – жилось плохо. Отец досадовал, что старший сын уродился у него какой-то неудалый, ладящий, мать находила, что он вечно мешает, вечно суется под ноги, старшие сестры смеялись над его близорукостью и неловкостью, младший брат, здоровенный, краснощекий буян Федюшка при всяком удобном случае старался поколотить его или вцепиться ему в волосы. Но среди этого шумного, неуютного дома был уголок, куда мог спасаться Петя, где он чувствовал себя хорошо: этим уголком была комнатка на чердаке, где жила старая, слепая тетка его отца.
В крошечной низенькой келейке старушки всегда было тихо, чисто, спокойно. В переднем углу висело несколько образов с потемнелыми от времени ликами святых и в праздники теплилась лампада; печка с лежанкой служила старухе кроватью; простой некрашеный стол, такой же стул и зеленый окованный железом сундук составляли всю меблировку. Тут-то, на этом сундуке, прижавшись спиной к тепленькой лежанке, любил сидеть маленький Петя. Бабушка не видела, какой он некрасивый, неловкий, для нее он был всегда желанным гостем, и когда она гладила своей морщинистой рукой его рыжие щетинистые волоса, когда она говорила с ним своим кротким, ласковым голосом, он забывал все огорчения, все насмешки и обиды других, он сам становился добрым, ласковым ребенком. Другие бранили его за то, что он ничего не умеет делать, а бабушка находила, что никто не умеет так ловко услужить ей, как он, никто так осторожно не сводит ее с лестницы, не проведет в церковь к местечку, где не толкают и откуда слышна служба. У старухи болели ноги, ей трудно было сходить вниз по крутой лестнице чердака, и она целые дни сидела одна в своей горенке и постоянно с какой-нибудь работой в руках: она вязала чулки, ткала из покромок сукна коврики и туфли, плела из соломы и из ивовых прутьев корзины. Все эти вещи покупали у нее проезжие торговцы и хотя они давали ей очень немного за ее труд, но она все-таки могла и платить племяннику за свое содержание, и иметь деньги на свои небольшие потребности: на масло в лампадку, на свечку перед образом, на ватную кацавеечку к зиме. Петя сначала удивлялся, как это слепая старушка может так хорошо работать, потом попробовал подражать ей и мало-помалу научился всем ее рукодельям. Увидя, что он вяжет чулок, сестры подняли его на смех, мать подумала: «Ничего из него путного не выйдет!», отец неодобрительно покачал головой.
Петя сконфузился, он старался скрывать свои работы от домашних, но когда оставался один с бабушкой и видел, как быстро мелькают в руках ее спицы чулка, как легко перебирает она пестрые полоски сукна, гибкие прутья и тонкие блестящие соломинки, ему неудержимо хотелось поработать вместе с ней, быть «совсем как бабушка». Отец рано начал учить его грамоте: он надеялся, что слабенький мальчик окажется способным хоть к умственному труду. Петя учился прилежно, чтобы угодить отцу: он покорно исписывал крупными буквами толстые тетради серой бумаги, безропотно складывал, вычитал, умножал и делил длинные ряды цифр, а чтением скоро стал заниматься даже с удовольствием. Впрочем, те истрепанные книжки грамматики и «Землеописания», из которых отец заставлял его каждый вечер прочитывать себе по одной, по две страницы, мало привлекали его; читал он охотно только у бабушки. У старухи в сундуке нашлось несколько житий святых и какое-то старое путешествие к святым местам; эти книги, то благоговейное внимание, с каким слушала их старушка; пробудили в мальчике любовь к чтению…
Живо, точно это было только вчера, представилась ему маленькая горенка, освещенная лучом заходящего солнца; старушка сидит на сундуке с вязаньем в руках, а он на полу, у ног ее. Большая книга «Путешествия» лежит на его коленях. Он водит пальчиком по пожелтевшим страницам и медленно, запинаясь на трудных словах, читает: «И вот вдали заблестели главы церквей святого города, и наполнились глаза странников слезами радости и пали они на колена и возблагодарили Создателя…»
– Слава тебе Господи! – набожно произносит старушка.
И сердце его радостно бьется сочувствием к благочестивым путникам, достигшим, наконец, цели своего трудного пути…
– Петя, Петя!.. Да где же это он? Учитель пришел… Петя! Иди скорей! – раздались голоса.
Глава II
Медленно, неохотно поплелся Петя в классную комнату: там уже сидели за учебным столом его товарищи, сыновья Федора Павловича, тринадцатилетний Виктор и одиннадцатилетний Боря.
Все трое учились в гимназии: Виктор в третьем, а Боря и Петя – во втором классе.
– Скорей, скорей принимайтесь за дело, господа! – торопил мальчиков их репетитор, студент университета, – вы просрочили целых пять минут! Живее за работу. – Петя! А вы что такой сонный?
Петя, действительно, вяло и неохотно брался за книги. Ему трудно было сразу оторваться от воспоминаний, нахлынувших на него около теплой печки, трудно было от трогательной истории благочестивых странников сразу перейти к латинской грамматике, а между тем это было необходимо.
И в то время, как через два часа оба брата с облегченным сердцем уложили свои книги в ранцы и убежали из классной, с Петей учителю пришлось заниматься еще лишние полчаса.
Петя остался один в классной. Из столовой слышались голоса. Вся семья собиралась пить чай, мальчик устал затверживать латинские спряжения, немецкие слова и трудные названия незнакомых городов, а тут еще учить такое трудное стихотворение! Он прочел его раз, два, попытался вспомнить, ведь это старое, он его хорошо знал три месяца тому назад, нет, не помнит ни строчки, надо долбить как новое. Ему и трудно, и досадно, усталая голова отказывается работать, и он путает строчки, перевирает слова.
– Что, Петя, ты все еще долбишь? – раздается около него веселый голос Виктора. – Брось, брат, иди чай пить, мы уж отпили, перед сном еще раз прочтешь!
– Да я еще ничего не знаю! – с отчаянием вскричал Петя.
– Эка важность! Может, тебя завтра и не вызовут.
– Может, и вправду не спросят! – утешал себя Петя, закрывая книгу и следуя за Виктором в столовую.
Вся семья еще сидела за чайным столом и перед Петиным прибором стоял большой стакан чаю с молоком и булкой.
– Вот видишь ли, Петя, – начала Александра Петровна, едва мальчик сел на место, – как дурно не слушаться. Ты не хочешь гулять, играть с детьми, оттого тебе и учиться так трудно. Неужели приятно сидеть целый вечер над книгами, а в гимназии все получать единицы да двойки? Ну, скажи мне: сознаешь ли ты, что поступаешь нехорошо. Постараешься ли исправиться? Да не молчи же опять, ответь мне!
– Постараюсь! – проговорил Петя, чувствуя, что от допросов Александры Петровны куски останавливаются у него в горле.
– И отчего это ты всегда такой дикий, необщительный? – продолжала она, видя, что мальчик торопится допивать свой чай, чтобы улизнуть от нее. – С детьми ты не играешь, со мной не хочешь быть откровенным. Кажется, я всегда добра к тебе, забочусь о тебе, а ты? Четвертый год живешь у нас и все чуждаешься нас. Отчего это?
Петя опустил голову, и слезы навернулись на глаза его, но он не мог ни лаской, ни искренним ответом отозваться на вопросы Александры Петровны.
Она несколько секунд молча смотрела на него, ожидая от него какого-нибудь слова, какого-нибудь проявления чувства, но видя, что эти ожидания напрасны, проговорила строгим тоном.
– Иди спать! Дети уже в спальне.
Петя с тяжелым сердцем вышел из столовой.
В спальне Витя и Боря затеяли перед сном ожесточенную борьбу друг с другом. Петя никогда не принимал участия в таких забавах: он знал, что был очень слабосилен, и это делало его робким. Тихонько пробрался он к своей постели, поспешно разделся, закутался в одеяло и притворился спящим. На самом деле он долго не мог уснуть. Витя и Боря перешли от драки к громкому смеху, потом к смирному разговору и наконец оба крепко заснули, а он все лежал, отвернувшись к стене, с широко открытыми глазами. Вопрос Александры Петровны заставил его задуматься. Он чувствовал, что она была права. В самом деле, больше трех лет живет он в доме Красиковых, никто его не обижает и все-таки он не может не чувствовать себя чужим, не может держаться совершенно свободно и непринужденно. Теперь еще немного лучше, а первое время жизни в Москве, как он стеснялся, как всех и всего боялся! Он вспомнил, как там, дома, в деревне ему стало страшно, когда заговорили, что на лето господа приедут в свое имение.
Обыкновенно Красиковы проводили лето где-нибудь на даче в окрестностях Москвы, а тут им вздумалось для разнообразия пожить месяца три в своем Медвежьем Логе. В имении поднялась суматоха: старый дом, стоявший заколоченным, начали мыть, чистить, проветривать, протапливать: ветхую мебель выколачивали, подклеивали, подштопывали, покрывали лаком. В саду, давно заросшем крапивой и бурьяном, появились дорожки, усыпанные песком, клумбы красивых цветов, аллеи подстриженных лип и акаций. Управляющий бегал, суетился и кричал до хрипоты с утра до вечера, скотница вдруг вспомнила, что надо беречь барское молоко и масло, птичница пересчитывала по десяти раз в день цыплят, утят и индюшат. Петин отец стал переписывать прошлогодние счетные книги.
Все эти приготовления, вся эта суета не могли не производить впечатления на тихого, робкого восьмилетнего мальчика. В воображении Пети господа представлялись какими-то особенными высшими существами, и он с замиранием сердца ожидал их появления. И вот они приехали: отец, мать, гувернантка и двое мальчиков, семи и девяти лет. По-видимому, в них не было ничего страшного. Федор Павлович и Александра Петровна никого не бранили, ни на кого не кричали, со всеми говорили вежливо, даже к одноглазому работнику Федоту обращались не иначе как на «вы»; дети бегали по саду и по двору, кричали, смеялись, играли, как всякие другие дети; гувернантка была так тиха и молчалива, что почти никто не слышал ее голоса. Кажется, чего бы бояться – люди самые обыкновенные, а между тем не только маленький Петя, но и все старшие признавали, что эти обыкновенные люди совсем не то, что простые жители Медвежьего Лога. Вставали они не с восходом солнца, а почти перед обедом, ели совсем особенные, никому неизвестные кушанья, которые готовил для них московский повар, одевались в платья особого покроя, целый день сидели они или в комнатах, или в саду; разве вечером перед закатом солнца выходили погулять в поле. Александра Петровна боялась и собак, и коров, и свиней, и гусей, гувернантка взвизгивала при виде лягушки, дети не смели подходить к лошадям, есть сырые яблоки, купаться в мелкой грязноватой речке.
Петя вместе с младшим братом и другими деревенскими мальчиками подсматривал в щели забора, как господа пьют чай в саду, издали следовал за ними, когда они выходили гулять в поле; он в то время и не подозревал, что ему самому придется жить этой барской жизнью, которая представлялась ему такой чудной. А между тем в конце лета, когда начались дожди, Федор Павлович стал от нечего делать часто заходить в контору. Порядок, аккуратность и смиренный вид Ивана Антоновича понравились ему, он разговорился с ним; узнал; какая у него большая семья, как ему трудно живется и решил, чем-нибудь помочь ему. Александра Петровна еще раньше обратила внимание на худенького, бледного мальчика, который так заботливо водил в церковь слепую старушку. Посоветовавшись друг с другом, Красиковы предложили конторщику взять с собой в Москву его старшего сына, держать его наравне со своими детьми, определить в гимназию, сделать из него образованного человека, который впоследствии мог бы служить поддержкой всей семье. Это предложение привело в неописанный восторг и Ивана Антоновича, и всю его семью. Слабосильный, неловкий Петя не годился для трудовой деревенской жизни, а в городе из него, может быть, сделают человека! Он будет жить с господами, есть за их столом, учиться всем наукам, каким обучают господских детей!
– Вот уж правда говорят: «Не родись ни пригож, ни умен, да родись счастлив!» – повторял Иван Антонович, радостно поглядывая на сына.
– Это ему за тихость да за смиренство Господь Бог посылает! – говорила Агафья Андреевна, нежно лаская сына.
Сестры перестали смеяться над Петей. Они ласково заговаривали с ним, просили его не забывать их, написать им, как люди живут в Москве, при случае прислать гостинцев. Шестилетний Федюшка несколько раз принимался реветь во все горло: «Не надо Петю! Я хочу в Москву!»
Даже старая бабушка и та, казалось, радовалась перемене в судьбе любимого внука.
– Слава тебе Господи! – набожно перекрестилась она, услышав о предложении господ: – услышал Бог мои грешные молитвы, Петенька мальчик добрый, разумный, его только на дорогу вывести, а здесь какая ему жизнь, совсем пропадет!
Видя как довольны все окружающие, Петя чувствовал, что ему следует радоваться, а между тем в душе его было гораздо больше страха и тоски, чем радости. В день отъезда, когда настала минута прощанья с родными, страшная тоска вдруг овладела им. Он спрятался за высокую кровать матери, уцепился за нее руками и, дрожа всем телом, судорожно рыдая, повторял: «Не надо, не хочу, не поеду!» Агафье Андреевне пришлось силой оторвать его руки от кровати, накинуть на него пальто и шляпу, присланные барыней, и почти снести его в экипаж. Очутившись в большом тарантасе, среди господ, поняв, что всякое сопротивление невозможно, Петя впал в какое-то оцепенение. Сухими, безучастными глазами смотрел он на родных, собравшихся проводить его, не заметил как лошади тронулись, как промелькнули мимо экипажа знакомые избы деревни, речка; церковь, роща. Александра Петровна что-то спрашивала у него, дети о чем-то заговаривали с ним, он ничего не понимал, ни на что не отвечал. Когда он очнулся от этого оцепенения, родное село, знакомые места давно исчезли из глаз, вокруг него все было новое, чужое: и дорога, по которой быстро катился экипаж, и люди, сидевшие вместе с ним в этом экипаже. На него никто не обращал внимания. Федор Павлович дремал, прислонясь к углу тарантаса, Александра Петровна о чем-то оживленно разговаривала с гувернанткой на незнакомом ему языке, Витя и Боря вспоминали, какие игрушки оставили на городской квартире.
Чувство одиночества в первый раз охватило мальчика; он понял, что очутился среди совсем чужих людей, у которых свои собственные дела и заботы, свои собственные радости и горести, недоступные ему. Это чувство не покидало его во все время пути и еще усилилось, когда из экипажа вся семья пересела в вагоны железной дороги, и поезд с шумом и свистом помчался по рельсам. Петя никогда прежде не видел железной дороги, не имел о ней никакого понятия; и шум локомотива, и клубы дыма, и быстрое движение, и «комнаты на колесах», – как он мысленно называл вагоны – все пугало его, все приводило в недоумение. Он не мог удержаться от восклицания ужаса и удивления. В ответ на это Витя с Борей громко расхохотались, а Александра Петровна и гувернантка посмотрели со снисходительной улыбкой на деревенского мальчика. Пете стало стыдно и обидно; он замолчал и постарался не выказывать больше своих чувств.
В Москве он очутился среди массы незнакомых предметов и лиц; ему пришлось привыкать к совершенно новой обстановке, к новому строю жизни. Он окончательно растерялся. Из застенчивости, из боязни насмешек, он не решался делать вопросов, высказывать удивления. Он на все смотрел, все принимал холодно, безучастно, а между тем чувство отчужденности, сиротливости сильно давило его. И часто, улегшись спать в просторной, светлой детской, он подолгу рыдал, уткнувшись в мягкую пуховую подушку, и страстно хотелось ему перенестись в свою тесную, душную хату, на жесткий войлок, служивший ему постелью в родном доме.
А между тем никто у Красиковых не делал ему никакого зла. Правда, Витя и Боря смотрели на него несколько свысока, так как он был слабее их и не понимал многого из того, что они знали, но и мать и гувернантка строго следили за тем, чтобы они не обижали его; он и ел, и спал, и учился вместе с ними; был одет так же, как они, и пользовался одинаковыми с ними удовольствиями.
«А все-таки я им чужой», – думалось ему, пока он ворочался в постели, стараясь найти ответ на вопрос Александры Петровны. – «Они держат меня так, из жалости, а умри я сегодня ночью, они наверно пожалеют обо мне меньше, чем жалели в прошлом году о своей моське. Она говорит, я их чуждаюсь. Ну, так что же? Это правда! Только разве я виноват? Я для них лишний, чужой, ну, и они для меня чужие…»
И с этим тяжелым чувством наконец заснул бедный мальчик.