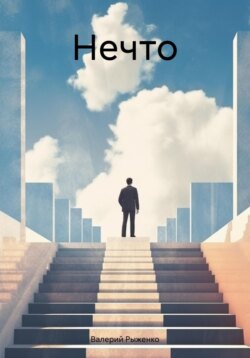ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Словно вихрь взметнулся в посёлке и ураганом промчался по домам, когда посельчане узнали, что Анатолий Петрович Задоров исчез. Самый что ни на есть правильный мужик. Убийство? Искать.
ПОИСК
Поиск! Это пробуждение новой жизни! Вспышка! Взрыв! Полёт. И понеслось. Глаза то разбегаются в стороны, то собираются в кучку, сердце колотится так, что душа дробится. Нервы напряжены, слышно даже, как они звенят. Мозги разламываются. Мысли схлёстываются друг с другом. Чувства наседают. Вот оно! Нашёл! Из бури вынырнуло. Захватил взглядом, тащишь. Осечка. И снова рвёшься вперёд до тех пор, пока не начнёшь понимать: то, что ты искал, вообще, не существует в природе, но ты не побеждён. Не сломлен. Ты сделал пустое открытие, но жил всеми ощущениями, чувствами: надеждой, верой…, мыслями, а не бултыхался в известном.
Вначале посельчане стали думать, но так, как мысли были разные, порой доходили до самых крайних противоречий, и сплести их в одну не удавалось, каждый стоял на своём, утверждая, что его мнение самое верное, а согласиться с другим в такой таинственной области, как истина дело трудоёмкое и порой даже не подъёмное не только для мужика, а даже для сверхмужика, то решили: споры прекратить, мысли отложить и установить правду опытным способом: бросились в поиски.
Что было особенным в поисках Петровича, так это настырность, нет, не просто настырность, а сверхнастырность и сверхпристальное внимание посельчан ко всем местам, где мог оказаться пропавший. До этого тоже из посёлка исчезали, но исчезновения были на виду: на свете – суд, кладбище, словно чёрные дыры, в которые, если попадёшь, то выскочишь, Бог знает где, и Бог знает кем, да ещё в каком виде, а с Петровичем всё было погружено в сплошную, непроницаемую темень. Ни одного проблеска. Так что дело заключалось не, сколько в его поисках, а в выяснении обстоятельств исчезновения Петровича.
Посельчане рассуждали так. Поскольку Анатолий Петрович Задоров был мужиком, то и вопрос стоял: при каких обстоятельствах исчезает мужик, и не те ли это обстоятельства, при которых могут исчезнуть все мужики? Это сильно беспокоило посельчан. Особенно мужиков, потому что они крепко были привинчены к бабам, без которых не ладилось никакое дело. Бабы были спокойней. Мужики так часто отлипали от них, что они порой утверждались во мнении, что мужиков вообще не существует.
Первый шаг посельчан был обдуманным. И главное: наработанным, не дававшим сбоя. Может быть, Петрович где-то завалялся, перезагрузившись самогоном. Петрович – малопьющий, но случалось: в праздничный день, а праздничным днём было получение пенсии, так закладывался, что ноги в верёвку заплетались.
Заглянули в бусугарню (поселковая пивная): хорошее здание из белого камня, с рекламными стенами, разрисованными русскими богатырями, но не с мечами, как было до революционного побоища, а с пивными кружками и не в доспехах, а в железнодорожных тужурках.
Реклама очень нравилась мужикам, потому что богатыри были тоже, как уже сказали, в железнодорожных тужурках и штанах, как у них и с такими же лицами. Это была, самая что ни на есть народная реклама. На бабьи скандалы, когда загрузка сильно утяжеляла мозги и смещала центр тяжести, мужики отвечали: богатыри пили, а мы что не русские богатыри, да мы… Они забивали баб патриотичными словами и, кувырнувшись в кровать, засыпали, кто богатырём, кто патриотом, а кто одновременно и богатырём, и патриотом.
Как и бывает в тщательных поисках в бусугарне перевернули все столы и стулья – не залежался ли Петрович на полу в позе отдыхающего от сильной шаткости ног, не застрял ли в пустой пивной бочке, не провалился ли сквозь щель в подвал, не закатился ли под прилавок, обошли её кругом: не приклеился ли к стене, распотрошили сиреневые кусты: не застрял ли в ветках. Пошарили в посадках: может, свернувшись калачиком, под кустом спит. Дорога под колеблющимися ногами порой «бунтовала» и не то, что в кусты, даже под забор выбрасывала, а иногда и для сна служила.
Потыкали баграми в речку и вытащили немало мусора: автомобильные шины, сломанные тачки, колёса от телег, дышла, продырявленные вёдра, проржавевшие серпы и молоты – всё, что раньше работало, а потом соскочило, но, так как в посёлке хватало своего мусора, то его кучковать и вывозить не стали, а опять спихнули в речку. Вид её этим не испортишь. На поверхности вода чистая, а на дно никто не заглядывает.
Нагрянули в депо. Обследовали токарные станки, фрезерные: не подхватили ли резцы и фрезы Петровича, станки постаревшие, «ослепшие» не помяли ли организм, случалось ведь, что резцы выскакивали и разрисовывали токаря такими узорами, что мужики вздыхали и говорили: последняя роспись. Не забыли и кладовые, деревянный уличный туалет, продули вентиляционные трубы: не затянуло ли ненароком. Обследовали крыши домов, потому что слышали: раньше, а когда именно раньше, просто раньше, на крыши домов крыщевались инопланетные корабли. Из них вылетали инопланетяне с третьим глазом, а зачем им нужен был третий глаз, если и двух много, заходили в хаты, вели себя скромно, прилично, не хулиганили, садились за стол, выпивали, но никого не забирали, а в этот раз, может быть, сел какой-то на какую – то хату и умыкнул Петровича.
Словом, проверили все углы и закоулки в надежде, что жизнь Петровича на время спряталась в них, но жизнь не нашли, зато разговоров о жизни через край хватило.
На этом поиски не кончились. Мужики и бабы в посёлке были упрямые, на дело хваткие, что и доказали, перевернув всё вверх дном в хате, хозяйственных постройках Петровича. Провели самый углублённый глазной и бинокулярный осмотр, даже до ручного добрались, да так скрупулёзно, что в доме Петровича и в подворье загуляли тишь и пустота. А что в пустоте искать. Если кто-то подумает, что вещи украли, то это совсем не так. Хозяина нет. Почему вещи должны страдать от пыли, гниения. За ними уход нужен, забота. А главное память, чтобы не запустить её до забвения Петровича.
При поиске в доме были некоторые странности, но никто не обратил на них внимания, а обратить было нужно. Может быть, не случилось того, что случилось дальше. Мебель оказалась такой тяжёлой, что мужики вытаскивали её, обливаясь потом. Даже скамейку, сколоченную из трёх досок, на которой любил вечерами отсиживать Петрович, углубляясь в мысли, почему жизнь так быстро текуча, удалось оторвать от пола не одному, а пятерым мужикам, но мы сами бы и не оторвали, говорили потом они, если б не какая-то нам помогла сила. Они пять раз вытаскивали огромный деревянный шкаф на улицу, но, возвращаясь в дом, заставали шкаф на том же самом месте. «Чудо», – говорили мужики, на что бабы отвечали «Перебрали вчера в бусугарне вот вам и чудится». Всё происходило впопыхах, спешке, очень похожей на разгром, а поэтому о мелочных вопросах, что, да как не задумывались.
– А почему мы ищем сами, – задумались посельчане. – Для таких дел имеется полиция.
Поиски полиции, начавшись утром, под вечер прекратились, так как все полицейские утверждали, что, когда они искали Петровича, их охватывал такой страх, что они готовы были бежать куда угодно. Заставить полицию продолжить поиски, это было всё равно, что вытащить зубами двухсотмиллиметровый гвоздь, загнанный по самую шляпку. На полицию махнули рукой: зарядились вчера вечером крепко в бусугарне, утром не похмелились, а на не похмельных не только страх наскакивает, сам чёрт в душу ввинчивается.
Дело вновь откатилось в руки посельчан, и они решили добраться до конечного выездного пути из жизни: кладбища. Может среди крестов затерялся Петрович. Крест силу имеет. Если прихватит кого-нибудь, то, как не цепляйся за поверхность земли, он всё равно оторвёт и вглубь утащит.
Добрались до кладбища и обомлели. Мать твою! Как понимать? Вытащили из постели самого умного человека в посёлке Парамоновича, а почему самого умного, потому что другого умного не было и спросили, что же это такое? – но он промолчал.
Могилка, венки, памятник, надпись: Анатолий Петрович Задоров. Да ещё какой памятник! Не из листового железа сваренный, а мраморный. Дорогой. Где же Петрович такие деньги загрёб? Характера был не мутного, а чистого. Да и хозяйство было не в размахе. Хата, огород и велосипед послевоенный. А самое непонятное, как он оказался на кладбище? Вопросов было так много, что у посельчан совсем выветрились остатки толка. Плюнули они на это дело и решили, что распутывать дальше не станут. Так и остались бы посельчане при мнении, что Петрович каким-то неизвестным образом умер, и кто-то неизвестный тайком похоронил его или он сам себя похоронил, если бы не пришли две телеграммы от него.
– Непонятно, – единодушно выразились посельчане, прочитав первую телеграмму. – Он что? Могилку сам себе копает и памятник себе ставит, а потом сам себя хоронит. Зачем? Чтоб мы посчитали его умершим? Хорошо – посчитали. Затем он направляет вторую телеграмму, что он живой. Зачем? Чтобы мы посчитали, что он живой. Хорошо – посчитали. Так живой он или умер?
ПЕТРОВИЧ
А началась эта необыкновенная история с Петровичем, несколько дней назад до обнаружения его загадочного исчезновения. С июльского тёплого, со свежим воздухом утра с таинственным светом, который не плавно и ровно растекался, а мерцал. Временами превращался в темень, а потом снова высветлялся, и, поколебавшись с часок, набрался сил. Покатилось утро.
Да ещё какое утро. Голубоглазое небо, с пушистыми облачками, похожими на ресницы. Необъятное, подобно чисто вымытому безграничному зеркалу.
Анатолий Петрович – мужик спокойного уклада, бессемейный и силы через край, выйдя на порожки, осмотрел двор. Обычный. Перевёл взгляд на палисадник. Ничего особенного. Только небольшое туманное облачко над кустами сирени. Наверное, сосед баньку запустил. Она сильно дымит у него. Ветерок вырвал кусок дыма и занёс. Петровичу зорче бы приглядеться к облачку, да здоровье на первом месте. Решил поддержать организм самовнушением.
Это было его самое любимое занятие, он видел в нём неразрешимую проблему медитации и самовнушения, которыми увлекается сосед. Медитирует с утра до вечера над бутылками самогона, а вечером внушает жене, что он трезвый.
Петрович поднял руки вверх и решил представить себя молодым: парень в кепке и зуб золотой, но неожиданно сорвался с порожек, Порыскав обозлёнными глазами, схватил прислонённую к стене увесистую палку и, вращаясь, начал бешено размахивать вокруг себя, разъярённо выкрикивая: да отстанешь ты от меня, что прицепилось, мать твою.
Странный поступок. Возле Петровича никого нет, пусто, а он со всей силы дубасит воздух и кого-то пытается прогнать. В чём дело?
С некоторых пор – Петрович точно не помнил, с каких пор, но именно с тех пор – он стал ощущать, что – то не ладное за спиной. У него сложилось впечатление, что за ним будто кто – то ходит, толкает в спину и на ухо что – то непонятное шепчет. Временами Петрович даже чувствовал сильное бурление за спиной, похожее на бурчание небольшой речки, преодолевающей пороги. Вначале он становился спиной к зеркалу, но что могло показать зеркало? Оно показывало то, что могло. А именно: кожу, натянутую на увесистые, костистые рёбра и растопыренные лопатки, похожие на крылья, которые бывают у птиц среднего размера. Потом он стал оглядываться, но никого не примечал. Щупал рукой, но никто не попадался. Прибегал и к жестоким мерам. Хлестал спину ремнём, но никто не кричал «Ой», а только Петрович. Он думал, что со временем пройдёт, но время шло и, наконец, так подпёрло, что Петрович решил сходить в поселковую больницу.
ПРОКУРОР, ЛЮБОВЬ И МИСТИКА
Выйдя из дома и пройдя мимо мелколиственного сиреневого парка, стадиона, местами выстриженного, местами запутавшегося в бурьяне, Петрович остановился возле школы: двухэтажного блочного здания с потемневшими от дождя стенами с редкими светлыми прогалинами, директор которой был Осадчий Михаил Иванович, попавший в этот день в необычную и одновременно в высшей степени безобразную и позорную ситуацию.
После переезда Михаила Ивановича из города в посёлок, причина переезда была скрыта, но ушлые и пронырливые посельчане докопались: из – за медитации, которой занимался сосед Петровича. Посельчане, недолго думая, обрезали его фамилию, оставив «Оса». Со временем поняли: на «Оса» не тянет, искать подходящее название не стали, главное: был бы он крепким директором, а крепким в понимании посельчан директор, который задавал бы такую сильную запарку школьникам, чтобы из неё вылетали только отличники.
– Лизун, – бросил Петрович, глядя на окна директорского кабинета.
Было и другое слово, но Петрович не любил грубых слов. Не то что грубых, а тех, в которых человек высвечивается, как дворовой поселенец в будке или с рогами.
– Отпороть бы тебя хворостиной.
– Это можно.
Анатолий Петрович крутнулся. Осмотрелся. Никого, но голос – то был. Он что? Уже стал разговаривать сам с собой. Это слегка подорвало его, но в разнос не понесло.
Такое мнение (лизун) было связано со следующей историей.
Несколько лет назад в посёлок назначили нового прокурора Ивана Александровича Засуху: здоровенного мужика. Дебелого.
Правую ногу ему отстегнули на войне и заменили на деревянный, дубовый протез со множеством кожаных ремешков и железной подковкой, звяканье которой буквально истощало нервы мужиков. Они сильно побаивались протеза, называли его дюже чрезмерной тяжеловесной дубиной, которая может не только мужика округлить в бублик, но и переплюнуть русскую народную пословицу: горбатого не исправить. Исправит. Бабы же возлагали немалые надежды на протез, который, как они надеялись, часто будет появляться в бусугарне, чтобы наводить в ней хоть мало мальски вино – водочный – пивной порядок. Либо кружка пива, либо стаканчик водки или стаканчик вина. Все в единственном числе, но не во множественном.
Прокурор с виду был суров: крупное лицо, нависшие густые проржавевшие брови и бульдожий подбородок, душой большой добряк, а проявлялось это в том, что в бусугарне он порой добре закладывался, да так, что протез отстёгивался сам и бродил между мужиками, пытаясь найти своего хозяина. Буфетчица Архиповна в цветастом платье и с огромным карманом, в котором вполне мог поместиться кассовый аппарат, в таких случаях вылавливала его и прятала под стойку, утром прибегал посыльной и, захватив под мышку деревянного помощника прокурора, благодарил её прокурорским словом, которое сильно впечатляло, и она часа два не могла прийти в себя. А почему? Потому, что жена прокурора утверждала, что сам протез отстегнуться не может, а спрятаться под стойкой тем более, и это дело распушённой и развратной буфетчицы, ухлёстывающей за мужиками и приманивающих к себе разными приворотами: мешаниной пива с водкой, полынными настоями и зверобойной закваской. Она прибегала даже к крайним мерам: посылала повестки буфетчице: немедленно явится в прокуратуру, но указывала свой домашний адрес. Архиповна отписывала, что адрес не разборчив, а протез все отстёгивался и отстёгивался…
Однажды, прокурор пришёл в школу, окинул взглядом внешний вид, сказал, что стены кирпичные, это хорошо, ну, перепутал прокурор кирпич с блоками, что ж тут такого, сильно крепкие – тоже хорошо, прошёлся по коридорам, похвалил вымытые окна, не скрипучие полы, покрашенные потолки, они тоже оказались хорошими, в учительскую заглядывать не стал, учителя были неплохие, и, побросав уроки, гурьбой выскочили приветствовать цветами. Прокурор вскользь заметил: его жена очень любит большие букеты роз с конвертами, а что в конвертах прокурор не сказал, на то учителя и есть учителя, чтобы такие загадки решать, он, как бывший военный предпочитает запах пороха, но так, как пороха в школе не оказалось, не пришло ещё его время, это чуть не сорвало дружеское отношение, но директор вовремя подкатился и сказал, что на следующий день откроет в спортзале стрелковый тир с мелкокалиберками.
– Они малосильны по пороху, – заметил прокурор, – но я договорюсь с полицией.
В кабинете директора прокурор, подняв деревянный протез, примостил его на место Михаила Ивановича, оставив Осадчего без стула, не забыв при этом вежливо спросить: не потеснил ли он его, на что директор ответил: кабинет очень просторен, и в нём может вместиться даже вся школьная футбольная команда: символ школы, которая очень заинтересовала прокурора и вызвала большое любопытство. Последовали вопросы, а хорошо ли играют защитники, нападающие, на высоте ли вратарь, какие призовые места занимают, и кто капитан, и справляется ли он со своими обязанностями?
В этом месте Михаил Иванович быстренько смекнул: от его неправильного понимания обязанностей капитана могут пострадать и его обязанности, и чтобы избежать назревающей проблемной ситуации лихо щёлкнул каблуками, вызвав тем самым одобрение на лице прокурора, то есть поближе подобрался к прокурорскому духу и сказал: нынешнего капитана, не понимающего, что призовые места это заслуга всей команды: дружного и сплочённого коллектива, а не заслуга капитана, он переводит в нападающего (в то время капитаном был Толька, т.е. нынешний Петрович), а на его место назначает нового, более заслуженного и ответственного товарища, очень опытного.
– Кого? – спросил прокурор, нагромождая протез на здоровую ногу.
– Вашего сына, – чётко отрапортовал Михаил Иванович. – Видел его в деле. Может работать за всю команду.
Директор врал. Видеть, то он видел сынка, но не в деле, а когда тот, проходя мимо него, бросил: привет, дядя.
– Вам нравится наша школа? – проглотив поднявшуюся в душе злобу, спросил Михаил Иванович.
– Прокурор сказал, что большего дерьма, чем Ваш гадюшник он не видел. Учителя распустились. Разучились ставить мне пятёрки, но он обещал мне их научить.
Толька, узнав о своём смещении, взял бутсы, зашёл в кабинет директора и положил их на стол. Михаил Иванович попытался объяснить ему силовую логику жизни.
– У Вас не логика, – бросил Толька, – а подхалимство.
Какие слова! Непростительные. Обозначимся и так: запустившие глубокие корни в память Осадчего. Разговор происходил один на один. Трезвонить директор не стал, но впервые проявил осиный характер, запустив жало в слова десятиклассника, превратив их в тройки в аттестате по всем предметам.
В команду Толька не вернулся бы: не из – за обиды, и не потому, чтобы помочь команде, которая после его ухода стала откатываться на последние места, он вернулся, так как вместе с ним училась Настя Кудрявцева.
Загляденье, а не дивчина. Никто не мог так заразительно хохотать, как она, играть большими серыми глазами с пушистыми длинными ресницами. Никто не мог так заплетать косы, укладывая их на голове, как говорили учителя: каким – то изящным чертополохом, не бояться учителей, не подлизываться. Она была с мальчишескими замашками. Пацанка. Хлопец. Настюха, но только не Настенька. «Ласково, – говорила она, – но с жалостью, а я не люблю, когда меня жалеют, сама за себя постоять могу». Вместе с Толькой она свинчивала самопалы и стреляла в балках, навешивала жаркие оплеухи назойливо пристававшим к ней. Лихо гоняла на лошадях во время летних каникул.
– Тебе что главное, – сказала она, узнав отказ Тольки от игры. – Капитанство или голы забивать? Припаривай так, чтобы ворота трещали, и вратаря выносило.
И Толька припаривал. Настя отбивала ладони, когда толькин улар по мячу, словно превращал его в разрывавшее воздух разъярённое пушечное ядро. Отбивала бы Настя ладони и на их свадьбе, но астма заломила её горло, стала комом, не вышибешь. заледенила глаза и охладила руки. Вышла она на свет на мгновенье, но как же много радостного и горького сумела выхватить в это мгновенье.
Если бы Петрович зашёл в кабинет директора, то услышал бы очень интересный разговор, но он не зашёл. А зачем. Насти нет в школе. Настя в другом месте. Отсюда видно. За железной дорогой. В оградке с памятником, на котором было высечено её лицо с едва заметной улыбкой. Что обозначает её улыбка? Хлещет дождь. Сечёт снег. Бьёт ветер. А улыбку не смывают и не сбивают. Не отрывается она от лица. Держит её Настя. Не хочет в Настасию Ивановну превращаться.
– А я вот стал Анатолием Петровичем, – говорил он, приходя к Насте. – В посёлке кличут просто Петрович. А шевелюра осталась прежней. Помнишь, как ты меня за неё таскала, а я тебя за косы. – Петрович не отрываясь, смотрел на улыбку Насти.
А кому она предназначалась? Ему. Толька так и не женился. Жил один, но не завяз в одиночестве. Он отмечал с ней её и свои дни рождения, ходил с ней на праздники, гулял в поселковом парке. Выбирался в степь и балки, а вечерами, сидя на порожках, рассказывал, как обрушивается темень и высекаются звёзды. Её последние слова были: живи за нас двоих. Близок памятник, к нему тропинка протоптана – дойти можно, но до Насти, сколько не иди – не дойдёшь. Нет такой тропинки.
– А, может быть, все совсем не так, – часто думает Петрович.
Может быть и не так. Человек несоизмерим со Вселенной. Он штрих на линейке бесконечности, пробивает дорогу в неизвестное и ставит точку на холмике земли. А как же быть с неизвестным?
За школой высился двухэтажный коттедж директора школы. По обе стороны его стояли ещё коттеджи.
– Всё строят и строят, – сказал Петрович. – А школу обновить не могут. Говорят, что денег нет.
Ошибаешься Петрович. Крепко ошибаешься. Деньги имеются кое у кого, а у кого, а вот у этого.
Михаил Иванович Осадчий вздрогнул, когда услышал скрип двери. В последние годы он часто стал вздрагивать, знал: в жизни много дверей. Одну откроешь, войдёшь и выйдешь, а в другую войдёшь и не выйдешь. Вот такой двери он и боялся.
В кабинет, тяжело ступая, зашёл огромного роста мужик с густой многоцветной (седая, рыжая, чёрная…) бородой до пояса, молча подошёл к Осадчему, поражённого колоритным видом, протянул крупную руку, пальцы которой были похожи на клешни рака, дружески похлопал по спине, обнял, напустив в лицо клубы воздуха, пропитанные крепким, удушающим сигаретным запахом (сигареты «Космос», которые курил и Осадчий).
Михаил Иванович почувствовал ледяной холод во всём теле, когда руки его и мужика сомкнулись. Иванович напружился, так что лицо кровью налилось, и с оставшейся силой выдернул руку, опасаясь обморожения. Его смутило то, что от мужика не исходило тепло, он словно находился в ледяной оболочке, но заостряться на этом не стал.
– Присаживайтесь, – сказал Осадчий.
– Не могу присаживаться, когда передо мной стоит самый умный человек в школе.
– Ну, почему самый умный? – как бы недоумённо ответил Михаил Иванович, чувствуя разливающийся в груди восторг.
– Да потому, что Вы директор школы. Дурака не назначили бы.
«Он может рассуждать логически, – подумал Осадчий, – с таким приятно разговаривать. Интеллектуально насыщенный человек».
– Я тайно побывал во многих школах, – бросил незнакомец. – И заметил, что у директоров школы особенное выражение на лице.
– Какое?
– А Вы скоро увидите его на своём, – развязано сказал мужик.
Осадчий хотел уточнить, но ему же сказали: скоро увидите. Нужно проявить тактичность.
– Вы, наверное, недавно приехали в посёлок, – учтиво начал Михаил Иванович, – и решили избрать нашу школу (а что избирать, если она одна в посёлке). У Вас дочка или сын?
– Ни то, ни другое, – небрежно бросил вошедший, забрасывая «радужную» бороду за правое плечо, словно шарф. – У Вас отличная школа. К тому же очень спортивная.
Михаил Иванович понадеялся на дополнительную похвалу, футбольная команда школы всегда занимала первые места, так как он перед началом игры подходил к арбитру и показывал снимки футболистов, во главе которых стоял сын прокурора, и с нажимом бросал: понимаешь?
Надежды Осадчего не сбылись. Он попал под сокрушительный удар, от которого мысли в его голове, словно закипятились.
– Я не завожу детей, боюсь, что они попадут в такую же школу, как и Ваша, а в такой школе, как Ваша им повредят интеллект, – мужик перебросил бородатый «шарф» с правого плеча на левое. – Я видел некоторых Ваших выпускников в бусугарне, как говорят в народе: в стельку пьяными и драчливыми.
– При чем здесь бусугарня? – взвился Михаил Иванович, пытаясь понять, что происходит.
А происходило нечто странное. Именно: вошедший вёл себя бесцеремонно, словно в своём хозяйстве. Хвалил и в тоже время так прикладывал, что раздваивал мысли и чувства Осадчего. Что он хотел? Чего добивался? Не от скуки и нечего делать зашёл. Имеет же какую – то цель. От вопросов мысли таким вихрем носились в голове, что потрескивали волосы.
– Вы выпускаете ущербные интеллекты, можно даже усилить: интеллекты вседозволенности, – начал мужик, прижигая взглядом с металлическим блеском Михаила Ивановича. – Я думаю, Вам известно, что такое ущербный интеллект и интеллект вседозволенности. Вот у Вас, какой интеллект?
– Перестаньте нести ерунду, – вспыхнул Осадчий. – Говорите, зачем пришли?
– А, чтобы расширить Ваш интеллектуальный кругозор хворостиной, проще говоря, отпороть, – небрежно и спокойно бросил мужик. – Так сказать: наказать. – Он залихватски прищёлкнул пальцами.
Осадчий оторопел и уставился на него. Вначале изумлённо от вида наказания, а потом дико от страха. Разговор хотя и был неприятным, но Михаил Иванович не нашёл в нём ничего такого, за что его нужно было бы отпороть хворостиной. Найти – то он не нашёл, но чувство опасности пробило.
«Бежать, – мелькнула мысль, – бежать без оглядки, – мысль удвоилась, – а вдруг мужик погонится за ним. С него станет. Завалит в коридоре и на виду. Позор». В разыгравшемся воображении Михаила Ивановича застряла омерзительная картинка: голый, растянувшийся на полу под взлетающей вверх и опускающейся вниз хворостиной в окружении аплодирующих, зубоскалящих учителей и пронзительно свистящих школьников.
Желание бежать перерастало в желание мчаться и чем быстрее, тем лучше. Осадчий так бы и сделал, он уже приготовился ударом головой в живот снести мужика, но Михаил Иванович всё – таки был не совсем глупым. Спасла мысль
«Ага, – лихорадочно подумал он. – Ясно. Ненормальный, псих или после бусугарни мозги заклинило, там такое бывает: сидишь, пьёшь пиво, а тебя ни с того, ни с сего кулаком хрясь и в лом», – добавил, криво улыбнувшись.
Любопытство одолело.
– А за что меня пороть, извольте спросить?
– О, – воскликнул мужик. – Вы не знает за что? Вы польстились на прокурорского сынка, а моего кореша турнули из капитанов, но это быт, а интеллектуальная составляющая. Ваше письмо в Министерство образования о сказках, разве это не причины, чтобы отпороть Вас?
«Откуда он знает о письме, – завибрировал Михаила Ивановича, – он из Министерства».
– Нет, нет, – ответил мужик, словно читал его мысли, – я не из Министерства.
Он посмотрел через окошко на Петровича, разглядывающего школу, зацепил взглядом подъезжающий к станции тепловоз с двумя вагонами, на одном было написано огромными буквами «Интеллектуальный поезд».
– Я любитель сказок, и был сильно возмущён Вашим письмом.
– Это было не личное, а согласованное письмо, – завертелся Осадчий.
– Ну, да. Вы его согласовывали с прокурором и начальником полиции. С интеллектуальными пройдохами. Мне думается, что кляуза на них была бы поуместней. Прокурор ещё сказал, что всех сказочников перебил бы протезом, а оставил бы одних прокуроров и начальников полиции.
Михаила Ивановича продрал страх. Мужик слово в слово повторил сказанное прокурором. Как узнал?
– А узнал просто. – Борода с левого плеча перескочила на правое. – Прокурор и начальник полиции надрались в бусугарне и разболтали.
«Врёт. Вчера бусугарня была закрыта. Архиповна болела».
Михаил Иванович дёрнулся к двери.
– Да что Вы так волнуетесь. Вчера бусугарня была закрыта, но они говорили об этом раньше.
Михаил Иванович, облегчённо вздохнув, успокоился, но последовала новая атака.
– А что Вы с прокурором и начальником полиции в письме Министерству предлагали. Запретить читать такие сказки, как «Дюймовочка». «Малыш и Карлсон». Это же шедевры. «Малыш и Карлсон» особенно хорош, но вы написали: сказка отрицает традиционные семейные ценности, формирует неуважению к родителям. Воткнули «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна». Они, по вашему мнению внушают детям мысли о бродяжничестве, а сказка про «Колобка» содержит элементы физического насилия. Это Ваш интеллект Михаил Иванович. Он разваливает интеллектуальные ценности. Вернее, разваливает сознание. Разве Вы не достойны хворостины. Ну, чем плох Карлсон, – насел мужик. – Такой симпатичный. Вы только представьте.
Осадчему показалось, что мужик сузился, снизился, на спине появился пропеллер.
– А мучительница, какая прекрасная дама, – не отставал мужик. – Вы же любите дам? Любите. Я знаю, у Вас имеются одна мучительница, которая не отзывается на Ваши позывы, и Вы всячески стараетесь изгнать её из школы.
А это откуда?
Шум пропеллеров затих. Карлсон исчез. Вместо него появился Колобок. И, наконец, Том Сойер и Гекельберри Финн с сучковатыми палками.
Михаил Иванович затряс головой, чтобы выбить видения, особенно пугали Том Сойер и Гекельберри Фини.
– Скажите им, чтоб они убрали палки, – заорал он.
– Это кому Вы кричите? Кроме Вас и меня в кабинете никого нет. От страха у Вас галлюцинации. Осмотритесь.
Осадчий осмотрелся. Мужик был прав.
– Я вызову полицию, – вскинулся он и броситься к телефону.
Телефон исчез.
– А полиция уже тут.
Осадчий резко повернулся на голос. Перед ним стоял знакомый полицейский: младший лейтенант Афанасий Митрофанович Трутень, держа руки за спиной.
– Это ты, Афанасий? – усиленно протирая пальцами глаза, спросил он. – А как ты здесь оказался?
– Я полчаса стою тут, вызываю Вас на разговор, а Вы бормочите и в сторону смотрите.
– А где мужик с бородой? – Спохватился Михаил Иванович и завертел головой. – Он сейчас со мной говорил.
– Не было никакого мужика. Это Вам показалось.
Михаил Иванович вытер с лица лившийся потоком пот, и хотел облегчённо вздохнуть, но его упредил Трутень.
– Красивая пряжа у Вас на столе. Моей бы жене такую. Она мастерица по вязанию.
– Какая ещё пряжа, – буркнул Осадчий. – У меня не прядут, а учатся. – Он зацепил взглядом стол и обомлел.
На столе лежала не пряжа, а борода. Да, да. Та самая, которую таскал мужик. Выходит, что мужик здесь был. Если бы не был, то и бороды не было. Ох, как плохо было Михаилу Ивановичу. Собрав остатки сил, он выплеснул.
– Может быть, это кто-то из учителей мне принёс для моей жены? Она тоже вяжет. Но, – снова спохватился он, – это же не пряжа. Это борода.
– Хорошая борода для деда Мороза, – сказал Трутень – Кто-то из преподавателей притащил.