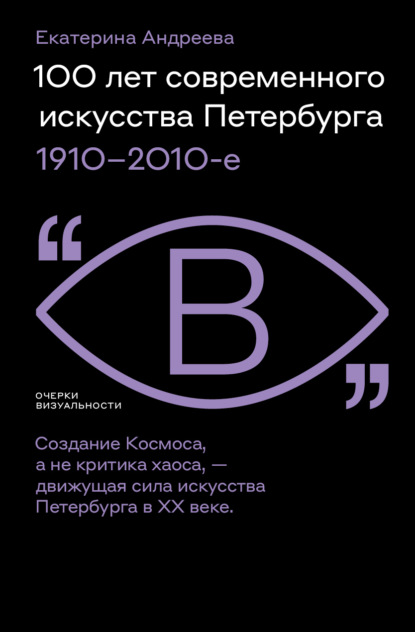000
ОтложитьЧитал
УДК 7.03(470.23-25)«19/201»
ББК 85.103(2-2Санкт-Петербург)6
А65
Редактор серии Г. Ельшевская
Екатерина Андреева
100 лет современного искусства Петербурга. 1910—2010-е / Екатерина Андреева. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – (Серия «Очерки визуальности»).
Есть ли смысл в понятии «современное искусство Петербурга»? Ведь и само современное искусство с каждым десятилетием сдается в музей, и место его действия не бывает неизменным. Между тем петербургский текст растет не одно столетие, а следовательно, город является месторождением мысли в событиях искусства. Ось книги Екатерины Андреевой прочерчена через те события искусства, которые взаимосвязаны задачей разведки и транспортировки в будущее образов, страхующих жизнь от энтропии. Она проходит через пласты авангарда 1910‐х, нонконформизма 1940–1980‐х, искусства новой реальности 1990–2010‐х, пересекая личные истории Михаила Матюшина, Александра Арефьева, Евгения Михнова, Константина Симуна, Тимура Новикова, других художников-мыслителей, которые преображают жизнь в непрестанном «оформлении себя», в пересоздании космоса. Сюжет этой книги, составленной из статей 1990–2010‐х годов, – это взаимодействие петербургских топоса и логоса в турбулентной истории Новейшего времени. Екатерина Андреева – кандидат искусствоведения, доктор философских наук, историк искусства и куратор, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея.
ISBN 978-5-4448-2302-4
© Е. Андреева, 2023
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Предисловие
Словосочетание «современное искусство» в Петербурге исторически связано с известным событием 1903 года: тогда на Большой Морской стараниями местного общества «Мир искусства» и московских меценатов князя Сергея Щербатова и Владимира фон Мекка открылся под таким названием интерьерный салон. Его образцовые комнаты были созданы знаменитыми российскими художниками Константином Коровиным, Александром Головиным, Львом Бакстом, Александром Бенуа и Евгением Лансере, а в экспозиционном зале устроены были выставки Константина Сомова и Николая Рериха. Предприятие не окупилось, однако в Петербурге – Петрограде – Ленинграде и снова Петербурге идея современного искусства проявила себя навсегда связанной с идеей жизнетворчества или жизнестроения. Причем здесь не только развивался практический промышленный дизайн, но и бесконечно укоренялось понимание того, что преображение жизни зависит не от массового производства, а от интеллектуальной, духовной и телесной практики – непрестанного творческого «оформления себя», если воспользоваться термином Мишеля Фуко.
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей, написанных в течение последней четверти века, несмотря на пафосное название, не стремится охватить всю историю современного искусства Петербурга от авангарда до начала третьего тысячелетия, однако же он достаточно полно представляет творчество художников-мыслителей, «оформивших» не только себя, но и характер петербургско-ленинградской художественной традиции.
В исследованиях современного российского искусства обычно принято в произведениях художников-интеллектуалов, которые в истории культуры создают определенные направления, группы, сообщества, находить концептуализм – критику и деконструкцию художественного языка. Совсем не это заботило творцов Петербурга и Ленинграда в ХХ веке. В искусстве они знали особый род энергии, аккумуляторы которой – визуальные образы, пластические системы, усиливающие энергию жизни, преображающие мир, сообщая ему смысл.
Ось данной книги прочерчена через события искусства, которые взаимосвязаны общей задачей поисков и транспортировки в будущее творческих энергоносителей. Что и позволяет в таком собрании текстов, написанных большей частью по поводу разных выставок 2000–2010‐х годов, сформировать определенную структуру и установить динамику исторического развития.
Вопрос разведки и правильного использования энергии творчества в Петербурге изначально понимали в аспекте экологии культуры и жизни. Органическая концепция русского авангарда, созданная Михаилом Матюшиным, Еленой Гуро, Павлом Филоновым, фокусировалась на универсальной экологии Вселенной, и физической, и духовной. «Расширенное смотрение» Матюшина связывало пространства физической и духовной жизни воедино и представляло именно эту связь залогом победы над энтропией. Практика петербургского-петроградского авангарда способствовала тому, что в Ленинграде конца 1920‐х появляется уникальная всемирная история искусства, написанная Иеремией Исаевичем Иоффе на основе принципа энергетизма. В 1930‐е годы материалистическое понимание творческой силы корректирует Даниил Хармс, формулируя динамику трансфинитного и цисфинитного – в другой системе координат ее можно было бы назвать динамикой символического и реального – и образ прямой, которая ломается во всех своих точках, образуя кривую и круг – символы свободной личной духовной жизни, ускользающей от навязанных идеологических и социальных ограничений. Полувековая история ленинградского нонконформизма, начатая во второй половине 1940‐х Орденом непродающихся (нищенствующих) живописцев, в живописи экспрессионизма, и фигуративного и абстрактного, аккумулирует силу независимых творческих личностей – «человеческой свечности» (Евгений Михнов). В Ленинграде 1940–1970‐х именно «эстетическое инакомыслие» (Татьяна Никольская) делает искусство энергостанцией модернизма, а не отложением советской энтропии.
Вступительная часть книги состоит из статей, посвященных этим основным аспектам петербургской культуры. Наряду со статьями о ее концепциях и направлениях в книге далее собраны тексты о творчестве основных создателей современного искусства Ленинграда, современного не в советском, а в общемировом смысле: Константина Симуна, Евгения Михнова, Александра Арефьева, Тимура Новикова.
Во второй половине 1980‐х Тимур Новиков в названии своих панно «Горизонты» закрепляет образ универсальной, футуристической, влекущей вперед цели, которая, когда канонические ценности европейской культуры испытывают проверку на прочность, помогает сохранить в них гармонию, совершив «перекомпозицию». В 1990‐е он создает Новую Академию Изящных Искусств в поисках выхода из дурной бесконечности постмодернистского релятивизма, осмысляя постмодерн как консервативную революцию ради нового обретения целостности у истоков бытия. В эти годы Ленинград возвращает себе историческое имя, обращается к проблеме своей европейской самоидентификации, становясь одновременно центром новейшего электронного искусства. В 2010‐е проблему подключения силовых полей авангарда к сетям новейшей компьютерной цивилизации исследует Максим Свищев. И Владимир Шинкарев, постоянный смотритель петербургского мифа, с конца 1970‐х неуклонно фиксирует то, как физическая энергия города, его атмосфера, преобразуется в мощь вечности, которую мы знаем благодаря удивительной способности подлинных произведений искусства со временем не ослабляться, а, наоборот, усиливаться, приумножать время.
Кроме этого сквозного сюжета о стратегии петербургского современного искусства пересоздавать в каждом новом историческом моменте космос, а не тратить силы на критику хаоса, книга представляет и локальные сюжеты, возникшие в актуальной художественной практике Петербурга 1990‐х, которые в настоящее время осознаются в качестве магистральных: например, формирование медиальной постправды, постмодернистского образа художника-коллекционера, развитие стрит-арта или создание квир-культуры в поисках идеального сообщества.
Искусство Петербурга, основанное на визуальном образе (в таком городе по-другому и не могло быть), именно теперь, когда вся мировая культура оказалась визуальной по преимуществу, раскрывает свои исторические резервы. Петербургский опыт неоценим и потому, что еще в 1990‐е эталонное актуальное искусство представлялось сугубо текстоцентричным, что вызвало кризис образности. Смыслы и ценности визуальных образов нуждаются в селекции.
Завершаю короткое вступление благодарностью всем художникам, коллекционерам, музеям, галереям, институтам и издателям, которые стали причиной появления этой книги.
Органическая концепция русского авангарда. Некоторые примеры 1
Органическая концепция русского авангарда зародилась в 1910‐е годы и в 1912‐м стала асимметричным ответом на вызов кубизма. В этом году в статье «Канон и закон» Павел Филонов противопоставил механическим и геометрическим основаниям кубизма и кубофутуризма закон «органического развития формы». Как указывал Е. Ф. Ковтун, идеи Филонова развивались под воздействием общения с Михаилом Матюшиным, его первым критиком и идеологом первой группировки петербургских авангардистов «Союз молодежи»2. Матюшин в сотворчестве с Еленой Гуро понимал искусство как функцию одухотворенной природы. В будущем, к которому стремились Матюшин и Гуро, развитие искусства и общества должно было гармонично совершаться на основе воплощения природных размерностей. Поиск этих законов начал осуществляться отделением по исследованию Органической культуры ГИНХУКа, которое действовало в 1923–1926 годах под руководством Матюшина. А. В. Повелихина так определяет смысл этого эксперимента:
Система «Зорвед. Расширенное смотрение», поставленная сознательно Матюшиным как центральная проблема творчества, приводила к созданию своеобразной пластической формы на живописной плоскости, в которой каждый предмет, каждая часть и прежде всего пространство – среда взаимодействуют. Задача – в видимом мире – в реальности увидеть величие, глубину и красоту форм единого порядка, пронизывающего всю Природу, весь Космос без художественной фантазии индивидуализма3.
Круг художников и поэтов, исходивших из «органики», не ограничивается Филоновым, Матюшиным и Гуро, семьей Эндеров, Павлом Мансуровым, Павлом Кондратьевым и Владимиром Стерлиговым. Не менее «органическими» были и законы истории по Хлебникову, основанные на метабиозе, и мечты Малевича, эпически стремившегося обернуться лентами цветной поверхности земли, и «Летатлин»-птеродактиль. Можно сказать, что авангардное сообщество Петербурга–Петрограда–Ленинграда в 1910–1930‐е годы в той или иной степени было увлечено образом органики. «Органическая концепция», объединяющая биологическое и историческое время, социум и природу предвосхищает теорию ноосферы Владимира Вернадского.
Универсализм не противоречил тому, что «расширенное смотрение», зрение-ведание близкий Матюшину заумник Александр Туфанов назвал географически конкретно, сводя его к точке на карте, – ощущением Сестрорецка. Исток органической общности был одновременно стилевым и территориальным, земельным: как изобразительное искусство, так и литература круга Матюшина, прежде всего, произведения Елены Гуро были созданы на границе авангарда с северным модерном и символизмом. Стиль возвращает свою декоративность к истоку и одновременно расширяется в конструкцию мироздания, в очертания бухты и линии горизонта, прочерченных самим Финским заливом и лесистыми грядами Карельского перешейка.
Мест «расширенного смотрения», то есть абсолютных обзора и кругозора, когда видишь затылком, когда мир, кажется, воспринимает все наше существо, а не только глаза, в окрестностях Петербурга действительно много, и одно из самых замечательных было создано во второй половине 1940‐х в Воейково астрономом и геофизиком Николаем Николаевичем Калитиным, отцом Нины Николаевны Калитиной4. Это ротонда Павильона актинометрии, стоящая на холме над необозримыми просторами ингерманландских лесов. До 1941 года геофизическая обсерватория Калитина располагалась в Павловске, где находится рукотворный равнинный пейзаж расширенного смотрения – Новая Сильвия, парк-кругосветка, задуманный и воплощенный Пьетро Гонзага. Калитин, конечно же, выбирал места для своих Дворцов Солнца, исходя из требований науки (он изучал солнечную и земную радиацию, распространение света в пространстве, воздействие радиации на растения), однако эти превосходно подходящие для метеорологии ландшафты неслучайно оказывались столь же идеальными землями «расширенного смотрения».
Пути Матюшина и Калитина никогда не пересекались, хотя они и жили в одном городе и в одно время. Но записи Матюшина 1910–1930‐х годов позволяют говорить о том, что его интересы были, несомненно, близки научной проблематике трудов Калитина. Матюшин, музыкант и художник, осознавал и стремился представить универсальную волновую картину мироздания, обладающую парадоксальной силой быть изменчивой и вселенской, сочетать динамику и единство.
В рукописи Матюшина 1932–1934 годов «Творческий путь художника» читаем:
Глаз видит и чувствует солнце, как полушарие. Вообразил ли кто-нибудь Солнце и с другой стороны? Жутко подумать, что оно и в другую сторону светит и посылает лучи. Голова кружится, точно идешь по узенькой дорожке над пропастью.
А если мы станем разбираться в том, что такое объем, то убедимся, что почти всякий объем состоит из плоскостей, наполненных более или менее плотной массой.
Что такое объем дома, как не шесть плоскостей крыши, стен, пола, отделяющих внутреннее пространство от воздуха и земли.
Если представить себе, как случай объема, дерево, то при новом понимании объема, в своем росте оно покажет победу над плоскостью, вечную борьбу с законом тяжести. Колоссальную энергию роста и движения в развитии и постоянный неуклонный возврат к той же плоскости, при ослаблении напряжения. Из плоскости как бы возникает пружина объема, достигает предела напряжения и исчезает в той же плоскости, дающей дивную силу и жизнь всему.
Но есть ли эта удивительная плоскость – периферия Земли, в то же время и самый совершенный объем?
Земля ничем не ограничена ниоткуда, свободно несется ни на чем не держась, как громадное тело чувствительно меняется, она на ходу как бы покачивается, сплющенная слегка у полюсов. Ее океанские приливы и отливы идут зыбью по всей громадной поверхности. Ее чудовищные горы медленно движутся, то вырастая, то распадаясь. О ее центре мы пока не имеем никакого представления, но вся ее жизнь на поверхности доказывает, что она самый живой и совершенный механизм. Ее форма шара свободна в воздушном пространстве. Все это заставляет думать, что понятие объема начинается от нее.
…Когда Земля поворачивается на восток, уходит от Солнца, происходит чудо прохождения большого объема через малый. Солнце как бы садится в центр Земли и медленно в него погружается.
Земля и Солнце только точки (семена), творящие от своих видимых центров свое настоящее тело в бесконечно великое пространство вокруг.
При прохождении тела Солнца через тело Земли, оно не скользит по Земле лучами, а касается и проходит плотным и пронизывающим телом.
Видимое небо не пустое пространство, а самое живое тело мира, плотности которого мы только не чувствуем. Земная орбита – не след движения тела, а самое тело (костяк) Земли5.
Идеи Матюшина развивает в своих дневниках его ученик Борис Эндер. В феврале 1929 года он записывает следующее:
В моей живописи меня интересует движение в природе, но не то движение, которое дает внешние эффекты, как ветер и бег, а волновое движение, скрытое, но которого не минует никакая жизнь. Движение в природе выявляется как ритм в искусстве. Вот уловить волнение в наблюдаемой вещи и отыскать живописный ритм в ее изображении, может быть, больше всего занимает меня в живописной работе6.
Вначале, в 1910‐е годы, органическая ориентация Матюшина поддерживалась родственной символизму теософской сферой, поисками «четвертого измерения», теорией вибраций, но в 1920‐е увлеченный волной материализма в дематериализованной российской жизни он превращает свое творчество в научный эксперимент, посвященный исследованию возможностей зрительного восприятия, который поможет обновлению и гармонизации человеческого обихода. На основе открытого им в ГИНХУКе сцепляющего цвета он со своей ученицей, художницей и филологом Марией Эндер, пишет справочник по цвету, которому следовали до недавнего времени при окраске ленинградских фасадов. Последователи Матюшина и Марии Эндер создают новый Петербург, «всего лишь» меняя цвет фасадов таким образом, что архитектура обретает светоносность и здания соединяются в гармоничный и просветленный пейзаж.
Этим стремлением к свободе сияющего цветного света «расширенное смотрение» отличалось от другого сферического типа построения пространства эпохи авангарда и авиации: от хлыновского холмизма К. С. Петрова-Водкина, который в 1920‐е годы восприняли его ученики. «Расширенное смотрение» было нацелено не только на динамичную и широкую земную картину преобразования энергий новым человеком, как это великолепно представлял А. Самохвалов, но и на поиск в земной атмосфере лучей-сигналов космического происхождения. Космос же в органической концепции мыслился как бесконечная протяженность творения и мысли о бытии. Именно эту особенность лелеял как самую суть «органической концепции» В. Стерлигов в 1950‐е – начале 1970‐х, посылая в будущее сведения о запрещенной и давно уже ставшей маргинальной практике авангарда. Органический путь для него, как и для Бориса Эндера, был прямой дорогой в царство духа несоветского образца: к космическому, а не социалистическому реализму. В записях Стерлигова 1960‐х – начала 1970‐х годов значится: «Что нам дала Гуро? Огромный образ духовного и нравственного дела. Веру в то, что каждое слово, сказанное здесь – будет ТАМ»7. Стерлигов почти что цитирует Даниила Хармса, который в заключительной строке стихотворения «Нетеперь» 1930 года построил восьмиконечную звезду из двух квадратов: «Где же теперь? / Теперь тут, а теперь там, а теперь тут, / а теперь тут и там. / Это быть то. / Тут быть там. / Это, то, тут, там, быть Я, Мы, Бог».
Мне уже приходилось писать о том, что купольно-чашное бытие, свою технику броска из «здесь» в «ТАМ» и – что самое главное – обратно, Стерлигов совершенствовал, благодаря не прямым воздействиям изобразительного материала Матюшина и Малевича, а на основе сообщенных ему Яковом Друскиным высказываний Хармса, который описал взаимопроникновение трансфинитного и цисфинитного, находящегося по нашу сторону конечного8. Стерлигов спустя годы забвения снова показывает и описывает эту парадоксальную динамику мира, которая и сохраняет вселенское единство живого, благодаря отсутствию дистанций и присутствию запредельного в предельно ограниченном, как он говорил, «в единовременном бытии самого близкого и самого далекого». «Органическая концепция» обосновывается алогично или за-разумно, объединяя в себе пространственные области и уровни языка. Алогизм открывает себя здесь как правильное понимание будущего. Если советский космизм фокусируется на аспекте новейшей перестройки мира, то алогический авангардный космизм в варианте Матюшина–Хармса–Стерлигова указывает на другой аспект: на всегда пребывающее в «теперь/нетеперь» и не терпящее никакого силового улучшения мироустройство, к пониманию которого мы еще только приближаемся, совершенствуя себя как воспринимающий организм. Здесь в броске этого парадокса впервые проявляется экологическое начало в понимании и культуры, и социальной жизни.
Именно алогизм как принцип мышления приводит Матюшина к очень важному для второй половины ХХ века представлению о том, что универсальное понимание возможно только на основе взаимопонимания. Еще в 1915 году он, размышляя о том, как Солнце и в другую сторону тоже посылает лучи, писал:
Солнце. Люди знают только его блеск и свет, а что оно чувствует и думает, переживает, не приходит даже в голову. Глядя на освещенный затылок финна, думаю, что, может быть, Солнце в момент своего света и не думает ни одного мгновения о своем блеске. Тайна сокрытия знака – знак видимый – уплотненный пониманием.
Раскрепощать от уплотнения такое – значит вносить в мир самое ценное.
…Даже видимое понимается вполовину, а о скрытом в теле никто и не думает.
Оно не в блеске и тепле, оно в Другом! …За оболочкой северной финской кирхи воспринимаю исходящий огонь возрождения, причастия новой мысли и жизни. Чувствую бедных, набожных финнов, тихо, по-звериному чистой душой принимающих частицу этого чуда9.
Не только финская природа, Карельский перешеек и Ингерманландия, но и финский язык, немного знакомый петербуржским авангардистам и в том числе Матюшину и Гуро, благодаря и городской, и особенно дачной жизни, влияет на формирование «органической концепции». Звучание языка, напоминающее природные шумы и звуки, которые исследовали позднее в ГИНХУКе, становится акустической фактурой заумной поэзии Гуро10. Гуро записывает словами заумного языка, как нотами, голоса сосен и плеск волны. Она употребляет, вычитая, прибавляя или заменяя буквы, звучащий как птичий язык простейший набор русских (шуят – шумят) и финских слов, слышанных от «бедных набожных финнов»: тио (tie – дорога, tyӧ – работа), хей и тере (terve – привет), лалла (laulaa – петь). Самые первые впечатления от финского языка открывают его принцип действия через описание, а не обозначение понятий. Строфы «Калевалы», руны, сохранившие дыхание древности, которым Гуро подражала, усиливались непосредственным воздействием пришедшего из архаики живого языка, короткие простые слова которого, называющие основные части мира (maa – земля или страна, kuu – месяц, небесный и календарный, puu – дерево), звучат космическими позывными11. Новые слова образуются в комбинациях-описаниях: например, сад – это деревья в ограде: puutarhu. В топологическом финском заумь из абстрактного понятия превращалась в пространственную категорию – расположенного за пределами ума и отсюда – бескрайнего, как, собственно, и описывал заумный язык Хлебников, приводя в качестве примера построение слова «заречье». А язык, так естественно ветвящийся, не мог не подтверждать истинность синкретической картины мира архаики.
Пограничные контакты создателей петербургского авангарда с финской культурой после 1918 года резко сократились (филоновская «Калевала» – исключение, подтверждающее правило), но именно в Финляндии еще при жизни Матюшина появился великий продолжатель его дела. Им стал Алвар Аалто, который с самого начала своей карьеры понимал профессию архитектора так же широко, как Матюшин профессию художника и музыканта. В архитектуре он видел не просто новейшую технологию организации пространства и социальной жизни, но супертехнологию гармонизации бытия каждого человека и всего мира. В 1931 году в письме для немецкого журнала Bauwelt он впервые поставил задачу «органического конструирования». В этой передаче импульса невозможно усмотреть какое-то влияние: Аалто не упоминает петербургских авангардистов, хотя есть вероятность, что ему рассказывали о Малевиче и ГИНХУКе знакомые из Баухауза (его другом был Л. Мохой-Наги). Хорошо известна и понятна неприязнь Аалто к Российскому государству: подростком он попал в жернова насильственной русификации графа Бобрикова и невзлюбил русский, в зрелом возрасте пережил Зимнюю войну с СССР. Однако известен интерес Аалто к личности Петра Кропоткина: к анархической идее в ее конструктивном варианте взаимопомощи, заменяющей государственное регулирование. Аалто, увлеченный увеличением суммы жизненности, приращением радости и свободы, был идеальным анархистом по Кропоткину. Назвав Аалто продолжателем Матюшина, я имею в виду не продолжение-подражание, но самостоятельное развитие или, точнее, второе рождение «органической концепции» в творчестве финского архитектора. Событие второго рождения определеннее, чем прямая наследственность, позволяет говорить об объективной или интерсубъективной природе «органической концепции».
Волновая природа мироустройства для Аалто означала единство личности и мира, раскрытие человека в философии его имени. Его фамилия, как и множество других финских фамилий, сохранила древнее родство с силами земли и тотемными животными, охраняющими род. Aalto – значит «волна». Уникальный деревянный потолок-волна в лекционном зале библиотеки Выборга, обеспечивающий звуковую и световую гармонию, – это не только авторская конструкция, но и своего рода метафорический портрет автора. В противовес этосу коллективизма, свойственному русскому авангарду, Аалто держится индивидуалистического пути. В этом можно видеть лютеранскую этику личного ежедневного подвига, но гораздо правильнее объяснить позицию Аалто опять-таки земельно или территориально: Финляндия – страна очень индивидуализированного ландшафта. Поэтому в своем творчестве Аалто старается не подчиняться пафосу массового стандартизированного производства. Он, один из отцов архитектуры модернизма, прокладывает свой путь вне конструктивизма и функционализма 1920‐х годов, а в 1930‐е стремится не поддаваться и новому пафосу государственнической глобальной идеи.
К проблеме «органического конструирования» Аалто неоднократно возвращается в своих статьях, лекциях и публичных выступлениях 1930–1940‐х годов. В 1932‐м он обосновывает необходимость развивать систему жилой застройки, исходя из особенностей данной социальной среды и местности, тем, как клетки образуют кластеры для решения той или иной биологической задачи. В его представлении биологическое проектирование решает общие задачи при помощи индивидуализированных, приспособленных для каждого конкретного случая методов. Рационализм современных технологий должен быть развернут для удовлетворения потребностей не только социума, но и неповторимой личности. Аалто представляет это на примере цветовой волны: рационализм сосредоточен в красной и оранжевой зонах спектра (балансировке социальной организации и технологий), а он должен достигать и невидимого глазом ультрафиолета, то есть частной жизни, и учитывать желания отдельного человека. Очевидно, что, работая только с избранной частью спектра, живя в одном красном цвете, гармонии не достигнешь и планировочные решения окажутся бессмысленными: рассчитанными на социум, но бесчеловечными.
К 1942 году Аалто создает концепцию «гибкой стандартизации». Он исходит из ежедневного лицезрения природы. Источник его идей – жизнь яблони, каждый цветок которой – близнец соседа, но, если приглядеться, поймешь его индивидуальность, объясняющуюся освещенностью, которая зависит от всякий раз иного своего положения на ветке среди листвы. Этот первотолчок мысли приводит Аалто к представлению того, как реализуется стандартизация в природе, которое на десятилетие предвосхищает открытие механизма действия ДНК. В сущности, Аалто описывает именно работу этого природного механизма, утверждая, что важно иметь не только набор готовых строительных узлов, но и обеспечить возможность их гибкого, то есть индивидуализированного применения. Выступая в 1938 году на Северном строительном съезде в Осло, он говорит:
Стандартизацию часто представляют себе как метод, превращающий все в одно и то же, и как способ производства готовых образцов. Это очевидное заблуждение. Правильно стандартизированные части здания и материалы позволяют производить максимально возможное число различных комбинаций. Я уже сказал, что природа – наилучшая комиссия по стандартизации в мире, но в природе стандартизация применяется исключительно для мельчайших деталей – клеток. Результат – миллионы гибких комбинаций, которые не делаются схематичными. Следующий результат – безграничное богатство и постоянная изменчивость органически растущих форм. Мы должны двигаться этой же тропой в архитектурной стандартизации12.
Постулаты Аалто перекликаются с несколькими тезисами петербургских-ленинградских художников «органической концепции». Прежде всего, противопоставление технократической «образцовости» «свободным комбинациям» форм напоминает критику, которой М. Эндер подвергла теорию цвета В. Оствальда, основанную на спектральном анализе и общепринятую во ВХУТЕМАСе13. Эндер противопоставляет абстрактный геометрический порядок цветовых сочетаний Оствальда (сумму изолированных цветов) светоносным гаммам природной среды, изменчивость которых, подобно генетику, исследовал Матюшин. Так же и Филонов в 1912 году обосновывал закон органического развития формы на движении от частного, до последней степени развитого, к общему, которое становится результатом бесконечной динамики и изменчивости своих элементов. Павел Мансуров с 1924 года изучал в Экспериментальном отделе ГИНХУКа взаимосвязи среды, населяющих ее живых существ и растений с формальными особенностями местного искусства, отмечая прямое воздействие природных форм на архаическое искусство (типы построек, одежды, утвари и даже стиль танцев или других ритуалов древнего человека).
Не менее важен и духовный аспект эстетики, который для Аалто, как и для Матюшина и Стерлигова, очевидно, был главным аспектом творчества. Например, Аалто стремился к тому, чтобы осветительные и декоративные элементы его конструкций работали на функцию не только гигиенической открытости и освещенности, но и духовного просветления. Вообще обращает на себя внимание то, что образ потолка для Аалто столь же важен, сколь он был важен для архитекторов и декораторов средневековых, ренессансных или барочных построек, когда в культуре за физическим небом и над кровлей простиралось небо духовное, о котором и должны были напоминать расписные своды. Один из самых замечательных примеров – потолок верхнего читального зала новой библиотеки в городе Сейняйоки, построенной в продолжение библиотеки Аалто Асмо Яаакси. Здесь оставлена открытой огромная плоскость бетонных плит, чудесно преображенная. В бетоне, как петроглифы на скалах Карелии, выдолблен рельеф – карта финских озер, окрашенная в бирюзовый цвет. Пространство меняется так, словно над головой не тяжелая промышленная конкретная структура, но зеркальное отражение бесконечной водной глади, универсальное лекало природы, свидетельство удивительного нерукотворного совершенства. Сидя в таком читальном зале, который, кстати, по-домашнему совмещен с кафе, не отрывая глаз от книжки и чашки кофе, макушкой понимаешь суть библиотеки: здесь не информация хранится и передается, но пребывает сама творческая мысль, интеллектуальный импульс от первого художника архаических времен передается новейшему архитектору и каждому, кто услышит этот космический зов природы.
Следуя параллельным науке курсом, Аалто, как и Матюшин, отнюдь не желал отождествлять творчество с наукой или производством, видя в нем инструмент расширенного интуитивного познания, что имеет своей целью не ту или иную функциональную специальную задачу, но, как уже было сказано, саму мировую гармонию, космос – сияющее ожерелье, в котором у всего есть свое благополучное и благодатное место. Став гуру, он утверждал, что задача архитектора – возводить рай на земле. Неудивительно, что в последнее десятилетие своей жизни Аалто сталкивался с тем, что его воспринимают как национальное достояние, но вместе с тем и как национального чудака или оригинала. Казалось бы, сами его постройки, разные и гениальные исполнения одной темы, например, прогрессия из библиотек Выборга – Сейняйоки – Рованиеми, или церквей Иматры – Сейняйоки – Лахти, или концертных залов, или горсоветов, или театров (он считал нужным ставить в центре городов именно такие здания, полагая, что заполнение центра торговыми моллами обедняет и сушит жизнь города), способны убедить в истинности его взглядов. Однако промышленные аспекты архитектурного творчества чем дальше, тем больше трансформируют «органическое конструирование».
- Прошлое как область творчества
- Даниловские чтения. Античность – Средневековье – Ренессанс. Сборник 1
- Авангард и психотехника
- Фотография и внелогическая форма
- Что такое хорошо
- Политика авангарда
- «Новое зрение»: болезнь как прием остранения в русской литературе XX века
- Константин Сомов: Дама, снимающая маску
- Лев Бакст, портрет художника в образе еврея
- «Митьки» и искусство постмодернистского протеста в России
- Искусство кройки и житья. История искусства в газете, 1994–2019
- Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии
- Барокко как связь и разрыв
- Культура / дизайн. Начало XXI века
- Люди и измы. К истории авангарда
- Компульсивная красота
- Юрий Ларин. Живопись предельных состояний
- Фаустус и другие тексты
- Иван Жолтовский. Опыт жизнеописания советского архитектора
- Джотто и ораторы. Cуждения итальянских гуманистов о живописи и открытие композиции
- Разное
- Давид Аркин. «Идеолог космополитизма» в архитектуре
- 100 лет современного искусства Петербурга. 1910 – 2010-е
- Советские двадцатые
- Рождение инсталляции. Запад и Россия
- Память и забвение руин
- Театр эллинского искусства
- Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)
- Подражание и отражение. Портретная гравюра в России второй половины XVIII века
- Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор
- Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века
- Человек как социальное тело. Европейская фотография второй половины XIX века