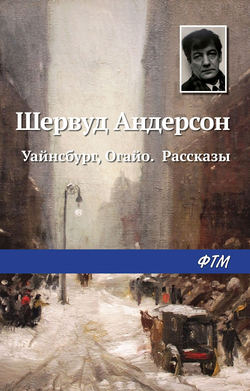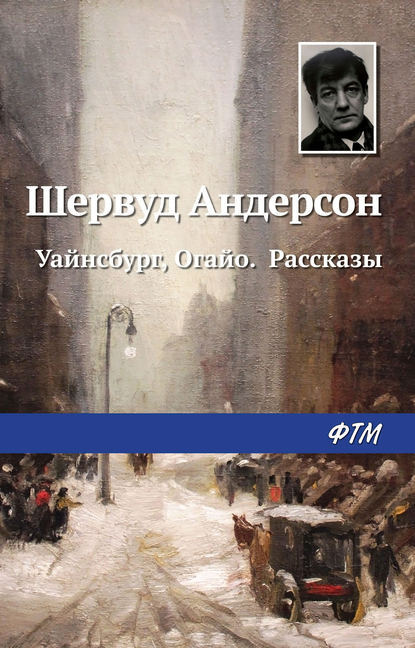© Перевод. В. П. Голышев, 2019
© Перевод. Н. Галь, наследники, 2019
© Перевод. В. А. Хинкис, наследники, 2019
© Перевод. М. А. Загот, 2019
© Перевод. Р. Е. Облонская, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
* * *
Из сборника «Уайнсбург, Огайо»
(в переводе Виктора Голышева)
Посвящается памяти моей матери Эммы Смит Андерсон, чьи острые замечания о жизни впервые пробудили у меня стремление заглянуть за поверхность жизней.
Книга о нелепых людях
Писателю, седоусому старику, было трудновато забираться в постель. Окна в его доме располагались высоко над полом, а он хотел смотреть на деревья, когда просыпался по утрам. Пришел плотник, чтобы поднять кровать вровень с подоконником.
Дело сопровождалось изрядной суматохой. Плотник, ветеран Гражданской войны, пришел к писателю в комнату и сел поговорить о сооружении помоста, на который он поставит кровать. В комнате у писателя лежали сигары, и плотник закурил.
Сперва они поговорили о том, как поднять кровать, потом стали говорить о другом. Плотник затронул тему войны. В сущности, его навел на это писатель. Плотник побывал в плену, сидел в военной тюрьме в Андерсонвилле, и у него погиб брат. Брат умер от голода, и, вспоминая об этом, плотник плакал. У него, как и у старого писателя, были седые усы, плача, он надувал губы, и усы ездили вверх и вниз. Плачущий старик с сигарой во рту выглядел смешно. О писательском проекте поднятия кровати забыли, и впоследствии плотник сделал все по-своему, а писатель, которому шел седьмой десяток, вынужден был взбираться на кровать при помощи стула.
В постели писатель поворачивался на бок и лежал тихо. Много лет его осаждали соображения касательно его сердца. Он был заядлый курильщик, и сердце у него трепыхалось. В уме его угнездилась мысль, что он умрет скоропостижно, и, когда он ложился спать, он каждый раз думал об этом. Мысль эта не пугала его. Но действовала особым образом, трудно даже объяснить каким. Из-за нее он в постели оживлялся – больше, чем где бы то ни было. Лежал он совсем тихо, тело у него было старое, и проку от него уже было мало, но что-то внутри оставалось совсем молодым. Он был как беременная женщина – только носил в себе не младенца, а молодость. Нет, даже не молодость, а женщину, молодую и в кольчуге, как рыцарь. Видите, бессмысленно объяснять, что оживало у писателя внутри, когда он лежал на высокой кровати и прислушивался к трепыханию сердца. Разобраться же надо в том, о чем думал писатель или это молодое внутри него.
В голове у старика писателя, как и у всех людей на свете, за долгую жизнь накопилось много понятий. В свое время он был интересным мужчиной, и не одна женщина любила его. А кроме того, он знал людей, знал как-то особенно близко, не так, как знаем людей мы с вами. Так, по крайней мере, думал сам писатель, и ему было приятно так думать. Не спорить же со старым человеком о его мыслях?
Писателя в постели посещал сон, то есть не совсем сон. Где-то на полпути между явью и дремотой перед глазами его возникали фигуры. Ему представлялось, будто это молодое, необъяснимое, что живет в нем, проводит длинную вереницу фигур перед его глазами.
И любопытно тут, видите ли, то, какие фигуры проходили перед глазами писателя. Все они были нелепы. Все мужчины и женщины, которых писатель знал, становились нелепыми.
Эти нелепые люди не все были уродами. Были забавные, были почти прекрасные, а одна женщина, совсем искаженного вида, ранила старика своей нелепостью. Когда она проходила, он скулил наподобие собачонки. Очутись вы в комнате, вы, пожалуй, подумали бы, что у старика дурные сны или же несварение желудка.
Час тянулась вереница нелепых людей перед глазами старика, а затем, хоть и тяжко ему это было, он вылезал из постели и садился записывать. Кое-кто из нелепых людей глубоко западал ему в душу, и ему хотелось описать их.
За столом писатель работал час. В итоге получилась книга, которую он назвал «Книгой о нелепых людях». Ее так и не напечатали, но я ее однажды видел, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. В книге была стержневая мысль, очень странная, и я усвоил ее навсегда. Вспоминая ее, я мог понять многих и многое, непонятное мне прежде. Мысль эта сложная, а упрощая, ее можно изложить примерно так.
Вначале, когда мир был молод, существовало множество мыслей, но правды как таковой не было. Человек вырабатывал правды сам, и каждая правда составлялась из множества неясных мыслей. Повсюду в мире были правды, и все они были прекрасны.
Старик занес сотни правд в свою книгу. Я не стану перечислять вам все. Была там правда девственности и правда страсти, правды богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения. Сотни и сотни правд, и все – прекрасные.
А потом набежали люди. Каждый, явившись, ухватывал какую-нибудь правду, а особенно сильные ухватывали по десятку.
Правды и сделали людей нелепыми. Старик развил целую теорию на этот счет. По его представлениям, как только человек захватывал для себя одну из правд, нарекал ее своею и старался прожить по ней жизнь, он становился нелепым, а облюбованная правда – ложью.
Сами понимаете, что старик, который затратил на писание всю жизнь и весь был полон словами, может написать сотни страниц на эту тему. И предмет так разросся в его мозгу, что писатель сам рисковал превратиться в нелепого человека. Но не превратился. По той же, я думаю, причине, по которой не напечатал свою книгу. Молодое внутри него – вот что спасло старика.
О старом же плотнике, который поднимал писателю кровать, я упомянул потому только, что среди всех нелепых личностей в книге писателя его, подобно многим так называемым простым людям, легче всего, наверное, можно было бы понять и полюбить.
Руки
По ветхой веранде деревянного домика, стоявшего над оврагом города Уайнсбурга в Огайо, нервно прохаживался кругленький старичок. За широким полем, которое было засеяно клевером, а уродило только желтую сорную горчицу, он видел дорогу, по ней на телеге возвращались с полей сборщики ягод. Сборщики – парни и девушки – буйно веселились и кричали. Парень в синей рубашке спрыгнул с телеги и пытался стащить девушку, а она пронзительно визжала и упиралась. Ноги парня взбили облако дорожной пыли, и оно наплыло на лик заходящего солнца. Над широким полем разнесся тонкий девичий голос. «Эй ты, Крыло Бидлбаум, волосы причеши, они тебе застят», – долетело до старика, который был лыс и нервно поводил ручками у голого белого темени, словно приглаживая растрепавшиеся кудри.
Крыло Бидлбаум, вечно испуганный и осаждаемый призрачной оравой сомнений, считал себя совершенно посторонним в жизни городка, где он обитал двадцать лет. Из всех жителей Уайнсбурга лишь один с ним сблизился. Джордж Уилард, сын Тома Уиларда, хозяина гостиницы «Новый дом Уиларда», стал ему чем-то вроде друга. Джордж был единственным репортером «Уайнсбургского орла» и, случалось, вечерами приходил по большаку к Бидлбауму. Вот и сейчас, расхаживая по веранде и нервно шевеля руками, старик надеялся, что Джордж Уилард придет и побудет с ним вечер. Когда телега со сборщиками ягод скрылась, он перешел поле густой горчицы, перелез через жердяную изгородь и стал с нетерпением смотреть на дорогу в город. Он постоял немного, потирая руки и оглядывая дорогу, но вскоре, поддавшись страху, убежал домой, опять ходить по веранде.
При Джордже Уиларде Крыло Бидлбаум, который вот уже двадцать лет был загадкой для города, отчасти превозмогал свою робость, и потаенная личность его, барахтавшаяся в море сомнений, выныривала, чтобы взглянуть на мир. В сопровождении молодого репортера он осмеливался при свете дня выйти на Главную улицу или же шагал взад-вперед по хлипкой веранде, возбужденно разговаривая. Голос его, обычно тихий и дрожащий, становился сильным и пронзительным. Согнутая спина распрямлялась. Вильнув телом, наподобие рыбки, отпущенной рыболовом в ручей, Бидлбаум, безмолвный, начинал говорить, силясь выразить в словах идеи, накопленные за многие годы молчания.
Крыло Бидлбаум много говорил руками. Тонкие выразительные пальцы, всегда подвижные, всегда норовившие спрятаться в карманах или за спиной, становились шатунами в механизме его речи.
Рассказ о Крыле Бидлбауме – это рассказ о руках. Он и прозвищем был обязан неугомонному их движению, похожему на трепет крыльев попавшей в неволю птицы. Какой-то безвестный поэт из горожан подметил это. Руки пугали его самого. Ему хотелось спрятать их, и он с изумлением глядел на спокойные немые руки людей, которые работали рядом с ним в поле или правили сонными упряжками на проселках.
Разговаривая с Джорджем Уилардом, Бидлбаум сжимал кулаки и стучал по столу или стенам дома. Это его успокаивало. Если желание говорить накатывало на него, когда они гуляли вдвоем по полю, он присматривал пень или верхнюю доску изгороди и, колотя по ним, возвращал себе свободу речи.
История рук Крыла Бидлбаума сама по себе заслуживает книги. Написать ее с сочувствием, и она откроет много удивительных прекрасных качеств в неприметных людях. Это – задача для поэта. В Уайнсбурге руки привлекли внимание только своим проворством. Ими Крыло Бидлбаум собирал до тринадцати ведер клубники за день. Они стали его отличительной особенностью, ими он прославился. Из-за них же еще нелепее выглядела эта и без того нелепая и неясная личность. Уайнсбург гордился руками Бидлбаума так же, как гордился новым каменным домом банкира Уайта или Тони Типом, гнедым рысаком Уэсли Мойра, победившим в забеге на 2,15 мили или на осенних состязаниях в Кливленде.
А Джорджу Уиларду не раз хотелось порасспросить о руках. Порой его охватывало почти нестерпимое любопытство. Он чувствовал, что неспроста они так странно подвижны и норовят спрятаться, и лишь уважение к Крылу Бидлбауму не позволяло ему выпалить вопросы, часто просившиеся на язык.
Один раз он чуть не спросил. Летним днем они гуляли вдвоем по полям и присели на травянистом косогоре. Всю прогулку Крыло Бидлбаум разговаривал, словно на него нашло вдохновение. По дороге он остановился у изгороди и, стуча в верхнюю доску, словно гигантский дятел, стал кричать на Джорджа Уиларда, упрекая его в том, что он слишком поддается чужим влияниям. «Вы себя губите, – кричал он. – Вы склонны к одиночеству и мечтам, а мечтать боитесь. Вы хотите быть как все остальные в городе. Слышите их разговоры и стараетесь им подражать».
На травянистом косогоре Крыло Бидлбаум снова пытался вдолбить эту мысль. Голос его стал мягким, задумчивым, и со сладким вздохом он пустился в длинные, бессвязные рассуждения, как человек, отдавшийся мечте.
С этой мечты он рисовал Джорджу Уиларду картину. На картине люди снова жили в простоте какого-то золотого века. По зеленой равнине двигались стройные юноши – одни пешком, другие на конях. Юноши толпами стекались к ногам старца, который сидел в садике под деревом и беседовал с ними.
Бидлбаума обуревало вдохновение. Вот когда он забыл о руках. Медленно прокрались они вперед и легли на плечи Джорджа Уиларда. По-новому, смело зазвучал его голос. «Вы должны забыть все, чему научились, – увещевал старик. – Вы должны научиться мечтать. С этого дня отвратите слух от людского гвалта».
Умолкнув, Крыло Бидлбаум долго и внушительно смотрел на Джорджа Уиларда. Глаза его горели. Он опять было поднял руки, приласкать юношу, и вдруг на его лице отразился ужас.
Бидлбаум судорожно вскочил на ноги и запихнул руки глубоко в карманы. На глазах у него показались слезы. «Мне надо идти домой. Не могу больше разговаривать с вами», – нервно сказал он.
Старик, не оглядываясь, заспешил вниз по косогору и через луг, а озадаченный и напуганный Джордж Уилард все сидел на траве. Поежившись от страха, он встал и пошел по дороге к городу. «Не буду спрашивать его о руках, – растроганно думал он, вспоминая, какой ужас был в глазах старика. – Неладно там что-то, но я не хочу знать. Неспроста он боится меня и всех на свете – и это связано с руками».
Джордж Уилард не ошибся. Заглянем в прошлое этих рук. Быть может, наши пересуды побудят поэта рассказать сокровенную и чудную историю учителя, чьи руки были всего лишь трепетными вымпелами обетования.
В молодости Крыло Бидлбаум был учителем в одном городке в Пенсильвании. Тогда он звался не Крыло Бидлбаум, а менее звучно – Адольф Майерс. Ученики очень любили этого Адольфа Майерса.
Адольф Майерс был создан для учительства самой природой. Он был из тех редких, вызывающих недоумение людей, которые пользуются властью так мягко, что в них видят только милую слабость. В чувстве таких людей к их воспитанникам есть что-то от любви чистой женщины к мужчине.
Но и это сказано приблизительно. Тут нужен поэт. Со своими учениками Адольф Майерс гулял по вечерам или сидел до сумерек на школьном крыльце и беседовал, будто мечтая. Руки его не знали покоя: то погладят мальчика по плечу, то потреплют по взъерошенной голове. Голос его при этом становился мягким и напевным. В нем тоже была ласка. И голос, и руки, которые гладили ребят по плечам и касались волос, тоже участвовали в стараниях учителя вселить мечту в молодые умы. Лаской, которую несли его пальцы, он изъяснялся. Он был из тех людей, у кого жизнетворная сила рассеяна, а не сосредоточена в одном месте. Под ласковыми руками мальчишеские умы освобождались от сомнений и неверия, и дети тоже начинали мечтать.
А затем – трагедия. Один придурковатый ученик влюбился в молодого учителя. Ночами в постели он воображал немыслимое, а утром рассказывал о своих снах как о событиях действительности. Жуткие, неслыханные обвинения слетали с его отвислых губ. Пенсильванский городок содрогнулся. Смутно тлевшие в людских умах сомнения насчет Адольфа Майерса вспыхнули убежденностью.
Трагедия разыгралась быстро. Дрожащих ребят выдергивали из постелей и допрашивали. «Он обнял меня», – говорил один. «Он всегда ерошил мне волосы», – говорил другой.
Однажды днем к дверям школы пришел местный житель, хозяин салуна Генри Бредфорд. Он вызвал Адольфа Майерса на школьный двор и стал избивать кулаками. Чем дольше молотил он тяжелыми кулаками по испуганному лицу учителя, тем ужаснее распалялся гневом. С отчаянными криками дети бросались туда и сюда, как растревоженные насекомые. «Я покажу тебе, как хватать моего сына руками, скотина», – ревел кабатчик и, устав бить учителя, принялся гонять его по двору пинками.
А ночью Адольфа Майерса выдворили из пенсильванского городка. Человек десять мужчин с фонарями явились к дверям дома, где он жил один, велели ему одеться и выйти. Шел дождь, и у одного была в руках веревка. Они собирались повесить учителя, но что-то в облике этого человека, такого маленького, бледного, жалкого, тронуло их сердца, и они дали ему убежать. Когда он побежал в темноту, они пожалели о своем слабодушии и погнались за ним, с бранью, бросая в него палки и большие комья грязи, а он, крича, все быстрей и быстрей убегал в темноту.
Двадцать лет прожил одиночкой в Уайнсбурге Адольф Майерс. Ему было всего сорок, а выглядел он на шестьдесят пять. Фамилия Бидлбаум попалась ему на ящике, на товарной станции городка в восточной части Огайо, который он миновал по пути. В Уайнсбурге у него была тетка, старуха с черными зубами, разводившая кур, и с ней он прожил до ее смерти.
После истории в Пенсильвании он год хворал, а когда выздоровел, стал поденно работать на полях, стесняясь людей и пряча руки. Он хоть и не понимал того, что с ним произошло, но догадывался, что во всем виноваты руки. Отцы учеников поминали их беспрерывно. «Будешь у меня руки распускать!» – ревел на школьном дворе кабатчик, приплясывая от ярости.
Крыло Бидлбаум расхаживал по веранде своего домика над оврагом, пока не скрылось солнце и не пропала в сером сумраке за полем дорога. Он вошел в дом, нарезал хлеба и намазал ломти медом. Когда смолкло громыхание вечернего поезда, увозившего пассажирской скоростью сегодняшний сбор ягод, и вернулась тишина летнего вечера, он снова принялся ходить по веранде. В темноте он не видел своих рук, и они успокоились. Хотя он по-прежнему жаждал увидеться с юношей – посредником, через которого он объяснялся в любви к людям, – эта жажда опять растворилась в его одиночестве и его ожидании. Крыло Бидлбаум зажег лампу, вымыл посуду после своего скудного ужина, поставил перед сетчатой уличной дверью койку и начал было раздеваться. На чисто вымытом полу, возле стола, валялись крошки белого хлеба; он переставил лампу на низенькую скамейку и принялся подбирать крошки, отправляя их по очереди в рот с непостижимой быстротой. В ярком пятне света под столом человек на коленях был похож на священника, справляющего какую-то церковную службу. Нервные выразительные пальцы летали из света в тень и обратно совсем как пальцы монаха, когда они перепускают, десяток за десятком, бусины четок.
Философ
Доктор Персивал был крупный мужчина с вялым ртом и желтыми усами. Он всегда носил грязный белый жилет, из карманов которого торчали дешевые черные сигарки. У него были черные неровные зубы и что-то странное с глазами. Веко левого глаза дергалось; оно то падало, то взлетало – как будто веко было шторой, а в голове у доктора кто-то баловался шнуром.
Доктор Персивал был расположен к молодому Джорджу Уиларду. Знакомство их состоялось в тот год, когда Джордж работал в «Уайнсбургском орле», причем заслуга здесь – исключительно доктора.
В конце дня владелец и редактор «Орла» Уилл Хендерсон отправился в салун Тома Уилли. Шел он туда переулком и, нырнув в салун с черного хода, принялся за напиток из тернового джина с содовой. Уилл Хендерсон был человек плотский, а лет ему исполнилось сорок пять. Он воображал, что джин возвращает ему молодость. Как большинство плотских людей, он любил потолковать о женщинах и час судачил с Томом Уилли. Хозяин салуна был коренастый, широкоплечий человек с необычными метинами на руках. Багровые родимые пятна, которые опаляют иногда лица мужчин и женщин, у Тома Уилли собрались на пальцах и тыльных сторонах рук. Беседуя за стойкой с Уиллом Хендерсоном, он потирал руки. Чем больше он возбуждался, тем ярче выступала на пальцах краснота. Как будто руки окунулись в кровь, а потом она высохла и потускнела.
Пока Уилл Хендерсон стоял у стойки и, глядя на красные руки хозяина, рассуждал о женщинах, его помощник Джордж Уилард сидел в редакции «Орла» и слушал рассуждения доктора Персивала.
Доктор Персивал появился сразу после ухода редактора. Можно было подумать, что доктор наблюдал из окна своего кабинета и увидел, как редактор шел по переулку. Войдя в парадную дверь, он выбрал стул, закурил свою сигарку, закинул ногу на ногу и начал говорить. Он, видимо, стремился убедить юношу в преимуществах некоей линии поведения, которую сам не мог определить.
– Если вы не слепец, вы, наверно, заметили, что, хотя я зовусь врачом, пациентов у меня раз-два и обчелся, – начал он. – Тому есть причина. Это не случайность, хотя в медицине я смыслю не меньше любого в городе. Мне не нужны пациенты. Причина, видите ли, лежит не на поверхности. Она кроется в свойствах моего характера, который, если задуматься, весьма причудлив. Почему мне захотелось говорить об этом с вами – сам не знаю. Я мог бы помалкивать и выглядеть внушительнее в ваших глазах. Мне хочется, чтобы вы мной восхищались, это правда. Не знаю почему. Потому я и разговариваю. Весьма забавно, а?
Иногда доктор пускался в длинные рассказы о себе. Молодому Уиларду его рассказы представлялись очень жизненными и полными смысла. Он стал восхищаться этим толстым неопрятным человеком и во второй половине дня, когда уходил Уилл Хендерсон, с острым любопытством ждал доктора.
Доктор Персивал жил в Уайнсбурге пять лет. Приехал он из Чикаго в подпитии и подрался с носильщиком Альбертом Лонгвортом. Драка завязалась из-за сундука и кончилась тем, что доктора препроводили в городскую кутузку. Выйдя на волю, он снял комнату над сапожной мастерской в нижнем конце Главной улицы и повесил вывеску, где объявлял себя врачом. Хотя пациентов у него было мало, да и те из бедных и платить не могли, недостатка в деньгах он, по-видимому, не испытывал. Спал он в своем кабинете, несказанно грязном, а обедал в закусочной Бифа Картера – в маленьком деревянном доме напротив станции. Летом закусочная наполнялась мухами, а белый фартук Бифа Картера был грязнее пола. Доктора это не смущало. Он величественно входил в закусочную и выкладывал на прилавок двадцать центов. «Потчуйте на это чем угодно, – смеялся он. – Используйте пищу, которую больше некому скормить. Мне все равно. Я, видите ли, человек особенный. С какой стати я буду беспокоиться из-за еды?»
Рассказы, которыми доктор Персивал угощал Джорджа Уиларда, ничем не начинались и ничем не кончались. Порой молодой человек думал, что все это выдумки, сплошные небылицы. Но потом снова приходил к убеждению, что в них содержится сама суть правды.
– Я работал репортером, как вы тут, – начинал доктор Персивал. – Это было в одном городке в Айове… или в Иллинойсе? Не помню, да и какая разница? А вдруг я не хочу раскрывать, кто я такой, и поэтому избегаю подробностей? Вам никогда не казалось странным, что денег у меня хватает, хотя я ничего не делаю? А что, если я украл крупную сумму или был замешан в убийстве до того, как переехал сюда? Есть пища для размышлений, а? Будь вы в самом деле шустрым репортером, вы бы мной поинтересовались. В Чикаго был такой доктор Кронин, его убили. Не слышали? Какие-то люди убили его и засунули в сундук. Рано утром они провезли сундук через весь город. Он стоял на задке тарантаса, а они сидели спереди как ни в чем не бывало. И ехали по тихим улицам, где все еще спали. Над озером как раз вставало солнце. Ведь подумать даже странно: едут себе, покуривают трубки и болтают преспокойненько, как я сейчас. А что, если я был с ними? Неожиданный был бы поворот, правда ведь, а? – Доктор Персивал начинал свой рассказ снова: – Ну, одним словом, был я репортером в газете, как вы тут, бегал туда-сюда, добывал новостишки для печати. Мать у меня была бедная. Брала на дом стирку. Мечтала сделать из меня пресвитерианского священника, и я учился, готовил себя к этому.
Отец еще много лет назад сошел с ума. Он сидел в приюте для душевнобольных в Дейтоне, Огайо. Видите, вот я и проговорился! Все это происходило в Огайо, у нас в Огайо. Вот вам и ключ, если вздумаете мной поинтересоваться.
Я хотел рассказать вам о моем брате. Для чего я и начал. К чему и веду. Брат мой был железнодорожным маляром и работал на «Большой Четверке»[1]. Вы знаете, эта дорога проходит через Огайо. Их бригада жила в вагоне – ездили из города в город, красили семафоры, шлагбаумы, мосты, станции.
«Четверка» красит свои станции мерзкой оранжевой краской. Как я ненавидел эту краску! Брат всегда был в ней перемазан. В получку он напивался, приходил домой в перемазанной одежде и приносил деньги. Матери не давал, а клал стопкой на кухонный стол.
И по дому ходил в одежде, перемазанной мерзкой оранжевой краской. Как сейчас вижу. Мать – она была маленькая, с красными грустными глазами – приходила из сарайчика на заднем дворе. Там она проводила свои дни над корытом, стирая чужую грязную одежду.
Придет, станет у стола и трет глаза фартуком, а фартук – весь в хлопьях мыльной пены.
– Не трогай! Не смей трогать эти деньги! – орал брат, а потом сам брал пять или десять долларов и, топоча, отправлялся по кабакам.
Истратив деньги, он приходил за новыми. Матери денег совсем не давал и оставался дома, пока не спускал все – понемногу за раз. А тогда опять возвращался на работу – в бригаду маляров на железной дороге. Когда он уезжал, к нам начинали приходить покупки – бакалея и тому подобное. Иногда – платье для матери или пара туфель для меня.
Странно, а? Мать любила брата гораздо больше, чем меня, хотя ни ей, ни мне он в жизни не сказал доброго слова, а только скандалил и грозил: не сметь прикасаться к деньгам, которые, случалось, по три дня пролеживали на столе.
Жили мы сносно. Я учился, чтобы стать священником, и молился. Форменным ослом был по молитвенному усердию. Слышали бы вы меня. Когда отец умер, я всю ночь молился – и так же бывало, когда брат пьянствовал в городе и делал нам покупки. Вечером, после ужина, я становился на колени у стола с деньгами и молился часами. Если никто не смотрел, я мог стянуть доллар-другой и спрятать в карман. Теперь мне это смешно, но тогда было ужасно. Из головы не выходило. В газете я получал шесть долларов в неделю и нес их прямо домой, матери. А то, что крал из денег брата, тратил на себя – на всякую, знаете, ерунду: конфеты, сигареты и тому подобное.
Когда отец умер в дейтонском приюте, я поехал туда. Занял денег у своего издателя и поехал ночным поездом. Шел дождь. В приюте меня встречали, как короля.
Тамошние работники откуда-то прознали, что я репортер. И они испугались. Понимаете, за больным отцом ухаживали невнимательно, ухаживали недобросовестно. И они решили, что я пропечатаю их в газете, подниму шум. А у меня и в мыслях такого не было.
Короче говоря, я вошел в комнату, где лежал покойный отец, и благословил тело. Не знаю, с чего мне вздумалось. Вот посмеялся бы над этим мой брат-маляр! Я встал над мертвым телом и распростер руки. Заведующий приютом и какие-то подчиненные вошли и остановились с робким видом. Я распростер руки и сказал: «Да упокоится в мире этот труп». Вот что я сказал.
Доктор Персивал прервал рассказ, вскочил на ноги и заходил по редакции «Уайнсбургского орла», где сидел его слушатель Джордж Уилард. Доктор был неуклюжий, а комната редакции – тесная, и он то и дело налетал на мебель.
– И с чего я, дурак, разболтался? – сказал он. – Не для того я пришел сюда и навязываюсь вам в знакомые. Я имел в виду другое. Вы репортер, как я был когда-то, и вы привлекли мое внимание. Вы можете кончить тем, что станете таким же заурядным болваном. Я хочу предостеречь вас и остерегать постоянно. Вот для чего я с вами встретился.
Доктор Персивал заговорил об отношении Джорджа Уиларда к людям. Юноше казалось, что цель у доктора только одна – выставить всех в гнусном виде.
– Я хочу вселить в вас ненависть и презрение, чтобы вы стали выше людей, – объявил он. – Возьмите моего брата. Вот это тип, а? Он презирал всех, понятно? Вы себе не представляете, с каким пренебрежением он взирал на мать и на меня. И разве он не был над нами высшим? Сами понимаете, что был. Вы его не видели, но я вам это показал. Дал почувствовать. Он умер. Однажды напился, лег на путях, и его переехал тот самый вагон, в котором он жил с малярами.
Как-то в августе с доктором Персивалом приключилась история. Вот уже месяц Джордж Уилард приходил к доктору каждое утро и просиживал в кабинете час. Визиты эти начались по настоянию самого доктора: он сочинял книгу и хотел почитать из нее молодому человеку. По его словам, он и в Уайнсбург перебрался именно с той целью, чтобы ее написать.
Августовским утром, перед приходом Джорджа, в кабинете доктора случилось происшествие. На Главной улице произошел несчастный случай. Упряжка испугалась поезда и понесла. Девочку, фермерскую дочь, выбросило из таратайки и убило.
На Главной улице поднялся переполох, раздались крики: «Врача!» Все три лечащих городских врача явились не мешкая, но нашли девочку мертвой. Кто-то из толпы прибежал за доктором Персивалом, но он наотрез отказался спуститься из кабинета к мертвому ребенку. На бессмысленную жестокость этого отказа никто не обратил внимания. Человек, который прибежал наверх за доктором, тут же кинулся обратно, не услышав отказа.
Всего этого доктор Персивал не знал, и, когда Джордж Уилард пришел к нему в кабинет, доктор дрожал от ужаса.
– То, что я сделал, возмутит всех здешних, – взволнованно объявил доктор. – Что я, не знаю человеческую натуру? Не знаю, что произойдет? Слушок о моем отказе поползет по городу. Люди станут собираться кучками и судачить о нем. Явятся сюда. Мы поссоримся, и пойдут разговоры о повешении. И тогда они явятся снова, с веревкой в руках.
Доктор Персивал дрожал от страха.
– У меня предчувствие, – с жаром объявил он. – Может быть, то, о чем я говорю, не произойдет сегодня утром. Может быть, отложится до ночи – но меня повесят. Все распалятся. Меня повесят на фонарном столбе на Главной улице.
Подойдя к двери своего грязного кабинета, доктор Персивал робко выглянул на парадную лестницу. Когда он вернулся, страх в его глазах уже сменялся сомнением. Он прошел на цыпочках через комнату и постучал по плечу Джорджа Уиларда.
– Не сейчас, так потом, – прошептал он, качая головой. – Рано или поздно я буду распят, бессмысленно распят.
Доктор Персивал стал умолять Джорджа Уиларда.
– Слушайте меня внимательно, – убеждал он. – Если что-нибудь случится и я не напишу мою книгу, может быть, вам удастся ее написать. Идея ее проста, настолько проста, что, если вы не отнесетесь к ней вдумчиво, вы ее забудете. Она вот в чем: каждый на свете – Христос, и каждого распинают. Вот что я хочу поведать. Не забудьте этого. Что бы ни случилось, не смейте забывать.