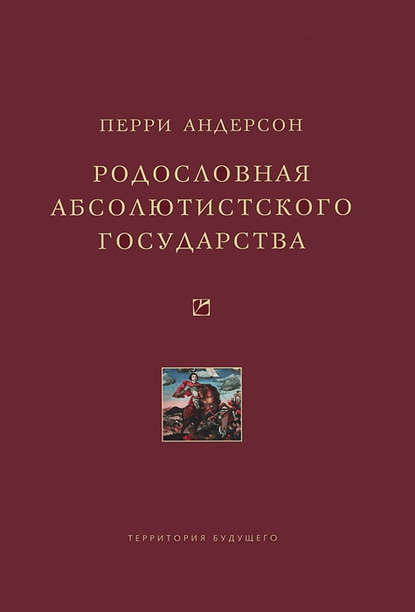Предисловие
Предмет данной работы – попытка сравнительного обзора природы и развития абсолютистского государства в Европе. Его общий характер и пределы как отражение прошлого объяснены в предисловии к исследованию, предваряющему настоящую книгу[1]. К этому можно добавить несколько специальных замечаний об отношении предпринятого в данном томе анализа к историческому материализму. Задуманная как марксистское исследование абсолютизма, предлагаемая работа намеренно расположена между двумя разными планами марксистского дискурса, которые обычно размещаются на значительном удалении друг от друга. В последние десятилетия марксистские историки, авторы впечатляющего корпуса монографий, как правило, не всегда давали себе труд задуматься над теоретическими импликациями, поднятыми в их собственных работах. В то же время философы-марксисты, пытавшиеся разъяснить или решить фундаментальные теоретические проблемы исторического материализма, зачастую делали это в отрыве от специальных эмпирических проблем, поставленных историками. В настоящей работе предпринята попытка занять среднюю позицию между двумя названными. Возможно, она послужит лишь отрицательным примером. В любом случае задача нашего исследования – изучить европейский абсолютизм как в общем, так и в частности; так сказать, как «чистые» структуры абсолютистского государства, представляющие собой базовую историческую категорию, так и «нечистые» варианты, представленные особенными и отличавшимися друг от друга монархиями после-средневековой Европы. Эти два уровня реальности в работах современных марксистов обычно разделены пропастью. С одной стороны, ими конструируются или предполагаются «абстрактные» общие модели – не только абсолютистского государства, но и буржуазной революции или капиталистического государства, без обращения к их различным вариантам; с другой стороны, изучаются «конкретные» локальные случаи, без ссылок на их взаимные последствия и взаимосвязь. Условная дихотомия между этими процедурами происходит, несомненно, из широко распространенного мнения, что умопостигаемая необходимость существует только на уровне наиболее общих и широких исторических тенденций, которые действуют, так сказать, «поверх» эмпирических обстоятельств, специфических событий и институтов, сюжет или облик которых обычно непредсказуем. Научные законы – если вообще признается их наличие – считаются действенными только для наиболее универсальных категорий; единичные объекты относятся к области случайного. Практическим результатом этого разделения становится часто то, что общие концепты – такие как абсолютистское государство, буржуазная революция или капиталистическое государство – оказываются настолько далекими от исторической действительности, что теряют всякое объяснительное значение; конкретные же исследования, ограниченные определенными географическими или временными рамками, напротив, не способны привести ни к каким теоретическим обобщениям. Посылкой данной работы является мое убеждение, что не существует непреодолимой черты между необходимостью и случайностью в историческом объяснении, которая бы отделяла друг от друга разные типы исследования – «долгосрочное» от «краткосрочного» или «абстрактное» от «конкретного». Есть только то, что известно – установлено историческими исследованиями, и то, что неизвестно; причем последнее может быть как механизмом отдельного события, так и законами движения целых структур. Оба варианта равно поддаются, в принципе, адекватному анализу их причин. (На практике сохранившееся историческое свидетельство часто бывает настолько недостаточным или противоречивым, что определенное суждение невозможно; однако это другая проблема – обеспеченность источниками, а не умопостигаемость.) Одна из главных причин предпринятого здесь исследования кроется, таким образом, в попытке совместить два уровня рефлексии, которые часто были неоправданно разведены в работах марксистов, ослабляя их способность к рациональному теоретизированию в области истории.
Масштаб предлагаемого ниже исследования отмечен тремя аномалиями или расхождениями с ортодоксальным подходом к предмету. Во-первых, гораздо более длинная родословная линия абсолютизма, очевидная уже в работе, послужившей прологом к настоящей книге. Во-вторых, в границах части света, исследуемой на этих страницах, – Европы – предпринята систематическая попытка эквивалентного исследования ее западной и восточной частей, как это было сделано и в предшествовавшем анализе феодализма. Это не что-то само собой разумеющееся. Хотя разделение на Западную и Восточную Европу представляется интеллектуальным общим местом, оно редко было предметом прямой и непрерывной исторической рефлексии. Последний урожай серьезных работ по европейской истории до некоторой степени исправил традиционный геополитический дисбаланс западной историографии, с характерным для нее невниманием к восточной части Европы. Но до разумного равновесия еще далеко. Более того, необходим не столько простой паритет в освещении двух регионов, сколько сравнительное объяснение их разделения, анализ различий и динамики их взаимосвязей. История Восточной Европы – вовсе не жалкая копия истории Запада, которую можно было бы просто добавить сбоку, не повлияв на изучение последней. Развитие более «отсталых» регионов континента бросает непривычный свет на более «развитые» регионы и часто обнаруживает в их истории новые проблемы, скрытые при ограниченной чисто западной интроспекции. Поэтому, вопреки обычной практике, вертикальное разделение континента между Западом и Востоком проведено в нашем исследовании как центральный организующий принцип изучения материала. В каждой из зон, конечно, всегда существовали большие общественные и политические вариации, и они исследуются и сопоставляются сами по себе. Цель этой процедуры – предложить региональную типологию, которая поможет уточнить расходящиеся траектории главных абсолютистских государств как в Восточной, так и в Западной Европе. Такая типология станет, пусть только в виде плана, именно тем промежуточным концептуальным уровнем, которого так часто не хватает в пространстве между общими теоретическими конструкциями и частными случаями-историями, в исследованиях абсолютизма, как и много другого.
В-третьих и последних, выбор предмета этого исследования – абсолютистского государства – определил периодизацию, непохожую на обычную для историографии. Традиционные рамки историописания обычно ограничиваются одной страной или узким периодом. Подавляющее большинство квалифицированных исследований проводится строго в рамках национальных границ, и, если работа пересекает их для придания международной перспективы, в ней обычно ограничиваются временные рамки исследуемой эпохи. В любом случае историческое время не представляет проблемы: и в «старомодном» нарративе, и в «современных» социологических исследованиях события и институты погружены в единую и гомогенную темпоральность. Хотя все историки знают, что скорость перемен различается в разных слоях или секторах общества, удобство и привычка обычно диктуют, чтобы форма работы предполагала или предлагала хронологический монизм. Иными словами, его материалы рассматриваются так, будто они разделяют общее начало и общий конец, протянувшись на один и тот же отрезок времени. В нашем исследовании не существует такой единой темпоральности, поскольку времена основных абсолютизмов Европы – как Западной, так и Восточной – были чрезвычайно разными, и это различие само по себе играло важную роль в природе этих государственных систем. Испанский абсолютизм потерпел свое первое серьезное поражение в XVI в. в Нидерландах; английскому абсолютизму снесли голову в середине XVII в.; французский абсолютизм существовал до конца XVIII в.; прусский абсолютизм дожил до конца XIX в.; русский абсолютизм был свергнут только в XX в. Широкий разрыв в датировке этих больших структур неизбежно соотносился с глубокими различиями в их составе и эволюции. Поскольку специальный объект этого исследования составляет весь спектр европейского абсолютизма, то его не покрывает никакая общая темпоральность. История абсолютизма имеет много пересекающихся начал и разрозненных оборванных концов. Лежащее в его основе единство – реально и глубоко, но оно не составляет линейный континуум. Комплексное развитие европейского абсолютизма с его многочисленными разрывами и смещениями от региона к региону лежит в основе изложения исторического материала в этой книге. Здесь опущен весь цикл процессов и событий, которые предопределили триумф капиталистического способа производства в Европе после эпохи раннего Нового времени. Первая буржуазная революция случилась хронологически задолго до последних метаморфоз абсолютизма. Для целей нашей работы они остаются категорически в будущем и будут рассмотрены в следующем исследовании. Следовательно, такие феномены, как первоначальное накопление капитала, начало религиозной реформации, формирование наций, экспансия заморского империализма, начало индустриализации, формально вписывающиеся в хронологические рамки исследуемых нами «периодов и являющиеся современными по отношению к разным фазам европейского абсолютизма, не обсуждаются нами и не исследуются. Их даты – те же. Их времена– различны. Чужая и смешанная история последовательных буржуазных революций нас здесь не интересует: настоящая книга ограничена природой и развитием абсолютистских государств, их политическими предшественниками и противниками. Два последующих исследования будут специально посвящены, в свою очередь, цепи великих буржуазных революций, от восстания Нидерландов до объединения Германии, и структуре современных капиталистических государств, которые в конце концов появились после долгой эволюции. Некоторые из теоретических и политических аргументов, выдвигаемых в этом томе, станут полностью ясны в этих продолжениях.
Наконец, надо, видимо, объяснить выбор Государства как центральной темы исследования. Сегодня, когда «история снизу» стала паролем как в марксистских, так и в немарксистских кругах и уже привела к серьезным достижениям в нашем понимании прошлого, надо, тем не менее, вспомнить одну из базовых аксиом исторического материализма: что вековая борьба между классами в конце концов разрешается на политическом, а не на экономическом или культурном уровне общества. Другими словами, именно создание и разрушение государств закрепляет фундаментальный сдвиг в отношениях производства до тех пор, пока существуют классы. «История сверху» – история замысловатых механизмов классового господства – не менее существенна, чем «история снизу». В самом деле, без нее последняя остается односторонней (пусть это и лучшая сторона). Вспомним по этому случаю слова Маркса: «Свобода состоит в переходе государства от органа, навязанного обществу, к полностью подчиненному ему, и сегодня также формы государства более или менее свободны в зависимости от того, ограничена ли „свобода“ государства». Полная отмена государства остается век спустя одной из целей революционного социализма. Но высшее значение, придаваемое его конечному исчезновению, свидетельствует о весе его присутствия в истории. Абсолютизм, как первая международная государственная система современного мира, еще не выдал нам всех своих секретов или уроков. Цель настоящей работы – внести вклад в обсуждение некоторых из них. Ее ошибки, заблуждения, недосмотры, описки, иллюзии остаются открытыми для критики в ходе коллективного обсуждения.
I
Западная Европа
1. Абсолютистское государство на Западе
Длительный кризис европейской экономики и общества, разразившийся в XIV–XV вв., сделал очевидными проблемы, с которыми столкнулся феодальный способ производства в период позднего Средневековья[2]. Каким был окончательный политический итог континентальных конвульсий той эпохи? В течение XVI в. на Западе утверждалось абсолютистское государство. Централизованные монархии Франции, Англии и Испании пошли на решительный разрыв с «пирамидами» раздробленного суверенитета средневековых общественных формаций, с их поместной и вассальной системами. Споры об исторической природе этих монархий не утихают со времен Энгельса, который в знаменитом выражении назвал их продуктом классового равновесия между старой феодальной аристократией и новой городской буржуазией: «В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII–XVIII вв., которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга…»[3]. Множественные оговорки этого пассажа указывают на определенные концептуальные колебания Энгельса. Но, бросив внимательный взгляд на другие тексты Маркса и Энгельса, становится ясно, что именно эта концепция абсолютизма была постоянной темой их работы. Энгельс повторил этот же основной тезис в другом месте в более категоричной форме, отметив, что «базовым условием старой абсолютной монархии» было «равновесие между землевладельческой аристократией и буржуазией»[4]. В самом деле, определение абсолютизма как политического балансира между аристократией и буржуазией часто склоняется к имплицитному или эксплицитному описанию его как буржуазного в своих основаниях государства. Этот сдвиг особенно очевиден в самом «Манифесте коммунистической партии», в котором политическая роль буржуазии «в период мануфактуры» охарактеризована одной фразой как «противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще»[5]. Показательно, как авторы здесь незаметно переходят от «противовеса» к «главной основе», что отзывается эхом и в других текстах. Энгельс мог отзываться об эпохе абсолютизма как о времени, когда «феодальная аристократия начала понимать, что период ее социального и политического господства пришел к концу»[6]. Маркс, со своей стороны, постоянно утверждал, что административные структуры новых абсолютистских государств были непосредственно буржуазным инструментом. «При абсолютной монархии, – писал он, – бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии». В другом месте Маркс утверждал, что «централизованное государство, с его вездесущими органами постоянной армии, полиции, бюрократии, духовенства и суда – органами, созданными по плану систематического и иерархического разделения труда, – появилось во времена абсолютной монархии, служившей новорожденному среднему классу в качестве могучего оружия в его борьбе против феодализма»[7].
Эти размышления об абсолютизме были более или менее случайными и иносказательными – основатели исторического материализма не теоретизировали специально о новых централизованных монархиях, появившихся в ренессансной Европе. Оценка их точного веса была оставлена на суждение будущих поколений. Марксистские историки, фактически, спорят о социальной природе абсолютизма до наших дней. Правильное решение этой проблемы, в самом деле, жизненно важно для понимания как перехода от феодализма к капитализму в Европе, так и политических систем, сопутствовавших этому переходу. Абсолютные монархии создали постоянные армии, бюрократию, ввели налогообложение в масштабах всей страны, кодифицированное законодательство и начала общего рынка – все это характеристики капитализма. Поскольку они совпали с исчезновением крепостного права, стержневого института феодального способа производства в Европе, то и описание абсолютизма Марксом и Энгельсом как государственных систем, представлявших собой либо баланс между буржуазией и аристократией, либо даже прямое господство капитала выглядело правдоподобным. Более тщательное исследование структур абсолютистского государства на Западе, однако, неминуемо ослабляет такое впечатление. Дело в том, что конец крепостничества не означал исчезновения феодальных отношений из села. Отождествление двух процессов – частая ошибка. И все же очевидно, что частное внеэкономическое принуждение, личная зависимость и соединение непосредственного производителя со средствами производства вовсе не обязательно исчезли, когда сельские излишки перестали извлекаться в форме труда или оброка и превратились в денежную ренту. До тех пор пока аристократическая аграрная собственность блокировала свободный рынок земли и фактическую мобильность работников, – другими словами, пока труд не был отделен от социальных условий, для того чтобы стать «рабочей силой», – отношения производства на селе оставались феодальными. Сам Маркс в теоретическом анализе земельной ренты в «Капитале» ясно сформулировал это: «Превращение отработочной ренты в продуктовую ренту, если рассматривать дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. <…> Под денежной рентой мы понимаем здесь <…> земельную ренту, возникающую из простого превращения формы продуктовой ренты, как и она сама, в свою очередь, была лишь превращенной отработочной рентой, <…> базис этого рода ренты, хотя он и идет здесь навстречу своему разложению, все еще остается тот же, как при продуктовой ренте, образующей исходный пункт. Непосредственный производитель по-прежнему является наследственным или вообще традиционным владельцем земли, который должен отдавать земельному собственнику как собственнику существеннейшего условия его производства избыточный принудительный труд, то есть неоплаченный, выполняемый без эквивалента труд в форме прибавочного продукта, превращенного в деньги»[8].
Феодалы, которые оставались собственниками основных средств производства в любом доиндустриальном обществе, были, конечно, родовитыми землевладельцами. На протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом, как в экономике, так и в политике, оставался тот же самый класс, что и в Средневековье: феодальная аристократия. Эта аристократия претерпевала глубокие метаморфозы на протяжении веков после окончания Средневековья; однако от начала и до конца истории абсолютизма она не теряла политической власти.
Изменения форм феодальной эксплуатации, происходившие в конце феодальной эпохи, были, конечно, очень значительными. В самом деле, именно эти перемены изменили формы государства. Абсолютизм был по своей сути именно перенацеленным и перезаряженным аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции – несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках новорожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия. Консенсусное мнение целого поколения историков-марксистов, от Англии до России, суммировал Хилл 20 лет назад: «Абсолютная монархия была особой формой феодальной монархии, отличавшейся от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; однако правящие классы оставались теми же самыми, точно так же, как республика, конституционная монархия и фашистская диктатура могут быть разными формами правления буржуазии»[9]. Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени. Альтюссер точно определил его характер: «Политический режим абсолютной монархии – это всего лишь новая политическая форма, необходимая для поддержания феодального господства и эксплуатации в период развития товарной экономики»[10]. Однако нельзя преуменьшать глубину исторической трансформации, связанной с появлением абсолютизма. Напротив, весьма важно ухватить полностью логику и значение той огромной перемены в структуре аристократического государства и феодальной собственности, которая произвела на свет новый феномен – абсолютизм.
Феодализм как способ производства изначально определялся через органическое единство экономики и политики, парадоксальным образом распределенное между звеньями цепи раздробленных суверенитетов по всей общественной формации. Институт крепостного права как механизма изъятия излишков соединял экономическую эксплуатацию и политико-юридическое принуждение на молекулярном уровне деревни. Феодал, в свою очередь, обычно был обязан проявлять вассальную лояльность и нести рыцарскую службу для своего сеньора, который считал землю своим исключительным владением. По мере общей замены повинностей на денежную ренту клеточное единство политического и экономического подавления крестьянства серьезно ослабело и угрожало полным распадом (в конце этого пути ждали «свободный труд» и «договор о зарплате»). Таким образом, постепенное исчезновение крепостного права ставило под сомнение классовое господство феодальных хозяев. Результатом стал сдвиг политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины – абсолютистского государства. Ослабленное на уровне деревни, оно сконцентрировалось на «национальном» уровне. Результатом стал возрожденный аппарат королевской власти, постоянной политической функцией которого было подавление крестьянских и плебейских масс внизу общественной иерархии. Эта новая государственная машина, однако, была по самой своей природе наделена силой, способной подавлять или дисциплинировать индивидов и группы внутри самой аристократии. Установление абсолютизма не было, следовательно, как мы видим, мягким эволюционным процессом для самого господствующего класса: оно было отмечено чрезвычайно резкими разрывами и конфликтами среди феодальной аристократии, чьим коллективным интересам оно в конечном счете служило. В то же самое время объективным дополнением к политической концентрации власти на вершине общественного устройства в централизованной монархии была экономическая консолидация феодальной собственности под ней. С развитием товарных отношений распад первичных связей между экономической эксплуатацией и политико-юридическим принуждением вел не только к усилению роли королевской власти в осуществлении второго, но и к компенсаторному укреплению прав собственности, гарантировавших первое. Другими словами, вместе с реорганизацией феодальной политической системы в целом и разжижением оригинальной системы феодов, владение землей делалось все менее «условным», по мере того как суверенитет становился все более «абсолютным». Ослабление средневековых концепций вассалитета приводило к двум результатам: оно придавало новую чрезвычайную власть монархии, в то же самое время освобождая от традиционных ограничений владения аристократии. Аграрная собственность в новую эпоху была молчаливо превращена в безусловно наследственную (аллодиальную, используя термин, который сам становился анахронизмом в изменившемся юридическом климате). Индивидуальные члены аристократического класса, которые постепенно теряли политические права представительства в новую эпоху, получали в качестве другой стороны того же процесса экономические приобретения в форме собственности. Окончательным результатом этого общего передела социальной власти аристократии было создание государственной машины и юридического порядка абсолютизма, целью которых было увеличение эффективности аристократического правления путем принуждения некрепостного крестьянства к новым формам зависимости и эксплуатации. Королевские государства эпохи Ренессанса были первыми и передовыми модернизационными инструментами в поддержании господства аристократии над сельским населением.
Одновременно, однако, аристократия вынуждена была приспосабливаться и ко второму антагонисту – торговой буржуазии, которая появилась в средневековых городах. Как было показано, именно наличие этой третьей прослойки не позволило западной аристократии решить свои проблемы с крестьянством по восточному образцу, сокрушив его сопротивление и прикрепив его к поместью. Средневековый город смог развиваться в результате того, что иерархическое распределение суверенитетов при феодальном способе производства впервые освободило городские экономики от прямого господства сельского правящего класса[11].
Города не создавались внешними для западного феодализма факторами, главным условием их существования была уникальная «детотализация» суверенитета в политэкономическом порядке феодализма. Это объясняет гибкость городов на Западе во время тяжелейшего кризиса XIV в., который временно обанкротил множество патрицианских семей в средиземноморских городах. Барди и Перуджи потерпели крах во Флоренции, Сиена и Барселона пришли в упадок; однако Аугсбург, Женева или Валенсия только начинали свой подъем. Важнейшие городские производства-изготовление железа, бумаги и тканей – росли, несмотря на феодальную депрессию. Сохраняя внешнюю дистанцию от аграрных проблем, сама эта экономическая и социальная жизнестойкость являлась постоянным раздражителем в ходе классовой борьбы и блокировала любые регрессивные поползновения аристократии. В самом деле, важно, что именно в 1450–1500 гг., когда на Западе появились первые предшественники унифицированных абсолютных монархий, был преодолен и долгий кризис феодальной экономики. Это стало возможным благодаря рекомбинации производственных факторов, ведущую роль в которой впервые сыграли специфически городские технологические достижения. Концентрация изобретений, совпавшая с переломом между «средневековой» и «современной» эпохами слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее здесь. Открытие процесса аффинажа (seiger) для отделения серебра от медной руды возобновило работу шахт в Центральной Европе и поток металлов в международную экономику; за 1460–1530 гг. производство монеты в Центральной Европе выросло в 5 раз. Развитие литых бронзовых пушек впервые сделало порох решающим орудием войны, превратив замки баронов в анахронизм. Изобретение наборных литер положило начало книгопечатанию. Конструирование трехмачтовых управляемых с кормы галеонов сделало океаны преодолимыми и положило начало заморским завоеваниям[12]. Все эти технические прорывы, заложившие основы европейского Возрождения, произошли во второй половине XV в., и именно тогда прекратилась вековая аграрная депрессия– в Англии и Франции это произошло примерно к 1470 г.
Это была именно та эпоха, когда неожиданное восстановление политической власти и единства происходило в одной стране за другой. Из пропасти крайнего феодального хаоса и беспорядка времен войны Алой и Белой розы, Столетней войны и второй кастильской гражданской войны, практически одновременно появились и первые «новые» монархии в правление Людовика XI во Франции, Фердинанда и Изабеллы в Испании, Генриха VII в Англии и Максимилиана в Австрии. Таким образом, когда на Западе возникали абсолютистские государства, их структура была в своем основании определена перегруппировкой феодалов против крестьянства после отмены крепостного права; однако затем она была переопределена подъемом городской буржуазии, которая после серии технических и коммерческих достижений развивала доиндустриальную мануфактуру. Именно это вторичное влияние городской буржуазии на формы абсолютистского государства отметили Маркс и Энгельс в своих вводящих в заблуждение представлениях о «противовесе» и «главной основе». Энгельс не раз достаточно аккуратно описывал настоящее соотношение сил: обсуждая новые морские открытия и мануфактуры времен Возрождения, он писал, что «за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры. Государственный строй оставался по-прежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным»[13]. Угроза крестьянского недовольства, незримо конституировавшая абсолютистское государство, всегда, таким образом, сочеталась с давлением торгового или мануфактурного капитала внутри западных экономик, отливая контуры классового господства аристократии в новую эпоху. Конкретная форма абсолютистского государства на Западе стала результатом действия двух этих факторов.
Двойственные силы, которые произвели на свет новые монархии Европы эпохи Ренессанса, нашли единую юридическую форму. Возрождение римского права, одно из великих культурных достижений эпохи, одинаково соответствовало нуждам обоих социальных классов, чья сила и положение оформили структуру абсолютистского государства на Западе. Новое открытие римского права восходит к эпохе Высокого Средневековья. Все более прочное установление обычного права не смогло полностью стереть память о нем и практику римского гражданского права на том полуострове, где его традиции были самыми долгими, – в Италии. Именно в Болонье Ирнерий, «светоч закона» (lamp of the law), начал систематическое изучение кодексов Юстиниана в начале XII в. Основанная им школа глоссаторов методически воспроизводила и классифицировала наследие римских юристов на протяжении следующей сотни лет. За ними последовала школа комментаторов XIV–XV вв., более заинтересованных в современном приложении римских правовых норм, чем в научном анализе их теоретических принципов; в процессе адаптации римского права к резко изменившимся условиям времени они исказили его первоначальную форму и очистили его от частного содержания[14]. Сама неточность перевода ими латинской юриспруденции парадоксальным образом «универсализировала» ее, удаляя большие порции римского гражданского права, строго привязанные к историческим условиям античности (например, конечно же, всестороннее рассмотрение вопросов рабства)[15]. Римские юридические концепции начали распространяться за пределы Италии начиная с их повторного открытия в XII в. К концу Средних веков ни одна крупная страна Западной Европы не осталась не затронутой этим процессом. Однако решительное «принятие» римского права, его решающий юридический триумф произошел в эпоху Возрождения, одновременно с триумфом абсолютизма. Два типа исторических причин его глубокого влияния отражали противоречивый характер самого римского наследия.
Экономически восстановление и введение классического гражданского права весьма благоприятствовало росту свободного капитала в городе и стране, потому что главной отличительной чертой римского гражданского права была содержащаяся в нем концепция абсолютной и безусловной частной собственности. Классическая концепция законной (Quiritary) собственности потерялась еще в темных глубинах раннего феодализма, потому что феодальный способ производства, как мы видели, точно определялся юридическим принципом условной собственности в дополнение к раздробленному суверенитету. Этот статус собственности был хорошо адаптирован к почти полностью натуральной экономике, возникшей в «темные века»; хотя он никогда не был полностью адекватным городскому сектору, развивавшемуся в средневековой экономике. Возрождение римского права в ходе Средневековья вело, таким образом, к юридическим попыткам «уточнить» и ограничить понятие собственности, вдохновленное заново открытыми классическими принципами. Одной из таких попыток было изобретение в конце XII в. различения между dominium directum и dominium utile для объяснения существования вассальной иерархии и соответственной множественности прав на одну и ту же землю[16]. Другой была характеристика средневекового понятия владения собственностью (seisin), расположенного между римскими «собственностью» (property) и «владением» (possession), которая гарантировала защищенную собственность от случайного присвоения или конфликтующих притязаний, сохраняя при этом феодальный принцип множественных прав на один и тот же объект: право seisin не было ни исключительным, ни вечным[17]. Полное восстановление концепции абсолютной частной собственности на землю было продуктом раннего Нового времени, когда потребовалось, чтобы производство и обмен товаров в сельском хозяйстве и в мануфактурном производстве достигли уровня равного или превосходящего античность и чтобы кодифицирующие их юридические концепции смогли вернуть себе изначальное значение. Принцип superficies solo cedit— единой и безусловной собственности на землю – снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности, именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе. В самих средневековых городах, конечно же, появилось относительно развитое коммерческое право. Внутри городской экономики обмен товаров достиг относительного динамизма уже в Средневековье, и в некоторых важных отношениях формы его юридического выражения были более развитыми, чем сами римские прецеденты: примером могут служить законодательство о компаниях и морское право. Однако здесь тоже не существовало единой структуры, правовой теории или процедур. Превосходство римского права для торговой практики городов состояло, таким образом, не только в его ясном понятии абсолютной собственности, но и в традициях равенства, рациональных канонах доказательства и опоре на профессиональных юристов – преимущества, которые не мог предоставить традиционный суд[18]. Восприятие римского права в ренессансной Европе было, таким образом, знаком распространения капиталистических отношений в городах и в стране: экономически оно отвечало жизненным интересам торговой и мануфактурной буржуазии. В Германии, стране, где воздействие римского права было наиболее драматичным, в конце XV–XVI в. невероятно быстро вытеснившим местные суды с родины тевтонского обычного права, первоначальный импульс к его принятию возник в южных и западных городах и пришел снизу через давление городских истцов, требовавших ясного и профессионального процессуального права[19]. Вскоре, однако, оно было взято на вооружение германскими князьями и применено на их территориях в еще больших масштабах и с совершенно иными целями.