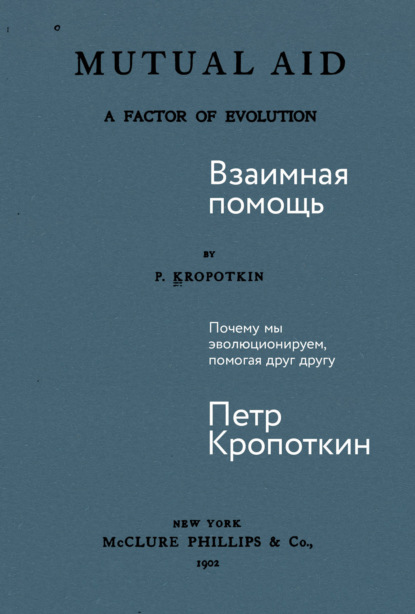000
ОтложитьЧитал
Текст печатается по изданию: Кропоткин П. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Петербург-Москва: Голос труда, 1922.
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Лидия Разживайкина
Продюсер проекта: Марина Красавина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Мария Прянишникова-Перепелюк, Оксана Дьяченко
Верстка: Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© ООО «Альпина Паблишер», 2024
* * *
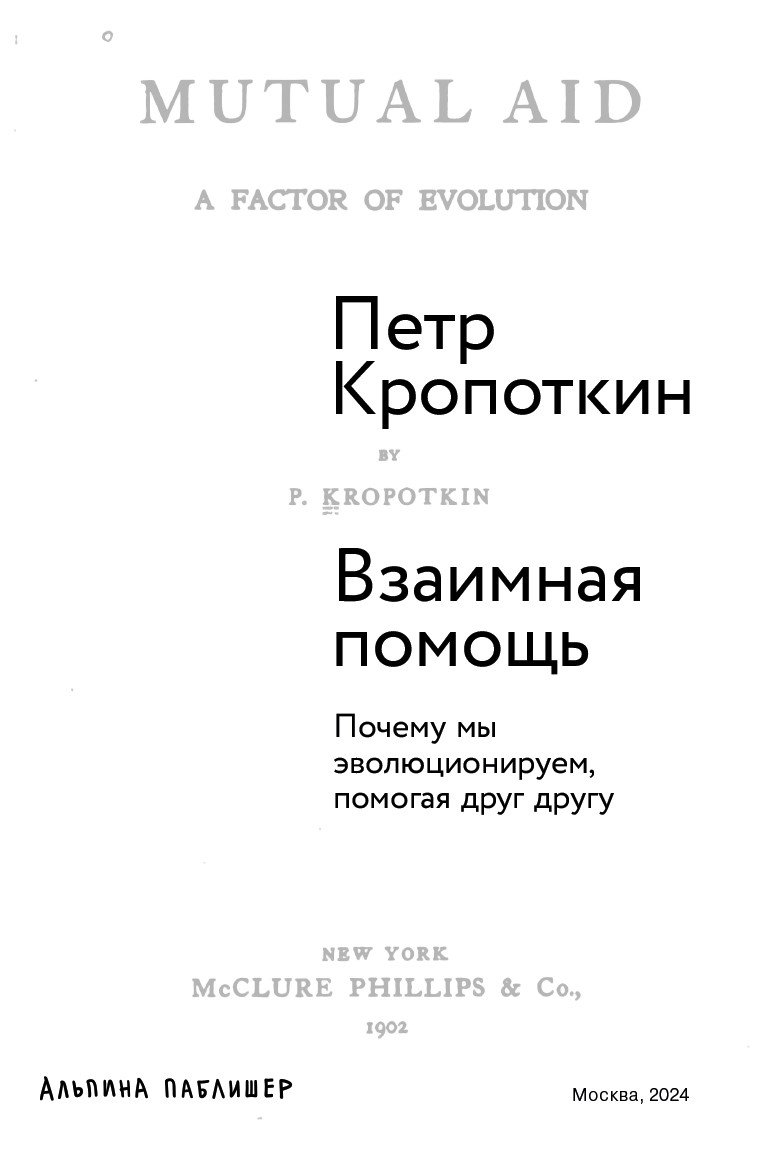
Вступительная статья
Революционер и эволюция
Когда речь заходит об истории российской науки, я люблю озадачивать собеседников вопросом: «Кому из отечественных авторов принадлежит наиболее цитируемая работа по эволюционной биологии?» Тимирязеву? Северцову? Шмальгаузену? А вот и нет! Ее написал не профессиональный ученый, а профессиональный революционер – анархист князь Петр Кропоткин. Его книга «Взаимопомощь: фактор эволюции», впервые изданная в 1902 г. на английском языке, по данным Google Scholar, процитирована в научной литературе почти 4300 раз. На этом месте наиболее дотошные могут спросить: «А как же Феодосий Добржанский, один из создателей синтетической теории эволюции, господствующей в биологии и по сей день?» Его труд «Генетика и происхождение видов» (1937), также написанный по-английски, набрал еще больше цитирований – около 9200. А ведь Добржанский тоже был нашим соотечественником и начинал научную карьеру в СССР – в США он уехал в 1927 г., в возрасте 27 лет. Но все-таки Добржанский, несмотря на русское происхождение, принадлежал миру американской науки – на родину он так никогда и не вернулся, да и не особо помышлял об этом. Кропоткин же покинул отчизну, сбежав из тюремной больницы, когда ему было 34 года, то есть уже вполне зрелым человеком, и на протяжении всей своей жизни в эмиграции продолжал пристально следить за происходящим в России, раздувая тлеющие угольки мировой революции в надежде, что однажды в этом пожаре сгорит и ненавистное ему самодержавие.
Ждать пришлось долго – но Кропоткин, в отличие от многих других революционеров-народников первой волны, сгинувших на чужбине от пьянства, безденежья и безнадеги, политических сдвигов в России все-таки дождался. Они-то и проложили путь на родину произведениям мятежного князя. После революции 1905 г. и последовавшей за ней отмены цензуры русский перевод «Взаимопомощи», доработанный и отредактированный автором, вышел под названием «Взаимная помощь как фактор эволюции». Это произошло в 1907 г., тогда же были впервые изданы в России и мемуары Кропоткина – знаменитые «Записки революционера». А вслед за Февральской революцией 75-летний Кропоткин после 40 лет эмиграции пожаловал на родину уже собственной персоной. Поселившись в Дмитрове, этот «старый, заслуженный революционер», как его называл Ленин, выписавший Кропоткину охранную грамоту, начал готовить корпус своих сочинений к переизданию на русском языке. Результатом этой работы стала «Этика», явившаяся продолжением и развитием идей, высказанных во «Взаимопомощи», – она была издана в 1922 г., на следующий год после смерти Кропоткина. В том же году вышло и очередное русское издание «Взаимопомощи». В новой авторской редакции книга получила название «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» – переиздание этого текста вы сейчас и держите в руках.
В основу «Взаимопомощи» лег цикл из шести статей Кропоткина, опубликованных в 1890–1896 гг. в журнале The Nineteenth Century («Девятнадцатый век»). Однако на этом сотрудничество Кропоткина с The Nineteenth Century не закончилось. В этом же журнале, который с началом нового столетия был несколько неуклюже переименован в The Nineteenth Century and After («Девятнадцатый век и далее»), поскольку права на название «Двадцатый век» уже оказались зарезервированы кем-то другим, Кропоткин, начиная с 1904 г. опубликовал еще девять статей, посвященных механизмам эволюции и эволюционным истокам морали[1]. Некоторые из них в переработанном виде вошли впоследствии в состав «Этики». Последняя из статей Кропоткина на тему эволюции на страницах английского журнала появилась в 1919 г., когда его редакция была уверена, что вернувшийся в Россию старый анархист уже сгинул в большевистских застенках (советская власть преследовала анархистское движение так же безжалостно, как и эсеров). Так что «Взаимопомощь» следует рассматривать не как последнее слово Кропоткина, а лишь как промежуточный итог его размышлений об эволюции и происхождении этики, которыми он делился с читателями The Nineteenth Century на протяжении почти 30 лет.
The Nineteenth Century был совсем не похож на те захудалые политические листки, в которых обычно печатались беглые русские революционеры. Этот журнал, основанный в 1877 г. журналистом и архитектором Джеймсом Ноулзом, считался самым популярным и влиятельным интеллектуальным ежемесячником поздневикторианской эпохи. Ноулз задумал свой журнал как нейтральную внепартийную площадку для дискуссий, к участию в которых он привлекал самых известных политиков, ученых, писателей и общественных деятелей Англии. В отличие от солидных ежеквартальников старого образца, вроде The Edinburgh Review, статьи в которых чаще всего выходили анонимно или под псевдонимами, все публикации в The Nineteenth Century по настоянию Ноулза подписывались настоящими именами их авторов. Благодаря фамилиям знаменитостей в списке авторов Ноулзу и удалось «раскрутить» свое детище – лидеров мнений он привлекал к написанию статей при помощи личных связей и щедрых гонораров, которые, однако, полностью окупались за счет подписки (на пике популярности The Nineteenth Century число подписчиков этого журнала достигало 20 000). Современники шутили, что единственными звездами первой величины, коих Ноулз не смог убедить писать для своего журнала, были Бисмарк и папа римский.
Самым известным автором The Nineteenth Century был политик Уильям Гладстон, четырежды становившийся британским премьер-министром. Даже занимая премьерское кресло, он не забывал регулярно присылать в журнал свои тексты. На страницах The Nineteenth Century Гладстон полемизировал об отношениях науки и религии с Томасом Гексли. О Гексли принято вспоминать как о «бульдоге Дарвина» и популяризаторе теории эволюции, но не менее важную роль он сыграл в истории английской науки в качестве администратора, возглавляя различные научные общества и входя в состав правительственных комиссий по вопросам образования. Гексли довелось поработать секретарем, а затем и президентом Королевского общества – аналога европейских государственных научных академий. Представьте себе журнал, в котором выпуск за выпуском президент РАН и действующий глава правительства РФ спорят о толковании Библии в свете данных науки, – разумеется, за их полемикой будет следить вся страна. Таков был уровень The Nineteenth Century, и именно в те золотые годы, когда на его страницах мелькали фамилии Гладстона, Гексли, а также барона Ротшильда, поэта Теннисона, кардинала Мэннинга и других викторианских знаменитостей, Кропоткину и посчастливилось попасть в обойму авторов этого прославленного ежемесячника. Сначала Кропоткин сотрудничал с The Nineteenth Century как научный обозреватель, а затем стал писать для него и оригинальные статьи.
* * *
Цикл публикаций Кропоткина об эволюции и взаимопомощи возник не на пустом месте. Изложить свои мысли на эту тему его побудила статья Гексли «Борьба за существование в человеческом обществе», опубликованная в 1888 г. все в том же The Nineteenth Century[2]. Позднее Гексли развил идеи этой статьи в роменсовской лекции «Этика и эволюция», прочитанной им в 1893 г. и изданной годом позже вместе с предисловием и примечаниями в составе одноименного сборника эссе[3]. В своих рассуждениях Гексли как убежденный дарвинист принимал за отправную точку, что движущей силой биологической эволюции является безжалостная конкуренция. Человек в этом отношении ничем не отличается от остальных видов. Для нас, как и для любых других организмов, естественно расталкивать друг друга локтями в борьбе за место под солнцем, не останавливаясь ни перед чем. «Примитивный дикарь налагал руку на все, что приглянулось, и, если только мог, убивал всякого, кто противился ему»[4]. Социальный порядок и этические нормы – лишь тонкая корка льда на поверхности клокочущей бездны инстинктов. Обществу постоянно угрожает соскальзывание в гоббсовскую войну всех против всех. «Стремление человека, живущего по этическим принципам, работать над осуществлением нравственных целей, ни в коей мере не отменяет, и даже едва ли затрагивает, глубоко укорененные природные побуждения, подталкивающие естественного человека поступать аморально»[5]. Эгоизм и соперничество на международной арене и внутри государства – печальная, но неизбежная реальность, от которой никуда не деться.
В понимании Гексли задача этики – максимально обуздать внутреннего «тигра» и внутреннюю «обезьяну», которых мы унаследовали от предков. Его позицию не следует путать со взглядами социал-дарвинистов, полагавших, что человечество должно жить по законам джунглей, раз так завещано нам самой природой. На этом основании социал-дарвинисты приветствовали колониальные захваты и истребление туземного населения в интересах более витальных рас, но осуждали помощь беднякам, так как это способствует выживанию неприспособленных и ставит палки в колеса естественному отбору. Напротив, Гексли предостерегал от смешения естественного и должного: то, что мы наблюдаем в природе, нельзя считать руководством к действию. Этические нормы невозможно вывести из законов эволюции, ведь между ними существует непреодолимое противоречие. Этика учит нас бескорыстно помогать ближнему, а эволюция – искать выгоды только для себя и своего потомства. «Представление о том, что теория эволюции может заложить фундамент для морали, кажется мне иллюзией, которая возникает из-за прискорбной двусмысленности слова "наиболее приспособленный" в словосочетании "выживание наиболее приспособленных". Мы обычно используем слова "наиболее приспособленный" в хорошем смысле, имея в виду "лучший", а слово "лучший" мы склонны понимать в этическом смысле. Между тем "наиболее приспособленный", который выживает в борьбе за существование, может быть, и часто является самым худшим с этической точки зрения»[6]. Согласно Гексли, наш вид, вскарабкавшись по эволюционной лестнице, должен оттолкнуть ее от себя. «Единственный способ распрощаться с нашим дурным наследием – это разрушить источник желания, откуда проистекают наши пороки, перестать быть инструментами эволюционного процесса и выйти из борьбы за существование»[7].
Кропоткину, который в 1886 г. перебрался из Франции в Лондон, суждения Гексли о социально-этических аспектах эволюционной теории пришлись совсем не по вкусу. Ведь если этот титулованный представитель дарвиновской ортодоксии прав, то человек не имеет оснований для нравственного поведения в самом себе. Чтобы придерживаться норм и правил, без которых немыслима цивилизованная жизнь, людям необходим внешний авторитет – церковь или государство. Но и то и другое Кропоткин, будучи теоретиком анархизма, отвергал. В противовес безрадостной картине конкурентной борьбы, пронизывающей природу, где каждый сам за себя, Кропоткин решил сформулировать альтернативное – куда более оптимистичное – понимание эволюции, которое позволило бы подвести научную базу под его собственный политический идеал. Это был весьма дерзкий и амбициозный по своему масштабу интеллектуальный проект. Однако Ноулз был только рад, что Кропоткин бросит вызов такому светилу викторианской науки, как Гексли, на страницах The Nineteenth Century. Он всегда приветствовал и даже поощрял полемику, добавлявшую необходимый «оживляж» его журналу. Например, когда Гексли спорил с Гладстоном о Библии и науке, Ноулз сразу же пересылал каждому из них очередную статью оппонента еще до ее выхода из печати, чтобы дать им время подготовить свой ответ в следующий номер. Неудивительно, что Ноулз подогревал полемический задор русского князя: «Со своей замечательной проницательностью [он] тотчас усмотрел важность вопроса и стал убеждать меня, с чисто юношеской пылкостью, взяться за эту работу», – вспоминал потом Кропоткин[8].
Первый раз Кропоткин атаковал Гексли еще в 1888 г. в статье о сельском хозяйстве, доказывая, что за счет повышения производительности труда растущему населению Земли не составит проблемы прокормить себя[9]. Этим аргументом Кропоткин метил в мальтузианство, которым буквально сочилась статья Гексли о борьбе за существование в человеческом обществе. Английский экономист и священник Томас Мальтус, как известно, утверждал, что прирост народонаселения обгоняет темпы производства средств к существованию – отсюда голод и нищета. Бесконтрольное размножение провоцирует борьбу за ограниченные ресурсы, способную отбросить общество назад к варварству. Гексли, в полном согласии с выводами Мальтуса, бил тревогу: ежегодно население Англии увеличивается на 300 000 человек, притом что за счет собственных пахотных земель эта страна не может обеспечить хлебом и половину своих жителей[10]. Когда Кропоткин поставил под сомнение этот тезис, Гексли пожаловался в письме к Ноулзу, что князь незаслуженно его «пнул», но признал, что статья «вашего друга Крапоткина» [так] «очень интересна и важна»[11]. Но в дальнейшем Гексли так и не снизошел до прямой полемики с Кропоткиным. Последние две его статьи, вошедшие в состав «Взаимопомощи», Гексли вообще не суждено было прочесть: он умер в 1895 г., за год до их публикации. Но молчание Гексли не помешало Кропоткину полемизировать со взглядами этого апостола дарвинизма на протяжении почти трех десятилетий.
* * *
Целясь в Гексли, Кропоткин, однако, пытался поправить самого Дарвина. Отличительной чертой дарвиновской теории эволюции была та роль, которая отводилась в ней естественному отбору. Эволюционистов хватало и до Дарвина – достаточно вспомнить Жана Батиста Ламарка или Роберта Чемберса, но никто из них не додумался до того, чтобы провозгласить выживание наиболее приспособленных основной движущей силой эволюции. А ведь идею естественного отбора Дарвину подсказал именно Мальтус, и Дарвин не думал этого скрывать. Борьба за существование в природе, возникающая вследствие мальтузианской ловушки – избыточного размножения в условиях недостатка ресурсов, – красочно описывается Дарвином в «Происхождении видов». Там, где обыватели любовались красотами цветущего луга или величием дождевого тропического леса, Дарвин видел безжалостную конкуренцию: в борьбе за солнечный свет и клочок почвы растения теснятся и душат друг друга, рассеивают семена и захватывают жизненное пространство в ущерб как другим видам, так и собственным сородичам. И чем сильнее сходство между особями, тем яростнее между ними соперничество. «Соревнование должно быть наиболее жестоко между близкими формами, занимающими почти то же место в экономии природы», – писал Дарвин[12].
Кропоткину же претило мальтузианство не только в социальных науках, но и применительно к органическому миру. В этом вопросе Кропоткин продолжал традицию русской мысли XIX в., для которой было характерно практически повсеместное неприятие теории Мальтуса. Действительно, в России с ее неосвоенными просторами, где вечно ощущалась нехватка рабочих рук, мальтузианский тезис о перенаселенности не мог встретить особого понимания. Мальтуса как экономиста критиковали в России и справа, и слева – ему досталось и от консерватора Владимира Одоевского, и от нигилиста Дмитрия Писарева. А когда «Происхождение видов» было переведено на русский язык, даже те, кто приветствовал эволюционизм, принялись порицать Дарвина за привнесение элементов мальтузианства в биологию и чрезмерную зацикленность на индивидуальной конкуренции[13]. Организмы борются не столько друг с другом, сколько с суровыми условиями внешней среды – это утверждение, которым Кропоткин открывает «Взаимопомощь», на разные лады высказывали самые разные отечественные авторы того времени. Например, Николай Данилевский писал о суровых зимах, засухах и эпидемиях, которые периодически уничтожают великое множество организмов без оглядки на их индивидуальную приспособленность. Так, икру рыб выбрасывает на берег в результате сильного волнения или же она гибнет вследствие пересыхания затонов и лиманов, что приводит к резкому снижению общего поголовья. «В такие годы, следовательно, борьба за существование прекращается между этими столь быстро размножающимися животными, и не только по отношению к добыванию пищи, но и в других отношениях»[14]. Данилевский как никто другой был далек от социализма, но при этом почти одновременно с Кропоткиным высказывал те же самые критические замечания в адрес теории Дарвина – здесь явно сказывается особый «национальный стиль», присущий русской науке.
Сам Кропоткин в письме к анархистке Марии Гольдсмит так объяснял разницу во взглядах на внутривидовую конкуренцию между западноевропейскими и отечественными натуралистами: «Русские зоологи исследовали необъятные континентальные регионы в умеренной зоне, где борьба видов против условий среды… более выражена, тогда как Уоллес и Дарвин преимущественно изучали побережье тропических стран, где перенаселенность сильнее бросается в глаза». Поэтому, продолжает Кропоткин, «Кесслер, Северцов, Мензбир, Брандт – четыре великих зоолога, и пятый, меньший по значимости, Поляков, и, наконец, я, простой путешественник, выступаем против преувеличенного внимания дарвинистов к внутривидовой борьбе. Мы видим огромную роль взаимопомощи там, где Дарвин и Уоллес видят только борьбу»[15]. Хотя в качестве своего идейного предшественника во введении к «Взаимопомощи» Кропоткин упоминает только зоолога Карла Кесслера, профессора Санкт-Петербургского университета, похожие идеи развивали и многие другие отечественные авторы. Например, идеолог народничества Петр Лавров еще в 1875 г. критиковал дарвинистов за абсолютизацию борьбы за существование, противопоставляя ей инстинктивную взаимопомощь и взаимную солидарность, которую можно наблюдать у пчел, муравьев, птиц и млекопитающих. Согласно Лаврову, на верхних ступенях эволюции взаимная конкуренция слабеет, а инстинкт взаимопомощи, наоборот, усиливается: «В этом фазисе развития мира организмов борьба за существование перешла в прочувствованную солидарность между особями одной группы»[16]. Это в зародыше и есть эволюционное учение Кропоткина.
Так что «Взаимопомощь» взялась не из воздуха – Кропоткин черпал из обширной кладовой русской мысли, которая традиционно превозносила общинность, круговую поруку и коллективное действие, противопоставляя их западному индивидуализму и состязательности, в отрицании которых совпадали революционеры-народники и славянофилы. Заслуга Кропоткина состоит в том, что ему удалось выразить эти умонастроения в виде связной эволюционной теориии и ознакомить с ней широкую западную аудиторию.
Я не буду пересказывать факты и доводы, которыми Кропоткин пытался подкрепить свою концепцию во «Взаимопомощи» и последующих статьях, а сразу перейду к основным ее положениям. Главной особенностью эволюционной теории Кропоткина было отрицание ведущей роли естественного отбора в возникновении новых видов – вместо того чтобы соревноваться в плодовитости и взаимном истреблении, организмы, во-первых, сообща противостоят внешней среде и, во-вторых, меняются под ее прямым влиянием. Именно под действием двух этих факторов, по мнению Кропоткина, и происходит эволюция.
Уже во «Взаимопомощи» Кропоткин отмечал правоту ламаркистов, которые признают «изменяющее влияние среды на живущие в ней виды»[17]. В дальнейшем Кропоткин более подробно развил этот вопрос, скрупулезно выуживая из научной литературы свидетельства, доказывающие, что растения и животные под давлением внешних условий претерпевают адаптивные изменения и затем передают их по наследству. Например, высокогорные травы покрываются густыми волосками для защиты от ультрафиолета, а птицы и звери на севере приобретают светлую окраску, чтобы стать незаметными на фоне снега. Дарвинизм объясняет эти приспособления естественным отбором, воздействующим на случайную изменчивость. Медвежонок со светлой шерстью может случайно родиться в любой местности, просто в обычном лесу это не даст ему никаких преимуществ, а вот за полярным кругом такой медведь сможет эффективнее охотиться и оставит больше потомства. Это как в казино, где есть везунчики и неудачники. Тебе либо выпал счастливый билетик, либо нет. Ламаркисты же верили, что холод и снег одинаково влияют на всех медведей, заставляя их меняться в нужную сторону. Изменчивость носит направленный характер и подчинена нуждам самих организмов. Природа, словно коммунист, отмеряет каждому по потребностям, подталкивая вперед всех особей данного вида, просто кто-то идет чуть медленнее, а кто-то – чуть быстрее. Различия в индивидуальной приспособленности при таких раскладах сглажены, а значит, отбор и конкуренция отходят на второй план. «Гипотеза, которая усматривает в борьбе за жизнь причину накопления изменений, больше не представляется необходимой, когда мы имеем реальную причину, производящую те же результаты, в виде прямого действия окружающей среды»[18], – пишет Кропоткин.
Дарвинизм с его мальтузианством всегда ассоциировался со свободным рынком и капиталистическим строем. «В наш век капитализма и меркантилизма "борьба за существование" так отвечала требованиям большинства, что затмила все остальное», – жаловался Кропоткин[19]. Напротив, ламаркизм традиционно отвечал чаяниям приверженцев левых идей и еще в додарвиновскую эпоху в Англии был взят на вооружение социалистами-оуэнитами[20]. Кстати, неслучайно, что при Сталине и Хрущеве, когда коммунистическая идеология еще не превратилась в пустую формальность, именно ламаркизм в исполнении Мичурина и Лысенко стал главенствовать в советской биологии. Но как лысенковцы продолжали ритуально взывать к авторитету Дарвина, точно так же и Кропоткин никогда открыто не противопоставлял себя ему. Наоборот, Кропоткин строил из себя защитника истинного дарвиновского учения, искаженного такими эпигонами, как Гексли. И он имел на это некоторое право, ведь на излете жизни сам Дарвин действительно претерпел ощутимый крен в ламаркизм. Если в первой версии «Происхождения видов», опубликованной в 1859 г., Дарвин категорично настаивал, что естественный отбор является единственным «мотором» эволюции, то в последующих изданиях этого труда он все больше прибегал к предположениям о направленной изменчивости и наследовании благоприобретенных признаков. Чтобы записать Дарвина к себе в союзники, Кропоткин в своих статьях подробно разобрал, как менялись его взгляды, дрейфуя к умеренному ламаркизму.
Если даже сам Дарвин лишил привилегий свое собственное детище – теорию естественного отбора, то что уж и говорить о других эволюционистах той поры. Историки называют ситуацию в тогдашней биологической науке «затмением дарвинизма» (eclipse of darwinism): после публикации «Происхождения видов» большинство ученых уверовало в существование эволюции, но при этом очень многие сомневались, что Дарвину удалось дать ее удовлетворительное объяснение. Появилось множество конкурирующих теорий, которые провозглашали основополагающим механизмом эволюции жизненный порыв, внутреннее стремление организмов к усложнению, упражнение органов, прямое воздействие среды – короче, все что угодно, но только не естественный отбор. Естественный отбор был низведен до роли второстепенной силы, этакой уборщицы с совком и веником, которая скромненько сметает с арены жизни дефективные формы, но не способна создать что-то принципиально новое. В этом смысле позиция Кропоткина неоригинальна – дарвинизм, в том числе и с ламаркистских позиций, в конце XIX в. не критиковал только ленивый. «Изюминкой» в построениях князя было именно понятие взаимной помощи, которое, как я уже говорил, он выработал под влиянием российской общественной и научной мысли. Насколько мне известно, в то время никто другой на Западе, кроме Кропоткина, не рассматривал склонность животных к кооперации как ключ к пониманию эволюции.
«Взаимная поддержка является законом (всеобщим фактом) природы, несравненно более важным, чем борьба за существование, прелести которой нам восхваляют буржуазные писатели»[21], – отмечал Кропоткин. Зачем воевать с сородичами, если ресурсов хватит на всех? Наоборот, лучше объединиться для их эффективного использования. Кропоткин подчеркивает: «Борьба за жизнь не может приобретать характер напряженной внутренней войны в рамках каждого племени и группы. Она не может быть борьбой за индивидуальные преимущества. Она должна быть совместной борьбой группы против общих врагов и враждебных сил природы»[22]. Природа для Кропоткина – это не перенаселенные городские трущобы, жители которых готовы перегрызть друг другу глотку из-за рабочих мест и крыши над головой (именно в такой обстановке прошла юность Гексли), а бескрайние сибирские просторы, где человеку не выжить в одиночку. Во время своей службы в Амурском крае молодой Кропоткин был впечатлен тем, каких успехов в колонизации неосвоенных земель – без всякой помощи государства – добивались сплоченные общины сектантов-духоборов по сравнению с другими переселенцами, и эти наблюдения сыграли немалую роль в становлении его взглядов на эволюционный процесс[23]. По словам Кропоткина, животным тоже свойственно объединяться в группы, которые «действуют как одно целое и ведут борьбу с неблагоприятными условиями жизни или же с внешними врагами[24].
Чем сильнее сплоченность внутри групп и чем выше готовность отдельных особей жертвовать собой во благо других, тем большего успеха добивается вид в целом и тем выше он стоит на лестнице прогресса. «Взаимная помощь внутри вида является… главным деятелем того, что можно назвать прогрессивным развитием»[25], – писал Кропоткин. У животных, сообща решающих коллективные задачи, вырабатываются особые «навыки, уменьшающие внутреннюю борьбу за жизнь»[26] – общественный инстинкт. Этот инстинкт отвечает за «согласование воли отдельных особей с волей и намерениями целого»[27]. У наиболее успешных видов общественные инстинкты выражены сильнее всего, чему примером служат муравьи – вершина эволюции беспозвоночных животных и человек – самый продвинутый представитель позвоночных. Склонность к взаимопомощи вознесла наш вид на эволюционный олимп и продолжает оставаться драйвером социального развития человечества со времен первобытных общин и заканчивая рабочими союзами и профессиональными ассоциациями. «В человечестве есть ядро общественных привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен. ‹…› Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше и древнее всякого принуждения. Но на них основан весь прогресс человечества»[28], – полагал Кропоткин.
* * *
Эволюционная теория Кропоткина подводит к выводам, диаметрально противоположным пессимистичному мировоззрению Гексли. Из нее следует, что природа – это не царство зла, а школа нравственности. Моральные принципы заложены в нас от рождения. Для человека естественно помогать ближнему, а не вести войну всех против всех. Люди не нуждаются в надзоре со стороны власти ради поддержания мира и порядка, они справятся с этим и самостоятельно. Государство не привносит ничего позитивного в жизнь человека, а лишь паразитирует на его врожденной склонности к кооперации. Люди ошибаются, когда приписывают «своему правительству и законам то, что в действительности является результатом их собственных привычек и общественных инстинктов»[29].
Этот тезис как нельзя лучше подходил для обоснования анархических идеалов Кропоткина, который вел напряженную полемику с социалистами-государственниками. Началась она еще в 1870-х гг. с перебранки Карла Маркса и Михаила Бакунина – идейного предшественника и вдохновителя Кропоткина. Бакунин выступал за немедленное упразднение государства, на смену которому должна прийти федерация самоуправляющихся общин. Маркс же считал, что государство надо использовать как инструмент диктатуры пролетариата, а когда коммунизм будет построен, оно отомрет само собой – просто это произойдет не сразу. Этот спор внутри левого лагеря особенно обострился в те годы, когда Кропоткин работал над «Взаимопомощью». После отмены антисоциалистических законов Бисмарка в 1890 г. последователи Маркса в лице немецких социал-демократов взяли курс на участие в легальной политике. Вместо того чтобы разрушать государство, они попытались в него встроиться и прийти к власти путем выборов, если это не получится сделать путем революции. С оглядкой на них действовали и другие социалисты. В результате марксисты подмяли под себя международное левое движение, так что в 1893 г. анархистов исключили из Второго интернационала. Анархизм находился в идейном и организационном кризисе, и теоретические наработки Кропоткина должны были вернуть ему интеллектуальный престиж, изрядно поблекший перед политэкономией Маркса, воспринимавшейся многими как последнее слово в науке[30].
Вторым зайцем, которого хотел убить Кропоткин своей теорией взаимопомощи, была религия. Но тут надо отметить, что его основной спарринг-партнер Гексли не был религиозен. Напротив, он отпускал колкости по поводу Священного Писания, а себя называл агностиком – этот термин Гексли сам же и придумал, желая подчеркнуть, что вопрос о существовании Бога неразрешим и должен быть задвинут в дальний угол. Несмотря на это, Гексли не раз отмечал, что некоторые христианские догматы неплохо согласуются с тем, что говорит наука. Например, учение о предопределении, считал Гексли, хорошо ложится в детерминистическую картину мира: все события и поступки людей можно предсказать в самый первый миг истории Вселенной, зная законы природы и первичное расположение частиц материи. Учение о первородном грехе тоже соответствует научным представлениям о человеческой природе, обуреваемой врожденным эгоизмом и другими деструктивными инстинктами, доставшимися нам от животных предков. «Учение о предопределении, первородном грехе, прирожденной испорченности человека и гибельной участи большей части рода человеческого, о господстве Сатаны в этом мире, о сущностной порочности материи… кажется мне гораздо более близким к истине, чем популярные "либеральные" иллюзии, что все дети рождаются хорошими, и что они не остаются таковыми лишь из-за дурного примера, подаваемого им обществом, и что каждому под силу достигнуть этического идеала, если только он приложит к этому усилие»[31]. В другом месте Гексли отмечал, что доктрина первородного греха отсылает к «врожденной склонности к самоутверждению, которая была условием победы в борьбе за существование»[32] и утвердилась в нас за долгие века эволюции.