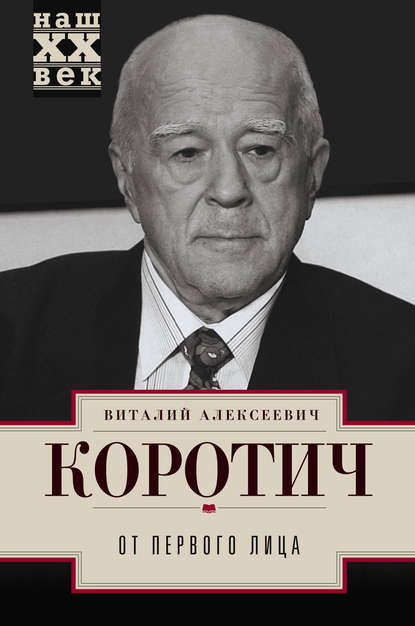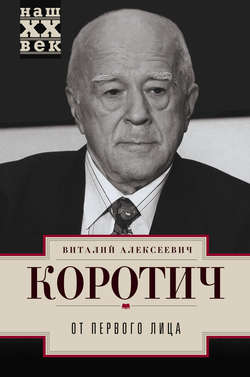
000
ОтложитьЧитал
В междувременье случилось еще несколько «историй-звоночков», в частности подставленная мне Гущиным и не проверенная до конца статья следователей Гдляна – Иванова о коррупции в ЦК советской компартии. Чтобы вывернуться, мне чуть ли не самому пришлось в дальнейшем провести следствие, посидеть с Гдляном над видеопленками допросов чиновных вельмож, а затем в президиуме Всесоюзной партконференции в Кремле вручить Горбачеву папки с делами вороватых партийных функционеров. Хорош был тогда скандал, но он стоил здоровья, и не только мне: в день моего выступления какой-то грузовик долбанул мою служебную «Волгу», помял машину, сильно ушиб водителя…
Я пишу все это, раскаиваясь. Не удалось совместить в журнале розы и виноград, красивое с полезным. Сейчас, когда российское население отважно борется с капитализмом и коммунизмом одновременно, я снова отчетливо понимаю, как в «Огоньке» времен его взлета скрестились два главных направления жизни и не смогли соединиться. Романтический дух перемен, надежды на лучшее и спокойная уверенность вороватой братии, все больше забирающей власть, сталкивались не только в журнале – во всей стране. Мы были как бы малой моделью всероссийской ситуации. Мой заместитель почти гордился тем, что ничего не смыслит в вопросах культуры, но был вхож куда надо и притом умел делать деньги. Он был бизнесменом, откровенно полагая, что зарабатывание денег и интересное чтение могут и не иметь между собой ничего общего. Зато я умел делать хороший журнал, знал, где и что для этого надо взять, но это, как говорится, совсем другая профессия. Забавно, что, приведя Гущина к власти, крепкие ребята позже пробовали посылать его в разные страны, по моим следам, пробовали внедрять его туда, куда я был вхож, хотели оседлать добрую огоньковскую репутацию. Ничего из этого не вышло. Как говаривал один немецкий философ в униформе: «Каждому – свое!»
Бывало очень тревожно. По ночам начал названивать телефон, и мне настойчиво советовали не вмешиваться в чужие дела; новая жизнь накатывала немилосердно. Человеческие умения входили в моду и выходили из моды, но чиновники были нужны всегда. Мой заместитель был победоносной серой мышкой на все времена, обладая универсальными умениями, применимыми где угодно. Юмашев был посложнее, все-таки журналист, человек творческий, почти что член семьи Ельцина. Он дружил с его дочерью Татьяной (Коржаков непочтительно высказывался на эту тему, но кто же ему поверит) и писал книги Борису Николаевичу. Еще в «Огоньке» отладилась система продажи этих рукописей за рубеж через лондонского литературного агента Эндрю Нюрнберга. Юмашев откровенно гордился: «Да, я служу Ельцину и устраиваю его дела!» Он очень дополнял своего друга Гущина, становясь как бы звеном между чиновниками и журналистами, потому что умудрялся одновременно быть тем и другим. Это было знамение времени. Новая пресса, новые отношения приходили в жизнь, где слишком многое осталось как было. Серые мышки никуда не девались. Палеонтологи серьезно утверждают, что когда-то, после того как на Земле погибли все динозавры, надолго воцарились крысы с мышами, мелкие грызуны – они никогда не исчезали на этой планете и, по-моему, не исчезнут.
…Прошло несколько лет, и Гущин решил удивить меня, пригласив на банкет по случаю своего дня рождения в ресторан Дома журналистов. Гостей он представлял, начиная не с имен, а с должностей: «Это зампредседателя Совета министров, это министр печати, а это вот еще один министр…» Я министров на семейные праздники никогда не сзывал, потому что моя жизнь устроена по-другому. Мне этого не нужно. Ему, Гущину, это было необходимо, так как чиновники не существуют вне своих связей, у них групповая ценность важнее всего.
А тем временем мне шли приглашения из разных стран, больше всего из Америки. За океаном уже в основном пересажали самых вороватых чиновников и стали усердно исследовать, как можно делать прессу в условиях законности. На год я взял стипендию для изучения всех этих дел в Колумбийском университете Нью-Йорка, а затем уже начал изучать предложения о постоянной работе. Первыми пришли приглашения из калифорнийских университетов, затем из университета штата Мичиган, но всего на семестр, затем из Бард-колледжа под Нью-Йорком, на два года. Затем из Бостона – на год. Это было то, чего я хотел: остановиться, оглянуться, подумать. Завершая переговоры в Америке, я, как капитулирующий генерал, сдал Гущину и Юмашеву знамя и печати журнала. В Бостоне меня приняли очень радостно, я придумывал, что именно буду преподавать, но на прощание хотел еще сделать для «Огонька» интервью с президентом Тайваня (играло роль и то, что меня давно туда приглашали, и то, что в нашем МИДе слышать про такое интервью не хотели, боялись окрика из Пекина). В общем, с начала сентября начинался учебный год, а на 19 августа 1991 года у меня был билет из Нью-Йорка в Тайбей, столицу Тайваня, на 20 августа было назначено само интервью. Но позвонила Лариса Сильницкая с радио «Свобода» и сообщила, что в Москве произошел путч. Все Тайвани отпали сразу же. Лететь в Москву? Зачем? Если путч серьезный, меня взяли бы прямо в аэропорту, если несерьезный, то тем более незачем ехать. Многие известные либералы – Каспаров, Старовойтова, Афанасьев – были в это время по заграницам и тоже не поспешили домой. Прилетел в Москву Ростропович, который никогда и никем не будет арестован, кроме правительства самоубийц. Кто тронет музыканта такого уровня?
Путч помог мне: он был как водораздел, я легко смог объяснить в журнале, почему не возвращусь работать. Мы созвонились с Гущиным и подтвердили прежние договоренности. По факсу я послал письмо с просьбой разрешить мне уйти. Гущин скоренько провел собрание, где узаконил свое редакторство (понятное дело, он был единственным кандидатом). Журнал напечатал благодарственное письмо в мой адрес с перечислением всех заслуг и до сих пор на всех титульных страницах печатает мою фамилию. Спасибо. Повыступав в дни путча по всем американским радио- и телеканалам, я через несколько дней ненадолго возвратился в Москву, где «Огонек» устроил роскошный ресторанный бал в мою честь. Спасибо. В редакционном сейфе я все же оставил неподписанный приказ о строгом выговоре Гущину с длинным перечислением его грехов. Он прочел, но ничего не сказал – многие прежние грехи шли теперь за достоинства.
Как-то очень быстро журнал обрушился. Лучшие из сотрудников были по-прежнему на виду, но вне «Огонька». Дмитрий Бирюков контролировал издание «Итогов», во многом занявших прежнюю огоньковскую нишу. Артем Боровик цвел со своим «Совершенно секретно».
Гущин угробил «Огонек» в рекордные сроки. Вначале он уменьшил формат – можно было не мучиться с огромными репродукциями. Затем растерял автуру. Зато вскоре каждый номер журнала открывался его, Гущина, портретом, да все в разных костюмах, да все в разных галстуках… Такое я видел только в американских универмагах, где иногда вывешивают при входе портрет главного менеджера. Вскоре аналитических материалов в «Огоньке» стало еще меньше – всю центральную часть, самую важную когда-то, готовившуюся загодя, надолго заняли телепрограммы, которых навалом в любой газете. Тираж скукожился до нескольких десятков тысяч, журнал почти не читали, во всяком случае – те, кто за него дрался еще вчера. Когда «Огоньком» завладел Борис Березовский, он подумал-подумал и расстался с Гущиным. Но тот не пропал, универсальные чиновники нужны всегда, он еще пригодится, он еще что-нибудь угробит… Юмашев же растворился в верхних слоях чиновничьей атмосферы, окончательно уйдя в семью президента, поруководил ельцинской администрацией, затем отыскал себе место как бы в ней, но и вне ее. Жизнь продолжается!
Заметки для памяти
4 февраля 1990 года мы собрались на митинг. Толпа была огромна, и ее лозунги были возвышенно прекрасны – за демократию, против партийных консерваторов во главе с Егором Лигачевым, против антисемитского погрома, устроенного «Памятью» в Союзе писателей за несколько дней до этого.
Вместе с либеральным экономистом Гавриилом Поповым, который вскоре станет мэром Москвы, и с недавним диссидентом, завтрашним депутатом, священником Глебом Якуниным мы взялись за руки в первом ряду.
– Понимаешь, – сказал мне Попов, – на такой митинг нетрудно собрать и полмиллиона, но даже тридцать либералов не удается сплотить в действующую организацию, которая будет не митинговать, а работать. Разговариваем, разговариваем, а действуют те же чиновники, что и раньше…
На митинге я выступил первым. Ах, как это было красиво!
– Сегодня умер страх, – сказал я. – Мы не боимся их больше! Из людоедской чиновничьей системы вынут каркас, который ее и держал! Она уже качается, как студень, ей делают подпорки из нового страха. Мы с вами стали главной силой в нашей стране. Мы уже не запуганы, и по этому нас трудно убить…
Говорил я все это и глядел, как покачивается огромная толпа на морозе. Позже писали, что было там тысяч триста народу. В первом ряду покачивалась женщина с ребенком на руках. Зачем она здесь? Вдохновляет сына на будущее?
Мы очень красиво говорили, а я помнил, как Гавриил Попов перед митингом сетовал, что разговоры разговорами, а вот некто, подлый и деятельный, сунет бомбу в одну из урн на Манежной площади. Один взрыв, один толчок – и толпа, лишенная страха, но не обретшая ни организаторов, ни истинной цели, слепо хлынет вперед, и снова запахнет семнадцатым годом, потому что непременно найдется негодяй, который именно в эту минуту выйдет вперед и, без сомнений и колебаний, поведет толпу, куда ему надо…
Глава 3
Сдвинулись и смешались пласты событий. Прошлое время компактно, оно завершилось, оно ТАМ, вместе с людьми, оставшимися в прошлом, вместе со мной – тогдашним. Будущего еще нет. С начала лета 1991 года я хорошо понимал, что сдвинулись и наползают друг на друга пласты времен, формируя совершенно новое время и другую страну. Я ждал этого, зная, что процесс формирования новых отношений и грядущих времен почти непредсказуем. К тому же мы оказались перед новым витком ненависти, потому что любой серьезный поворот в жизни нашего общества всегда связан с поисками неприятелей, искоренением врагов, сживанием их со света, а затем – с их оплакиванием и с проклятиями в адрес тех, кто наубивал столько невинных…
Целый период моей жизни, начатый хрущевским 1956 годом и закончившийся горбачевским 1991-м, иссяк. Тридцать пять лет. Когда-то Роберт Рождественский посвятил мне стихи, где он повторяет как заклинание: «Я жил в это время, жил в это время. В это, и ни в какое другое». Мне пришлось быть в жизни врачом, путешественником, писателем, редактором; я писал книги на трех языках – русском, украинском, английском. Я бывал безработным, редактировал журналы, заседал в парламентах дома и профессорствовал за океаном. Все это было, и все это закончилось. С чего же начать рассказ? Пожалуй, с ненависти, которой в нашей жизни бывало больше всего и которая труднее всего одолевается…
В начале 1989 года общество «Память» разгоняло мой предвыборный митинг в московском дворце культуры «Правда». Мордатые молчаливые ребята пришли загодя и заняли первые ряды на балконе и в партере. Чуть я заговорил, они вскочили с мест, заорали, замахали плакатами, где желтели жирно перечеркнутые шестиконечные звезды и лозунги вроде «Коротич – новоявленный Гольдштюккер!». Организаторы моего митинга сникли в этом реве; не могу их строго судить – обычные люди, не умеющие общаться с погромщиками. Позже я увидел американский фильм, снятый Даном Разером для компании CBS, там были эти кадры, оказывается, митинг снимали для кинохроники. Громче всех в «Правде» орал похожий на тумбочку коротышка с двойной фамилией Смирнов-Осташвили (позже он еще больше прославится, разогнав собрание нашей писательской ассоциации «Апрель» в московском Доме литераторов, получит за это небольшой лагерный срок и закончит свои дни в удавке у тюремного унитаза). Осташвили, невзирая на фамилию, числился в «Памяти» породистым русским и выше всех подымал плакат про Гольдштюккера. «Вот и фашисты», – подумал я. Причем точно как у тех – мордатые штурмовики и выродки-начальники. Один с бородкой, маленький – ну прямо-таки спившийся Геббельс. Даже хромал. Я попросил знакомых репортеров поспрашивать у крикунов, кто такой Гольдштюккер. Плакатоносцы ничего о нем не знали, палки с лозунгами им выдавали прямо у входа. А я знал, я видел Гольдштюккера, даже немного поговорил с ним осенью 1968 года в Лондоне. Это была тоже осень ненависти, в которую влетали осколки разбитой советскими танками Пражской весны. Гольдштюккер тогда был председателем Союза писателей Чехословакии. Поздней осенью 1968 года автоматчики разогнали этих писателей и вскоре набрали новых из классово надежных рабочих пражских заводов. Кто помнил об этом через двадцать с лишним лет? Кто знал, что я виделся с Гольдштюккером? Кто готовил плакаты?
Забавно обобщать такое, но я ударялся об антисемитские дубины во время большинства политических штормов своей жизни. У нас это не национальность, а общественный статус. Не интересуясь моим истинным происхождением, меня возводили в евреи всякий раз, когда хотели унизить. Я никогда не спорил и до сих пор убежден, что, когда угрожают евреям, интеллигент обязан чувствовать себя евреем, а когда на пекинской площади расстреливают китайских студентов, надо быть китайцем, какой бы национальностью Бог ни наградил тебя на самом деле.
Это долгая история. Национальности в нашем отечестве были придуманы в начале тридцатых годов при всеобщей паспортизации; при царе учитывалось лишь вероисповедание, а национальность, как в большинстве цивилизованных стран сегодня, совпадала с государственной принадлежностью. В Америке живут американцы, в России – россияне, во Франции – французы. А затем уже они ходят в какие им удобнее церкви и культурные центры. У нас же и в этом все было наперекосяк, в частности – для меня. Профессиональные украинские суперпатриоты обвиняли меня в русофильстве, а профессиональные русские – в хохломании. Время от времени на двери моей московской квартиры для разнообразия клеили бумажки с шестиконечными желтыми звездами. Помню, в московском киноконцертном зале «Октябрь» на Новом Арбате мне прислали на сцену целый плакат: жирно начертанную звезду Давида, в центре которой торчало нечто, смахивающее на мужской половой орган. «Вот тебе член дохлого раввина, Коротич!» – гласил текст. Я встал, подошел к рампе и показал присланное произведение залу. Там загудели. Тогда я предложил, чтобы негодяй, изобразивший все это, вышел на сцену; никто, конечно, не отозвался. Хорошо, что не было в зале подонка вроде генерала Макашова, над которым мы всласть посмеялись в «Огоньке», – этот вышел и объяснил бы, зачем надо бить жидов…
Назавтра письмо пришло уже в редакцию: «Недолго тебе осталось поганить русскую землю!» Людмила Станкевич, заведующая огоньковской канцелярией, переслала, как обычно, это письмо в милицию. КГБ принимал к рассмотрению лишь угрозы руководителям партии и правительства, а я не принадлежал к таковым. Милиция вообще не реагировала на подметные письма.
Окружающая ненависть, бывало, разливалась черными океанами, но жизнь моя никогда не захлебывалась в ней. После каждого сообщения об угрозах мне или журналу редакцию и меня заваливали письмами солидарности. Когда перед моим выступлением на XIX Всесоюзной партконференции грузовик врезался в мою машину, ветераны-афганцы установили патруль по охране редакции. А перед этим я выступал в клубах с безногими нашими вертолетчиками, покалеченными в Афганистане; они рассказывали о своей беззащитности и пели о друзьях, не возвратившихся из неправого боя. Однажды Горбачев спросил: «Это у тебя там работает ансамбль песни и пляски из афганских ветеранов? Министерство обороны недовольно. Не раскачивай лодку…» На том и кончилось.
Безразличных не было. Произнеся имя «Огонька», можно было встретить верного друга или получить палкой по голове. Правительство держало нас в черном теле: зарплаты были нищенскими, в несколько раз ниже, чем в бездарной газете «Правда». Но когда я написал в «Огоньке» об этом, нас завалили денежными переводами; я не знал, что с ними делать. На большинстве переводов были приписки вроде: «Посылаю сколько могу. Я с вами. Держитесь, ребята!» Количество писем росло лавинообразно, в иные дни их приходило по тысяче. Нас любили! Но и ненависть была лютой. Подонки всегда держатся кучнее, чем порядочные люди, да и по самой логике советского общества в нем легче ненавидеть, чем любить.
Со мной, с журналом, как правило, не спорили – нас норовили ударить. Журнал «Москва» опубликовал статью какого-то неведомого мне татарина, из которой следовало, что я разбойник и отщепенец; все сводилось к базарному уровню – ругань без аргументов.
В 1987 году однажды встал вопрос о моей работе послом СССР в ЮНЕСКО, и, отказываясь, я добавил вполне искренне: «Если уж посылать меня – то исключительно в страну, с которой у нас самые ужасные отношения или вовсе их нет. Я лучше всего натренирован работать во враждебном окружении…» Кроме того, работа среди недоброжелателей очень дисциплинирует. Они ведь, когда понадобилось, засели дотошно изучать мое прошлое, выволакивали оттуда усатых украинских крестьян по отцовской линии и родовитых русских дворян по материнской, я по такому случаю тоже много нового узнал про свой род. В Киев, город моей молодости, ездили целые экспедиции, выспрашивавшие всех, кто что-то обо мне знал. В итоге отыскали мою одну-единственную опубликованную рецензию на военные мемуары Брежнева, но в партархиве нашлась и моя телеграмма в ЦК, запрещающая публиковать эту рецензию, поскольку старательная редакция повписывала в рецензию от себя множество верноподданических вставок. Так что и это лопнуло.
Здесь я хочу выделить одну крайне важную мысль: пачкаться вовсе не обязательно. Даже при советской власти. Даже самый репрессивный режим не может сделать негодяем того человека, который этому режиму неподвластен. Надо научиться отвечать за собственные поступки, иначе у тебя не появится права оценивать чужие дела. А будущее? Один из вариантов его описал мне молодой поэт из украинского города Николаева Дмитро Креминь (в дальнейшем он хорошо работал и в 1999 году получил украинскую Государственную премию за свои стихи): «Мы вас не забудем. Когда все возвратится как было, а «Огонек» конфискуют и он попадет в спецфонды закрытых хранилищ, мы сохраним собственные подшивки и будем их перечитывать».
К человеку, говорящему правду, отношение в народе традиционно сочувственное, но далеко не влюбленное. Куда охотнее на Руси прощают проштрафившихся жуликов, чем неумеренных правдолюбов. К уголовникам-каторжанам во все времена относились добродушнее, чем к разным там декабристам. Народ любит тех, кто в нем растворен и ему понятен. Не могу избавиться от ощущения, что к вождям так называемого путча ГКЧП в августе 1991-го отношение в массах стало постепенно куда более сочувственным, чем бывало оно к академику Сахарову. Это историческая традиция, и для прогнозирования политического процесса очень важно понять, с кем народ себя идентифицирует. Один из главных корней горбачевской трагедии в том, что Ельцин был куда понятнее для так называемых «простых людей» и куда легче отождествлялся с ними, чем бывший генсек.
Я возвращаюсь памятью в тот самый 1968 год, ко времени Пражской весны. Начальство дрогнуло и лихорадочно начало сортировать родимую интеллигенцию, выясняя, кто есть кто. Тогдашний украинский партийный вождь Петр Шелест включил меня в реестр украинских деятелей культуры, которых он решил пригласить к себе на дачу для обеда и душевного разговора. Член всемогущего политбюро, главный правитель Украины, он был мужиковатым дядькой хрущевского типа, который умел пошутить за столом, спеть, сказать тост. Но все это без намека на разногласия с родимой чиновничьей советской системой, которой Шелест и по обязанности, и по убеждению был предан. В дальнейшем он пострадал за книгу с перебором национальных чувств, сочиненную его помощниками, подставившими своего шефа, и был переведен на работу в Москву. Но в 1968 году он еще был в фаворе, и Олесю Гончару, Павлу Загребельному, Миколе Зарудному, мне, еще нескольким украинским писателям было велено прибыть на катер, стоящий у такого-то причала. К десяти утра мы собрались, уславливаясь, о чем будем просить всемогущего Шелеста; кроме прочего, такая встреча давала шанс чего-нибудь раздобыть для дела.
Итак, в десять утра мы сидели на катере, а Шелеста не было ни в одиннадцать, ни в полдень. Охранники угощали нас чаем, предлагали коньяк; они были невозмутимы и отсутствием хозяина не смущались.
В половине первого прибыл Шелест, усталый, угрюмый, озабоченный. Оглядел нас и простецки этак сказал: «Простите, но всю ночь и утро я был занят, пропуская танки; я отвечал за их проход через карпатские перевалы». – «Куда?» – спросил Гончар, сражавшийся там в прошлую войну. «На Прагу, – удивленный тем, что кому-то что-то еще не ясно, ответил Шелест. – Надо было этого ожидать. Народ нас поддержит…»
Обед был испорчен.
Простите меня, семеро смелых, вышедшие на Красную площадь с протестом против вторжения. Прости меня, собственная моя судьба, что я не заорал тогда, не плюнул в Шелеста, не укусил его, не восстал. Простите меня, переводчики моих книг на чешский и словацкий языки, – все было именно так. Книга эта об уроках, я всю жизнь учился и старался усваивать все, что жизнь хотела мне преподать. Многое пошло на пользу.
Уроки жизни очень разнообразны, главное – услышать и усвоить их вовремя. Вспомню в связи с этим еще одну историю, смахивающую на притчу.
Жила-была в Москве, веселя и раздражая окружающих, одна из старейших советских писательниц, русифицированная армянка Мариэтта Шагинян. Она была совершенно глухой и везде появлялась только с коробочкой микрофона, с усилителями и проводками, тянущимися от коробочки к уху. Разговаривая, она обращала микрофон к собеседнику и время от времени, как все глухие, неартикулированно произносила несколько фраз. Однажды мы с ней заспорили в Ялте. Изложив свои аргументы, Шагинян отвела микрофон в сторону от меня. «Я вас не слышу, – сказала она. – Я отключилась».
Мы жили в очень недоброй чиновничьей стране, она слушала нас только тогда, когда хотела. Эта система воспитывала и воспитала особенный тип людей, которым она пела специально сочиненные для них песни, читала книги, написанные для них же, показывала отобранные для них фильмы и представления. Чиновничья система понимала, что она сможет достигать нужных себе результатов лишь до тех пор, пока мы отделены от человечества. Когда к нам начало проникать то, чего система особенно боялась и что зовется общечеловеческими ценностями, произошел обвал. Обвал этот задел всех сразу и каждого в отдельности. Обо всем этом и пойдет речь.
Заметки для памяти
Летом 1990 года я оказался в Иерусалиме. Была православная Троица, иудеи звали этот праздник Пятидесятницей. В 1990 году редкостным образом и для католиков праздник пришелся на тот же день.
Было нас шестеро: президент могучей американской финансовой компании по имени Билл, влиятельный адвокат из Индии по имени Рам, профессор университета из города Хайфа по имени Зиг, католическая монашка, она же доктор философии из Нью-Йорка по имени Кэрол, президент колледжа из американского штата Коннектикут по имени Клер. Шестым был я. Собственно говоря, был еще и седьмой – француз, католический священник, облаченный в нечто бело-красное с капюшоном. Священник занимался своим делом, он служил мессу, поэтому я его не считаю – священник работал.
Мы сидели в ряд на скамье перед алтарем, а священник читал нараспев по-французски, по-английски, по-древнееврейски и по-латыни. Он говорил нам о любви и ответственности, потому что это был праздник в честь дня, когда на апостолов снизошел Святой Дух. Люди разных вер и национальностей, мы держались за руки, молясь – каждый по-своему – и искренне надеясь на лучшее. Мы отпили вина из общей чаши, произнесли вечное слово «аминь». Ничего особенного, так и должно быть. Сидели разные люди, объединенные общей молитвой.
Дело было в Иерусалиме, на Троицу, 6 июня 1990 года. Возвратившись в гостиницу, я записал все это, пытаясь сохранить настроение. Я просил у Бога силы и вдохновения, чтобы написать эту книгу.
- Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски
- Дорога в прошедшем времени
- Памятное. Испытание временем. Книга 2
- Памятное. Новые горизонты. Книга 1
- Встречи на перекрестках
- Овертайм. Воспоминания. О хоккее и не только…
- Во имя победы
- Человек системы
- Как я был телевизионным камикадзе
- Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962–1986 гг.
- Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания
- Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача
- Рука Москвы. Записки начальника внешней разведки
- Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС
- Друзей моих прекрасные черты. Воспоминания
- Солдат. Политик. Дипломат. Воспоминания об очень разном
- Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
- Через годы и расстояния. История одной семьи
- Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя
- Раны заживают медленно. Записки штабного офицера
- Причуды памяти
- Непримкнувший. Воспоминания
- XX век как жизнь. Воспоминания
- Предсказание
- Реальность и мечта
- На виртуальном ветру
- От первого лица
- Личное дело.Три дня и вся жизнь
- Как много событий вмещает жизнь
- Заложник времени. Заметки. Размышления. Свидетельства
- Записки командующего фронтом
- Дальняя бомбардировочная… Воспоминания Главного маршала авиации. 1941—1945
- Через три войны. Воспоминания командующего Южным и Закавказским фронтами. 1941—1945
- А было это так… Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС
- О времени, стране и о себе. Первый секретарь МГК КПСС вспоминает
- От Сталинграда до Берлина. Воспоминания командующего
- Мои воспоминания. Маршал Советского Союза о великой эпохе
- Неповторимое. Том 1
- Неповторимое. Том 2
- Неповторимое. Том 3
- В водовороте века. Записки политика и дипломата