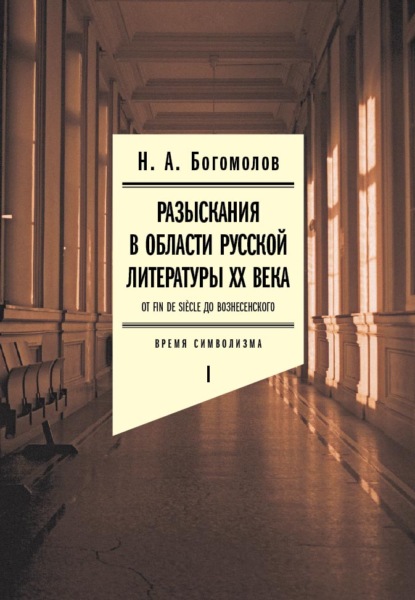Разыскания в области русской литературы ХХ века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 1: Время символизма

000
ОтложитьЧитал

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЯМ
Зачем и кому нужны такие тома? Понятно, что они тешат самолюбие автора. А вот читателям, которые должны будут заплатить деньги за них? Да даже и тем, кто получит каким-либо способом бесплатно?
Несколько раз на протяжении двухтомника приходилось комментировать слова В.В. Розанова: «Я – бездарен; да тема-то моя талантливая». В данном случае вместо «темы» надо подставить слово «материал».
Так получилось, что в связи с разными переменами последнего десятилетия мне приходилось печататься по большей части в труднодостижимых изданиях по всему миру: в Италии, Франции, США, Канаде, Австрии, Германии, Нидерландах, Армении, Эстонии, даже в ЮАР, даже на Украине. Но и то, что было напечатано в России, часто оказывалось недоступным или почти недоступным. А среди напечатанного – стихи, проза, письма тех авторов, которые приносили и приносят славу русской литературе. Среди персонажей этой книги Лев Толстой и Иван Бунин, Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус и Федор Сологуб, Михаил Кузмин и Борис Пастернак, Алексей Крученых и Андрей Вознесенский, не говоря уже о менее знаменитых.
Но есть у этих двух томов, как я надеюсь, и другая сторона. Примерно 50 лет назад, когда я понял, что пушкинистом стать мне не по силам, и переключился на литературу более позднего времени, была иллюзия легкости этой специализации. Конечно, отвратительные советские конструкции многое загромождали, но жила надежда дойти до того времени, когда воссоединится насильственно разрубленная литература, издания из Парижа, Мюнхена, Вашингтона станут доступны, и вот тогда-то можно будет по-настоящему свободно писать о видных уже сейчас проблемах. Но как печально шутил Ильф: «Вот радио есть, а счастья нет». Выяснилось, что все не так просто. У нас до сих пор нет достойных собраний сочинений Блока, Брюсова, Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Вяч. Иванова, Гумилева, Ахматовой, Ходасевича, Кузмина, Маяковского, даже Горький не закончен. А за этим маячит и другая задача: создать систему литературных хроник всякого рода и летописей жизни и творчества самых разных писателей, чтобы они давали нам панораму событий с точностью не до года, как мы привыкли, а до дней, иногда до часов.
Читатели моей книги столкнутся с тем, что в ряде случаев приходится признаваться, что ничего не знаешь о судьбе своего персонажа, чем-то очень характерного, или знаешь слишком мало, или знаешь с провалами. Но вместе с тем понимаешь, что дело не безнадежно. Первое издание «Трудов и дней Пушкина», составленное Н.О. Лернером, было несравненно выше всех предшествующих попыток; но через 7 лет он выпустил второе, фактически сделавшее первое ненужным. А доведи работу над третьим до конца, и второе было бы отменено. Лакуны заполняются: отыскиваются новые факты, по-иному, точнее читаются известные документы, интерпретаторы становятся все исхищреннее. Конечно, помогает интернет – но далеко не только он. Не случайно в заглавии двухтомника стоит слово «разыскания». Я и, разумеется, не только я, ищем то, что скрыто временем, обманчивой традицией, опасениями разного толка. Отыскиваются забытые бумаги, строчки газетной хроники, на которые прежде не обращали внимания, скучные официальные документы, да хоть счета из прачечной. Найденное сплетается в причудливую корневую систему, из которой прорастают новые представления о литературных отношениях. В моем представлении только так можно понять суть литературы, далеко не исчерпывающуюся давно известным.
Приращение нашего знания достигается и новыми фактами, и новыми прочтениями, и новыми концепциями, если только они не сводятся (если продолжить метафору) к превращению живого ветвящегося дерева в кучку иссохшего хвороста. Хочется надеяться, что совместные прогулки по зеленеющему, цветущему, плодоносящему саду русской литературы не будут скучными и бесполезными.
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ И ПОСЛЕДНИЙ СПУТНИК
Сергея Ауслендера нельзя отнести к категории совсем забытых писателей, хотя переиздание его «взрослой» прозы1 сенсацией не стало, и количество научных работ о нем невелико2, причем в последнее время они более всего посвящены его творчеству сибирского периода. Едва ли не единственной концептуальной работой, помимо предисловия А.М. Грачевой к названному выше изданию, остается и по сей день статья З.Г. Минц «К изучению периода ”кризиса символизма” (1907–1910)»3, где раннее творчество Ауслендера вписано в контекст зарождения постсимволизма. Однако, как нам представляется, его произведения заслуживают и специального изучения, дающего возможность несколько иначе оценить и перспективу, в которой они должны восприниматься.
Но сначала – несколько слов об авторе и его сочинениях, поскольку, видимо, далеко не всем читателям он в достаточной мере знаком.
Сергей Абрамович Ауслендер родился в 1886 году, то есть принадлежал к поколению Гумилева и Ходасевича, был их точным ровесником. Однако чаще всего он определялся как автор круга Михаила Кузмина, что в первую очередь было вызвано родственными связями: он был старшим сыном сестры Кузмина. Впрочем, дядя и племянник входили в литературу почти одновременно: первая публикация Кузмина состоялась в сборнике, на титульном листе которого стоял 1905 год, тогда же стал печататься в мелких студенческих и школьных журналах и Ауслендер. В 1906 году оба они дебютировали в «Весах», а в 1908 вышла первая книга стихов Кузмина «Сети» и первая книга рассказов Ауслендера «Золотые яблоки». В 1912 году у него появляется сборник «Рассказы. Книга II», в 1913 – тот роман, о котором у нас далее пойдет речь, в 1916 книга рассказов «Сердце воина». Однако литературная репутация Ауслендера была далеко не столь высокой, как у его дяди. Серьезные издания печатали его произведения несравненно реже, реже появлялись и книги, а рецензии были сдержанными, если не вовсе отрицательными. И хотя он был автором «Весов» и «Золотого руна», входил в молодую редакцию «Аполлона», был его обозревателем (преимущественно театральным), постоянным сотрудником почтенной газеты «Речь», популярным драматургом, – все же прославиться ему явно не удалось.
После октябрьской революции он перебирается сначала в Москву, а потом дальше на восток – в Екатеринбург и в Омск, где становится военным корреспондентом, близким к адмиралу Колчаку. В местных газетах он печатает многочисленные статьи и роман «Видения жизни», по всей видимости, не оконченный. После отступления белой армии он остается около Омска, какое-то время живет без документов (очевидно, пытаясь избежать преследований), работает воспитателем в детском доме в сибирской деревне и только в 1922 году, поверив в нэп, возвращается в Москву. Тут он довольно активно печатал прозу, преимущественно для детей и юношества, и работал в Театре юного зрителя, стал даже почетным пионером. В 1937 году был арестован и тогда же расстрелян, хотя долгие годы датой смерти значился 1943, как стояло в справке, выданной родственникам.
Традиционно Ауслендер считается искусным стилизатором, против чего нам уже приходилось выступать. Опорой для нашего суждения была статья родственника писателя, брата его жены, мемуариста и критика Е.А. Зноско-Боровского. Напомним его слова: «С первых же литературных опытов он попал на свою полочку, и на него был нацеплен ярлык, относивший его к числу “стилизаторов”, так что долго спустя на его долю приходились все выпады и насмешки, которые предназначались им. А этот “стилизатор” Франции XVIII в. и ее революции даже не владел французским языком: стилизация его оказывалась, таким образом, из вторых рук. Но за нею скрывалась та большая работа, которая производилась молодым писателем над русской прозой и которая позволила ему постепенно создать свой собственный язык, лишенный, правда, силы и мужественности, но очень четкий, с превосходно построенными фразами, находчивой расстановкой слов и необычайно выпуклыми зрительными образами. Приходится сознаться, что русская проза, отягощенная психологическими и религиозными проблемами, в значительной степени перестала интересовать многих наших писателей сама по себе, своими законами и свойствами. Чистота и живописность Пушкина и Лермонтова почти утрачены. И как поэты конца XIX и начала XX вв. вернули стиху его самоценность, то же самое должно быть сделано и в отношении прозы. Сергей Ауслендер был один из тех, кто сознал эту задачу и своим путем шел к ее разрешению. Приверженность к XVIII и первым десятилетиям XIX в. указала ему время, где искать образцов. Но по мере того, как он уходил от этой эпохи в своих произведениях, его слог терял архаическую жеманность и манерность, сохраняя, однако, все черты безупречного строения и отчетливой изобразительности. А эти черты были необходимы писателю по самому характеру его творчества»4. Тем более это касается его романа «Последний спутник», так как в нем наименее отчетливо представлена «стилизационная» линия творчества Ауслендера.
Сюжет романа прост. В Москву из провинции приезжает молодой художник Гавриилов, вызванный редактором большого модернистского журнала Полуярковым. Но их личная встреча оборачивается разочарованием: Полуярков отказывается покупать картину Гавриилова, и тот собирается уехать. В этот момент происходит роковое событие: на Гавриилова обращает внимание любовница Полуяркова Юлия Михайловна Агатова. Во время их встречи наедине с почти неизбежным последующим сближением Гавриилов теряет сознание, несколько дней проводит у Агатовой, но все же покидает ее и, навестив родительский дом в деревне, перебирается в Петербург, где оказывается в центре богемной жизни. Через некоторое время к нему приезжает Агатова, но лишь мешает ему в вихре различных дел. Однако они уславливаются о совместном путешествии в Италию, где и происходит наконец-то их сближение телесное, но душевно они расходятся все дальше и дальше. По возвращении в Петербург, узнав, что Гавриилов перебирается жить в дом профессора Ивякова, с дочерью которого у него явно начинается роман, Агатова кончает с собой.
Роман был бы крайне незатейлив, если бы не очевидная прототипичность его героев. С радостью посвященные современники и позднейшие исследователи узнавали в Полуяркове Валерия Брюсова, в Агатовой – его многолетнюю пассию Нину Петровскую, в профессоре Ивякове и его детях – Вячеслава Иванова, В.К. и С.К. Шварсалонов, в композиторе Юнонове – дядю автора, поэта и композитора Михаила Кузмина. А за Гаврииловым явственно просматривался сам Сергей Ауслендер, только переменивший род деятельности – вместо литератора ставший художником.
Не слишком затруднительно и приблизительное хронологическое отождествление московской и петербургской реальности с описаниями в романе: первая известность пришла к Ауслендеру в 1906 году, персонаж по имени Эдинька (в романе – тоже Эдинька или Эдуард Семенович) присутствует в дневнике М.А. Кузмина в конце 1906 и начале 1907 года.
Это делает яснее и сюжет. Ауслендер познакомился с Петровской во время визита в Москву летом 1907 года; ему была посвящена вышедшая в том же году книга рассказов Петровской «Sanctus Amor» (а он, в свою очередь, посвятил Петровской рассказ «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», впервые напечатанный в 11-м номере «Весов» за тот же 1907 год). Осенью 1907 года Петровская приезжала к Ауслендеру в Петербург, а весной 1908 они вместе уехали в Италию, где провели довольно долгое время, но после путешествия окончательно расстались.
Уже сразу по возвращении Ауслендер собрался писать роман. 7 мая 1908 года он сообщал Г.И. Чулкову: «Наконец весьма удачно и успешно закончил свое путешествие, о многих приключениях которого внешних и внутренних пришлось бы написать целую книгу, о чем помышляю». Конкретизировался этот замысел по-разному. Так, 10 мая Ауслендер рассказывал в письме своему приятелю В.Ф. Нувелю: «Умилительно, пропутешествовав два месяца, ничего ни о ком не зная, вернуться наконец домой и найти все старые вещи на старых местах. <…> Путешествие пошло мне в явный прок: я сильно помолодел, пободрел и соскучился о Петербурге и друзьях, что тоже нужно ценить. <…> Мое “Итальянское путешествие” будет полно трогательных, изысканных и веселых приключений, некоторые главы его, вероятно, останутся только для друзей, так: о бане Тиберия и мальчиках Круппа на Капри (они будут заменены благочестивыми рассуждениями о М.Горьком, его голубых глазах, белой вилле и т.п.), а также мысли, пришедшие в тайной комнате Casa del Vetti в Помпеи». Поначалу роман двигался споро, и 18 июля Кузмин (живший тогда у сестры, где был и Ауслендер) записал в дневнике: «Сережа в письме к Тастевену пустил уже удочку насчет романа»5. Однако впоследствии возникли какие-то сложности, и под окончательным текстом стоит дата «Март 1913 года».
И надо сказать, что для этой литературной эпохи, пять лет спустя после реальных событий, роман должен был казаться анахронизмом, если видеть в нем лишь roman à clef. Все-таки такие произведения бывают замечены публикой лишь в тот конкретный момент, с которым они связаны. Так было, скажем, с повестями М. Кузмина «Картонный домик», «Двойной наперсник», «Покойница в доме», его же романом «Плавающие путешествующие», с комедией Л.Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел», рассказом Андрея Белого «Куст», с некоторыми произведениями А. Ремизова и других авторов того времени.
Как нам представляется, резон появления романа Ауслендера состоял в создании особой повествовательной структуры, основанной не только на прототипичности, но и на других элементах, из которых главным является сложная игра с характерами, ситуациями и мифологемами брюсовского «Огненного Ангела». Попробуем показать это на ряде примеров.
Прежде всего это относится к соотнесенности сюжетов двух романов и их наложению на реальную действительность. Как хорошо известно, «Огненный Ангел» сопрягает историческое повествование с прекрасно понятными современникам ситуациями из реальной жизни. Если представить себе сюжет романа в схематической форме, то он устроен как два сопрягающихся треугольника: Рената–Рупрехт–граф Генрих и Рупрехт–Рената–Агнесса, к чему добавляются две линии, не укладывающиеся в общий сюжет: Агриппы и Фауста. В жизни реальной второй треугольник и побочные линии отсутствовали, но первому треугольнику вполне соответствовал аналогичный – Петровская–Брюсов–Белый. Эту сюжетную общность дополняли и характеристики персонажей (о чем довольно написано С.С. Гречишкиным и А.В. Лавровым, а также З.Г. Минц6), открыто проецирующиеся на мифологизированную схему отношений между участниками жизненного треугольника: femme fatale Петровская, опытный, трудолюбивый и играющий роль великого мага Брюсов, солнечный организатор эзотерического общества аргонавтов, глубоко переживающий свое «падение с Ниной Ивановной», как сказано в его собственных дневниковых записях7, Андрей Белый, кающийся в этом падении.
Совершенно аналогичным образом построен и «Последний спутник». В нем также соединены два любовных треугольника: Агатова–Полуярков–Гавриилов и Агатова–Гавриилов–Тата Ивякова, и первому из них в реальном плане соответствовали отношения Петровской, Брюсова и самого Ауслендера, а второго треугольника, в точности как в «Огненном Ангеле», в действительности не существовало, равно как и побочных линий, о которых мы скажем позднее. Мало того, «Последний спутник» подхватывает и мифологические ходы «Огненного Ангела», хотя, естественно, несколько их трансформирует. Таков, например, диалог Агатовой с Полуярковым на бульваре: «Ты лжешь, когда говоришь, что уйдешь от меня. Куда? С кем?» – «С ним! С светлым избавителем!» – почти вскрикнула Агатова. – «С кем? С Гаврииловым?» (С. 67). Или творческая фантазия Полуяркова: «…он думал сквозь сон почему-то о вещей куртизанке, которую Симон-Волхв водил за собой по вертепам, храмам, городам, волям, проповедуя в ней вечную Елену. “Елена Енная”, – и почему-то, как-то странно соединенные в одно, и Юлия Михайловна Агатова, и Гавриилов представились ему» (С. 47). Тем самым он сам себя фактически называет магом. И, провожая Гавриилова, Юлия говорит ему: «Он (Полуярков. – Н.Б.) пишет поэму “Елена Енная, святая блудница”. Он хотел посвятить ее мне. Нет, нет, не он мой Симон, а ты. Ты уведешь меня к радостному спасению» (С. 70). Отметим в скобках, что странно звучащее «Енная» – по всей видимости, искажение малосведущим в истории мистики Ауслендером гностического термина «Эннойя», который значительно позже появится в стихах Михаила Кузмина (в близкой огласовке: «Еннойя»), а сюжет о Симоне-Маге станет основой его неоконченного романа «Римские чудеса».
Отказываясь от разработки мистических мотивов на переднем плане повествования, Ауслендер все-таки их воспринимает, уводя в подтекст и связывая с одним из героев. Но как раз внимательное отношение к героям повествования заставляет усомниться в том, что все в традиционной трактовке романа так уж правильно. Мы полагаем, что на деле роман далек от того, чтобы «представлять собой слегка закамуфлированную картину художественной жизни Москвы и Петербурга, данную в том освещении, в каком она предстала взору входившего в литературные круги Ауслендера» (С. 28–29). И дело даже не в том, что, как пишет А.М. Грачева, «все это составляет поверхностный слой художественной ткани романа» (С. 29). Суть, как нам представляется, состоит в принципиальной неоднозначности уже самой структуры соотнесения хорошо известной многим читателям художественной жизни Москвы и Петербурга с текстом романа.
Пожалуй, только два главных героя «Последнего спутника», Гавриилов и Агатова, уверенно проецируются на самого Ауслендера и Нину Петровскую (с лишением обоих каких бы то ни было знаков литераторства). О других стоит поразмышлять особо.
Так, есть большой соблазн поверить, что постоянный любовник Агатовой Ксенофонт Алексеевич Полуярков – действительно Валерий Яковлевич Брюсов, как об этом свидетельствует и сам сюжет романа, и многие внешние черты сходства персонажа с реальным человеком. Однако стоит посмотреть внимательнее, и без труда можно увидеть, что с самого начала автор дает нам понять – не все здесь так просто.
Отец Полуяркова – купец первой гильдии, тогда как Яков Кузьмич Брюсов – «Московский 2-й гильдии купеческий сын»8. Живет Полуярков в родительском доме «с мезонином и каменными службами на дворе» (С. 41) в вымышленном Николо-Подкопаевском переулке. Достаточно взглянуть на фотографию дома Брюсовых 1890-х годов9, чтобы увидать – ничего похожего. С утра герой романа молится: «…отдернул занавеску, скрывавшую в углу целый иконостас старого, прекрасного письма ликов, и стал молиться, шевеля богато расшитой лестовкой…» (С. 43). Уже этого описания довольно, чтобы понять: перед нами старообрядец, а не обычный православный, каким был Брюсов. У него светлые волосы (С. 51), тогда как Брюсов – определенно брюнет. Редакция журнала, в которой главенствует Полуярков, размещается в «небольшом чистеньком особнячке» (С. 51) «с видом на снежный бульвар» (С. 52), тогда как редакция «Весов», какой ее застал Ауслендер, находилась в роскошном и большом здании гостиницы «Метрополь» на пятом этаже. Описание ее, оставленное регулярным посетителем Б.А. Садовским10, конечно, имеет кое-что общее с неназванной редакцией из романа, но и разноречия достаточно велики.
Довольно легко понять, к чему мы клоним. Купцом первой гильдии был П.М. Рябушинский, живший в Малом Харитоньевском переулке, в доме, весьма внешне похожем на описанный в романе11. Все семейство Рябушинских принадлежало к белокриницкому согласию старообрядцев. Сын П.М. Рябушинского, Николай Павлович, издатель журнала «Золотое руно», описан в мемуарах так: «Николай Павлович похож был на доброго, молодого, незлобливого лесного бога Пана. Пышные, волнистые, русые волосы, голубые глаза…»12. Уже упоминавшийся ранее Б.А. Садовской вспоминал о журнале: «Дело было задумано широко. Под редакцию наняли особняк на Новинском бульваре. <…> По четвергам на вечерних приемах…»13. Конечно, мы далеки от того, чтобы представлять дело так, будто Полуярков списан с Рябушинского. Однако нельзя не видеть, что автор нарочито делает образ персонажа двоящимся, проецирующимся сразу на двух людей.
Добавим и еще одно рассуждение. В произведениях подобного типа авторы прибегают к различным способам шифровки личных имен. Для Кузмина, например, как это уже давно показали авторы статьи «Ахматова и Кузмин», на первый план выдвигались способы, основанные на смысловых подменах: в «Картонном домике» Сомов становился Налимовым, Павлик Маслов – Павликом Сметаниным, Ольга Глебова (впоследствии Глебова-Судейкина) – Еленой Борисовой, и так далее14. Ауслендер пошел по другому пути. С одной стороны, он явно семантизирует большинство фамилий, но без прямой связи с этимологией фамилий прототипов: Гавриилов отчетливо связывается с именем архангела (еще один намек на брюсовский роман), Полуярков происходит от довольно редкого слова «полуярка» – молодая волчица, еще не приносившая щенков, Юнонов явно берет происхождение от «Юнониной птицы», павлина. Но существеннее, как кажется, ритмическое строение фамилий. В статье «Парижский альбом. V» Владислав Ходасевич писал: «Условные имена Делии, Хлои, Темиры, Лилеты и т.д. употреблялись только в стихах, как псевдонимы, заменяющие действительные имена возлюбленных. Эти псевдонимы обычно состояли из стольких же слогов, как и настоящие, скрытые имена, и несли ударение на том же слоге. Так, Темира могла заменять, например, Надежду, Хлоя – Анну и т.д.»15. Нечто подобное проделывает и Ауслендер. В подавляющем большинстве случаев фамилии, а нередко и имена героев состоят из такого числа слогов с ударениями на том же месте, что и в фамилиях прототипов: Гавриилов – Ауслендер, Агатова – Петровская, Александр Ивяков – Вячеслав Иванов, его дети Тата и Мика – Вера и Костя. Даже совершенно эпизодический персонаж, описанный так: «…молодой человек, одетый в лиловатый с полосками пиджак, изысканно причесанный по-английски пробором, сморщенным, потасканным лицом напоминающий живой лимбургский сыр» (С. 48), назван Кикой, что вполне соответствует уменьшительному имени друга и конфидента Петровской Ходасевича – Владя. Единственный, кто наименован по другому принципу, – Юнонов-Кузмин. Но Ксенофонт Полуярков совсем не напоминает в этом отношении Валерия Брюсова, зато Николая Рябушинского – очень. Повторимся: мы вовсе не хотим сказать, что Полуярков списывался с Рябушинского, но некий отблеск ложится и от его выразительной фигуры.
Возьмем еще один пример. Во второй части романа появляется довольно загадочная фигура – художник С. Вначале его имя возникает в разговоре Гавриилова и художника Второва, потом так же почти случайно – в речи профессора Ивякова, потом два художника работают как ученики в его мастерской, затем он подает Гаврилову идею о путешествии в Италию, и последнее, что мы о нем узнаем – под его руководством Гавриилов расписывает «новое большое кафе» (С. 121), и во время обеда по поводу окончания работ он еще раз настаивает на том, чтобы Гавриилов ехал в Италию. Больше он на страницах романа не появляется. В комментарии А.М. Грачевой читаем: «…прототипом художника С. является Сергей Юрьевич Судейкин (1882–1946) – художник, автор росписей стен артистического кабаре ”Бродячая собака”» (С. 672), и далее новое кафе еще раз впрямую отождествляется с «Бродячей собакой» (С. 674).
Кажется, не все здесь сходится.
Прежде всего, вызывает сомнения сама профессия С. Если автобиографического персонажа Ауслендер делает художником, то резонно было бы предположить, что художниками сделаны и другие литераторы. Это подтверждается прототипом еще одного из персонажей романа – художника Второва. Ему отданы черты характера и многие речи доброго знакомого Ауслендера, писателя Г.И. Чулкова. В романе разница между Гавриловым и Второвым описана так: «Дружба соединяла этих двух, столь противоположных молодых людей – тихого, меланхолического, вялого Гавриилова и Второва – быстрого, бодрого, шумного» (С. 91). И очень схожее определение (с довольно значительной разницей, о которой далее) содержится в книге воспоминаний Чулкова: «А.Н. Толстой забавно рассказывал, как Ауслендер, встретив его где-то, сказал назидательно: ”Писатель должен быть бодрым”. При этом Толстой изображает интонации и позу своего собеседника, обличающие в этом проповеднике ”писательской бодрости” самую откровенную склонность к ленивой прелести dolce far niente»16. Можно было бы приводить и другие доводы, заставляющие видеть прототип, но, кажется, достаточно и одного. В довольно случайном разговоре Второв бросает фразу, которая явно ведет к Чулкову: «Откуда у вас такое ”неприятие мира”?» (С. 122). В 1906–1907 гг. понятие «неприятие мира» было крепко связано с личностью Чулкова, издавшего брошюру «О мистическом анархизме. Со вступительной статей Вячеслава Иванова о неприятии мира» (СПб., 1906). Несмотря на то, что статья была написана Вяч. Ивановым, неприятие мира как один из лозунгов «мистического анархизма» явно намекало на Чулкова.
Но дело даже не в этом. «С.» как шифр в системе образов романа должно было решительно выделяться, поскольку принадлежало единственному персонажу, названному не фамилией, а криптонимом. И этот криптоним не имеет сколько-нибудь явного прототипа: мы получаем слишком мало данных для того, чтобы отождествить С. с кем-либо из известных писателей либо художников того времени. Автора комментариев привлекла возможность отождествить фрески в «новом большом кафе» со знаменитой «Бродячей собакой», которой не только посвящаются книги, но она еще и восстановлена как памятник петербургской культуры. Однако оснований для такого отождествления на деле нет никаких. «Бродячая собака» была расположена в подвале с низкими потолками, лишена воздуха и простора. В противовес этому расписываемое С. и его учениками кафе выглядит по-иному: «Миша вместе с Второвым и еще несколькими молодыми художниками проводили целые дни в этих больших, отделанных белым с розовым мрамором залах» (С. 121), «…ярко горели сотни ламп в пустых белых залах, украшенных причудливыми фресками» (С. 122), а как итог и завершение работы устраивается прощальный вечер в ресторане «Пивато» (там же, где чествовали С.К. Маковского после появления первого номера журнала «Аполлон»), что трудно себе представить в случае делавшегося на живую нитку помещения «Бродячей собаки».
И вместе с тем не слишком трудно понять, что было образцом для этой ситуации. 27 сентября 1907 г., т.е. незадолго до реального отъезда С.А. Ауслендера в Италию, М. Кузмин записывал в дневнике: «Заходили в café, отделываемое Лансере, и в кафе Рейтер». «Кафе Рейтер» как уже существующее и ничем особенным не примечательное нас вряд ли может интересовать, а вот другое – может. Хроника сообщала о нем: «Вчера нам довелось осмотреть новое, еще не открытое “Café de France” в доме армянской церкви на Невском, на художественную отделку которого, по сообщениям газет, затрачено около 150.000 рублей. На этот раз газеты близки к истине. Роскошь, действительно, поразительная. Всей постройкой этого богатого Café заведует архитектор-художник А.И. Тименев. Все панно и фигуры выполнены художниками Е.Е. Лансере и В.М. Щуко. <…> Устраивается и “артистическая” комната для актеров, писателей, художников и проч.»17. Эта самая «артистическая» очень удачно проецируется на описанную в романе «небольшую заднюю комнату, которая, по замыслу заказчика, должна была иметь вид более интимный, чем главные залы» (С. 121). Эта работа была для художника не проходной. К.А. Сомов в письме к А.П. Остроумовой-Лебедевой рассказывал: «В конце июля совершенно неожиданно приехал в Петербург Женя Лансере, получивший заказ написать фреску для вновь открывающегося на Невском кафе. Заказ tour de force в две недели написать картину в несколько квадратных аршин. И он справился с этой задачей»18. И, видимо, не случайно словарь Брокгауза и Ефрона в статье о Лансере отмечал: «В Москве им исполнены панно в Большой Московской гостинице, плафон и фриз в доме Тарасовых, в Петербурге – фреска в Café de France»19.
Опять-таки это вовсе не значит, что в С. мы должны видеть именно Лансере. Если мы предпочтем видеть под этим инициалом художника, а не литератора, то на его роль годятся и Судейкин (бывший, вместе с Ауслендером, прототипом героя в повести М. Кузмина «Картонный домик»), и К.А. Сомов (С. из романа «рисовал что-то на крошечном кусочке картона», с. 99, – что напоминает склонного к миниатюрам Сомова, тогда как Судейкин к ним вовсе не был расположен), и, видимо, Н.Н. Сапунов. Но в любом случае перед нами художник из круга «Мира искусства», но не прямо соотносящийся с реальным прототипом. В сфере же литературной такое отождествление было бы, кажется, вообще затруднительно.
Прямые параллели «Последнего спутника» с «Огненным Ангелом» при внимательном рассмотрении начинают тоже уступать место более сложным способам соотнесения героев и их мифологизированных ролей. Только Агатова и Рената (почти рифмующиеся между собой наименования героинь) практически едины по своим характеристикам. Но Гавриилов и граф Генрих, Полуярков и Рупрехт значительно отличаются не только внешними деталями, но и сущностными характеристиками. Начинается это уже в конце четвертой главки, когда мимо упоминавшегося выше Кики проходит Полуярков, который «сверкнул на прорвавшемся вдруг в цветное окно солнце золотом гладко причесанных светлых волос своих» (С. 51). На него сложно ложится не только солнечный луч, но и отблеск внешности графа Генриха: «…волосы, действительно, похожие на золотые нити, так как были они тонки, остры и сухи и до странности лежали каждый отдельно, возносились на его челом, словно нимб святых». Но в то же время и Гавриилов не меньше напоминает графа Генриха: «…стоило взглянуть на его лицо, тонкое, бледное, необычайное, почти детское, но таящее в улыбке нежного безбородого рта что-то, от чего страшно и сладко становилось…» (С. 47). Но настоящий граф Генрих остался в прошлом Агатовой – это репетитор ее брата, до предела похожий на героя брюсовского романа: «Нет, не студент-репетитор он, а рыцарь св. Грааля, призрак зовущий, и, послушная его зову, готова Юленька идти на смертный подвиг, на страшную гибель» (С. 101). У него золотой нимб шелковых кудрей, у него словно растут за плечами крылья, как у графа Генриха, только развязка этой истории – в измене Огненного Ангела, после которой и начинаются поиски его подобий.
- Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Разыскания в области русской литературы ХХ века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 1: Время символизма
- Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма
- Средневековые видения от VI по XII век
- Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической истории Франции