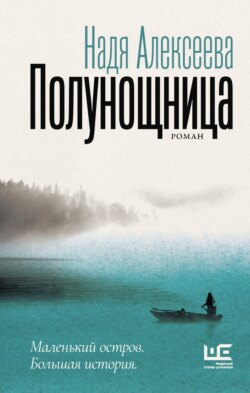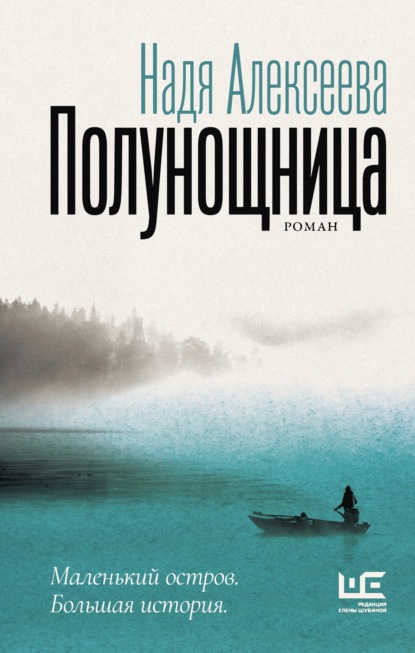© Алексеева Н.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Глава 1
В каюте с лежанками из рабицы пассажиров рвало друг за другом. «Блюют, – сказала Ася. – Пошли отсюда. Не то втянешься». Седая, серолицая, над увядшими щеками – быстрые глаза, из битых молью рукавов черной куртки – неожиданно молодые руки. Эти руки и увели Павла наверх по пляшущей лестнице. На палубе кем-то забытый рюкзак переваливался от борта к борту, подползали к нему лужи зеленоватой ладожской воды. Ася отыскала сухой моток брезента, развернула, плюхнулась на него, согнув ноги под черной юбкой, похлопала Павлу, чтобы сел рядом, принялась креститься. Обыденно, будто пудрилась. Ветер даже сквозь очки студил Павлу глаза. Пунктиром на горизонте лежали клочки архипелага. Валаам.
Павел увидел себя сверху, как в кино: камера все удалялась, удалялась, пока «Святитель Николай», старая посудина, которой на Валаам переправляли волонтеров, богомольцев и мешки с гречкой, не сделался бумажным, а сам он не предстал на палубе тощей кляксой. Он здесь не предполагался, да вот случился. Рот наполнился лимонной горечью, Павел вскочил, перегнулся через борт, зарычав, спугнув чайку. Поймал очки, норовившие слететь с носа, протер. Смотрел, как волна подхватила и унесла желтую кашицу, пока его не замутило вновь.
Волна кидалась под киль «Николаю», тот спотыкался, раскачивался, переваливал, кланялся. На этих поклонах голову Павла кто-то сжимал, удерживал меж могучих ладоней, пока его тело падало. Павел чувствовал, что вот сейчас, прямо сейчас, умрет, и хотел, утираясь от брызг, чтобы его смыло за борт.
Атака волн отдавалась в теле тем ударом по бамперу «Победы». До этого машина шла плавно – Павел и не замечал лежачих полицейских, мелких ям. На светофоре тронулся. Вдруг удар, хруст. Павла вжало и отпружинило от тугой спинки. Больно дернулась шея. «Победа» перевалилась через какое-то препятствие.
Все кругом сигналили.
В левом ряду легковушка приехала в чей-то бампер, и больше не было видно ни черта. Открыл дверь, на асфальте раздавленные яблоки, красные длинные брызги. Выскочил из машины, споткнулся о покореженную сумку-тележку, из нее вытекала овощная жижа. Фух! Павел вытер лоб рукой, поднял тележку, поискал глазами, кто уронил. Пощупал вмятину на бампере: видимо, тележка и выкатилась на дорогу. Обошел машину. За «Победой» на разделительной полосе лежала женщина. Морозное солнце высветило спину в черной куртке.
– Ты, это, сядь, сядь лучше. Драмины бы принял. Есть? – Ася дергала его за штанину.
Павел боялся пошевелиться: снова вывернет.
– Сходи к капитану, спроси, не то заблюешь им всю палубу. Чего смотришь?
– Тебя… Тебя вообще, что ли, не качает?
– Дык я на Иисусовой молитве. Это тема прям. Знаешь ее?
– А сестры у тебя нет? – спросил Павел, кривясь от ветра и брызг. – В Москве видел похожую на тебя.
– Да нет никого, одна я.
Эта Ася знала всех в хижине на причале Приозерска, где им три часа назад наливали чаю и просили надеть на себя все теплое, не модничать, потому что «на воде не апрель». У причала стоял «Николай», его труба выплевывала черный дым и стучала, приоткрывая крышку. Тук-шлеп-тук-тук. На палубе суетился, что-то спешно ремонтируя, механик. Сосновый лес был красным на просвет, пахло прелыми опилками. Чайник в хижине без конца кипел и парил, было душно. Ася все шуршала фантиками конфет, говорила «спаси, Господи», и никто не знал, когда они прибудут на остров. На все была «воля Божия»: на нее ссылались так, как баба Зоя на «Комсомолку». Из ее старой тумбочки вечно торчали вырезки всех сортов: от рецептов творожного кекса до жухлых послевоенных сводок о том, где искать пропавших без вести. Сводки лежали не по порядку, зато на каждой из них круглым почерком (печатным, старательным) было написано «Петя Подосёнов».
Петя, родной брат бабушки, так и не вернулся ни в сорок пятом, ни в пятьдесят третьем, когда приходили те, кто попал в арестантские роты и лагеря. Павел знал, что Петя держал оборону Ленинграда, а когда блокаду прорвали, вести от него прекратились. В конце сороковых баба Зоя каждый год ездила в Ленинград, отпуск тратила на добывание архивных справок, из которых было понятно: живым брат уже не вернется. «А могила? Должна же она быть? Чем вы тут занимаетесь в архивах: пять лет с войны прошло! – дед, попискивая, изображал бабку: вынь да положь ей брата. – И глазами, Паш, как сверкнет! Ну как было не влюбиться молодому историку?!» Дед умер от инфаркта, когда Павел учился на первом курсе. Павел помнил его смешливым, глуповатым, несмотря на степень доктора исторических наук.
Новогоднюю ночь на 2001-й, последний в жизни деда, Павел отмечал дома: старая, еще школьная любовь сама собой оборвалась, вузовской компанией не обзавелся. Баба Зоя, опустошив свою тарелку, послушав, что скажет новый президент, ушла спать. Павел с дедом без конца переключали телеканалы. Везде пели, пили, надеялись. Вдруг прямо у их окна рассыпались искры салюта. Звякнул хрусталь. Дед убрал бокал «для Пети» и его фотографию: лобастый курчавый парень проплыл мимо Павла.
– Невская Дубровка.
– Чего? – Павел, у которого голова трещала от выпитого, очнулся.
– Станция на железке. Оборона Ленинграда там проходила, их всех землей засыпало заживо. И не раз.
– Петя?
Дед кивнул:
– Немец не прошел, но и они не встали. Она все не верит. Сына родного так не оплакивала.
Всех своих покойников баба Зоя вспоминала редко, зато с братом, с Петей, беседовала, как с живым. Особенно в последний год, заговариваясь, называла Петей Павла. Порой днями не вставала с постели, путая сны с новостями. Павел звонил в скорую (девяносто лет – не шутки), а она, заслышав разговор, встряхивала седым пучочком на макушке, цокала вставной челюстью, взгляд снова обретал строгость: «Не надо, не надо. Бабка твоя еще из ума не выжила, Паша».
– Паша, проснись уже! Паша, Никольский! – Ася трясла его за плечи.
Маковка церкви торчала над водой, выглядывая из бурого пуха сосен. За Никольским скитом показался причал – серое небо над ним было разодрано, проглядывала голубая подкладка. Летела навстречу стая ворон. Пахло древесиной, влажной землей. Ладога теперь лишь пощипывала «Николая» за бока, тот увиливал, покачивался.
Осунувшиеся волонтеры и богомольцы поднимались из каюты, стягивая шапки, стряхивая с волос и бород присохшую рвоту. Пожилая, сильно накрашенная женщина в черном берете поверх платка спрашивала Асю о старце, который хорошо исповедует. Павел прислушался. Толстый парень с бородой кому-то звонил, повторяя: «Ты себе не представляешь! Але? Слышно?» Девицы из Челябинска утирали друг другу подтеки туши под глазами, фотографировались. Та, что повыше, хотела «удержать» на ладони колокольню главного, Спасо-Преображенского собора, которая в кадре казалась не больше елочной игрушки. На колокольне в закатном солнце розовел крест. Внутри башни дремали колокола, крошечные, едва заметные с причала.
Мимо Павла передавали на берег пестрые тюки и огромные чемоданы. Монах, принимая на берегу, называл их «голгофами». Павел кивнул Асе и тут же дернулся, как от выстрела. «Сука! – кричал кто-то тетке, спешащей вдоль причала. – Я те дам, не велено! Открой магазин, сказал!» Павел перехватил окаменевший взгляд монаха, заметил, как тот мелко-мелко зашевелил губами, зашептал. Мужика, который, матерясь, сбежал с лестницы и едва не схватил тетку за капюшон, заслонили от сходивших на берег два высоких монаха. Павел разглядел только поседевшую курчавую голову.
Фыркая, с уклона к причалу сползал пазик.
Пазик тащился к Работному дому, старинному зданию из темного кирпича, где поселили волонтеров. Снова качало, трясло, но хотя бы на суше. Рядом с Павлом сидела Ася, не переставая перебирать знакомых с Гошей, в распоряжение к которому они поступали. Гоша Павлу не понравился. К его виду – брюкам с походными карманами, ремню с бляхой, тяжелым ботинкам – добавилась еще и манера начинать фразу со «значит, так». При этом бороду он носил длинную, как у монахов, и, когда Павел в третий раз спросил, что им завтра делать, ответил: «Что Бог пошлет». Павел аж зубы стиснул. Ася шепнула, что Гоша отслужил в местной части ПВО, которая «там, за картошкой, увидишь», сверхсрочную прошел, прижился у отца-эконома.
Весна на острове выдалась сырая, снег, как писали в соцсетях, сошел лишь за неделю до прибытия волонтеров и еще белел на поленницах, сложенных у старинных домов. Центральная усадьба, Спасо-Преображенский собор с колокольней, у которой белесо светился лишь верхний ярус, обновлены, покрашены. Кельи монахов, обступившие храм двойным квадратом-каре, кое-где скрывались за строительными лесами.
– Значит, так, Зимняя гостиница, там местные бухают, ну то есть живут, – пояснил Гоша волонтерам, махнув веточкой вербы на дальнее здание с ветхими сизыми окнами и детской коляской у входа. – Ну ничего, дай срок. Алкашей выселят, ремонт сделаем, наша будет гостиница.
– Перестань, – осадила его Ася.
В Работном доме к комнатам волонтеров вела лестница с низкими каменными ступенями, за сто с лишним лет промятыми поступью мастерового люда. На третьем этаже мужчин направили на правую половину. Так заведено монастырским уставом: женщины и в храме становились отдельно, слева. В комнате с низким потолком, печкой, деревянными скамьями у стола и электрическим чайником (чересчур современным для обстановки) стояли едва ли не вплотную четыре кровати. На дальней, в углу, всхрапывал и бормотал, ворочаясь под тулупом, какой-то старик. Гоша указал Павлу на кровать возле окна, выдал полинявшее постельное белье в синих цветах. На соседней койке развалился тот бородатый с корабля. Павел забыл его имя. Панцирная сетка под ним простонала – Павел только сейчас оценил, насколько Бородатый мощный. Метра два ростом, ноги-руки раскинул, живот поднимается горой.
Спали плохо, печка дымила. Бородатый, пригибая половицы, вставал, топал, ковырял в топке кочергой, дул на огонь, размахивал газетой. Пепел летел во все стороны. С женской половины слышался смех и Асин голос.
– Может, к ним пойдем спать? Говорили, полгруппы только приехало, – сев на кровати, сказал Павел.
– Ты че! Это не благословляется, на двери же правила. – Бородатый выкатил едкую головешку на пол и гасил угли, поливая из чайника. – С женщинами нечего общаться. Такое дело.
– Лучше потолки бы подняли в туалете, я задолбался башку расшибать. – Павел взял ложку со стола, прижал к шишке на лбу.
– Смотри, на поле днем послушание будет, там можно. Но без рук, – смешок Бородатого был похож на дедов. – Такое дело: смирение и работать. Впахивать.
– А назад «Николай» какого числа? Не помнишь?
– Во вторник.
Бородатый лег, накрылся с головой одеялом и засопел. Павел распахнул обе форточки. Размахивая газетой, выгонял чад и ловил бумажные иконы не больше ладони, наставленные на полках и подоконнике, норовившие разлететься по полу. Задержал одну в руке, прочел вслух: «Валаамская». Образ вроде Рафаэлевых мадонн: наивных, сероглазых, с нежным румянцем. Но у того фигуры всегда изгибались, сходились в арки и круги и были окружены не то ангелами, не то волхвами. Здесь одинокая женщина, на руке которой держались и младенец, и голубой шарик, стояла прямо. Красный наряд, твердая поступь – будто решила идти до конца, как разгоревшаяся во всю силу свеча. Облако и то окаменело под ее босым шагом. На обратной стороне иконы был календарь, свежий, на 2016 год.
Засыпая, Павел посмотрел на Валаамскую. Ну, я приехал, что дальше? Он сейчас и вспомнить не мог, как, зачем, спустя тридцать лет после того, как родители разбились на «Победе», ему загорелось восстановить машину. А сколько он искал тот самый дымчатый оттенок, который помнил? Теперь вот баба Зоя снится. Ладно бы ругалась: не так похоронил или не попрощался. Но она появляется над серой водой и говорит про остров Валаам. Она далеко, только название и слышно. Павел подходит ближе, ближе, а вода вокруг замерзает, твердеет, он в ледяном колодце, на дне, а наверху мелькают тени.
В последние недели в Москве Павел всегда просыпался от звука колокола. Никак не мог разобрать: то ли во сне звонят, то ли это церковь соседняя, на Покровке. Павел еще до отъезда зашел из любопытства – там даже колокольни нет. На сайте писали, была колокольня, но давно обрушилась, подтопило ее, и всё никак не восстановят. Отпевали бабу Зою на Бирюлевском кладбище, Павел ни слова не понял, да еще какой-то желтобородый дед подходил, соболезновал, воняя табаком, хотел рассказать «про твоих». Павел машинально кивал, вроде как да-да, спасибо, что пришли. Ему казалось: вот только сейчас, похоронив последнего родного человека, он должен начать новую жизнь, какую-то другую, тяжкую, неподъемную. Желтобородого теснили сзади – бабу Зою, несмотря на слякоть, приехали провожать многие, – но тот стоял к Павлу вплотную. Удивлялся, как это Павел его не помнит, когда в гостях у дедушки Вити бывал столько раз маленьким: «Еще медалями игрался моими!» Павел, подняв брови, с усилием выдохнул. Поджав губу, отчего желтое пятно на бороде сомкнулось с желтизной усов, этот дедушка Витя наконец отстал от Павла. Неохотно так. Резко обернувшись, сунул ему визитку: ты мне набери все-таки, «важное сообщу». Растолкал толпу, ушел. Озябший священник вновь загундосил молитву. Дымок, вырывающийся из кадила, перебил запах слежавшейся шерсти и сигарет.
Павел знал, что нет никакой загробной жизни, но отпевание устроил, как бабе Зое привычнее, «по религии». Петин портрет она всю жизнь возле иконы держала. Кажется, тоже Богородицы. Наверное, ее и при жизни тревожило письмо с Валаама, которое Павел нашел в бардачке «Победы». Почему же она ничего не сделала, чтобы найти родню? Забрать Петиного сына к себе? Дед отговорил, что ли, ехать? Дед точно знал, что Петя погиб на войне. Не поверил письму?
И все-таки было в этих снах что-то ненормальное: гул, дым, лед, тени. Прежде Павлу изредка снились женщины, рабочие проекты, море, однажды зеленые пуговицы граненого стекла и запах белых каких-то цветов. Сирень? Лилии? В цветах Павел не разбирался.
Лизка, с которой когда-то встречался, выслушав про сны с колоколами и письмо, сказала, что хорошо бы к старцу съездить. Из бара, где сидели, открывался вид на ту церковь без колокольни (как же ее? Троицы на Грязех?). Лизка пила кофе такой черный, хоть ложкой ешь. Добавила: «Просто проконсультируйся». Рассказала, как сама съездила к старцу в Калужскую область. Как сидела и молчала, а тот прямо указал, что делать.
Изливать душу перед психологом или батюшкой Павлу не улыбалось. Он считал, что нужно высыпаться, нормально есть, ходить в бассейн. Не пить. Работать. Неврозы, бессонницы, исповеди – для лентяев и слабаков.
– Да не психолог! Это другая сфера вообще. – Лизка прищурилась. – Ты все равно на Валаам попрешься с этим письмом, не успокоишься, я тебя знаю.
– И что?
– Ну и заодно. К валаамскому старцу все випы ездят. – Лизка уже щелкала пальцами, что-то вспоминая, на «православнутую» не похожа, выглядит как надо, проекты берет крупные. – Забыла, как же его? Василий? Власий?
В тот же день Павел позвонил в волонтерскую службу Валаама.
Отвернувшись от окна с иконами, Павел решил завтра же к старцу попасть. Про Петю расспросить, раз он такой прозорливый, про колокола во сне – все разом уладить. За неделю тут с ума сойдешь. Он шумно выдохнул, устроил голову на подушке, закрыл глаза. Вдали загудела сирена, асфальт блеснул инеем. Павел стоит на коленях возле «Победы», на его руках женщина в черной куртке, рукава дырявые, а руки из них выглядывают нежные, розоватые. Замерзшие. Разлетаются седые пряди. Ася. Изо рта кровь течет, но она говорит, говорит с ним, говорит и смеется, становится румяная, красивая даже, а вокруг уже смыкается ледяная крепость. «Победа» сливается с ней цветом, растворяется, снаружи гудят, снуют тени. Ася утихает, сразу постарев. Кончик ее носа заостряется. Павел смотрит вверх, ждет звона колоколов. Зовет на помощь, бьет по льду, чувствуя, как тот обжигает ладони. «Я же приехал! Приехал на Валаам!» – кричит Павел наверх. Высоко над ним промахивает тень чайки.
– Ася тоже умрет? – Павел встрепенулся, огляделся, упал на подушку и уснул.
Утро пришло ясное, из-за белых стен келья засветилась изнутри. Павел сощурился, вставая, чуть не раздавил очки под кроватью, надел, вспомнил, где он, и тут же после стука в дверь раздалось Асино пение: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Бородатый крикнул: «Мы не одеты!» Ася сказала что-то про «рухольную» и «благословляется», застучала тяжелыми сапогами прочь по дощатому коридору.
В рухольной-кладовке на левой, женской, половине оставляли вещи, больше не нужные в монастырской жизни, а то и вовсе опасные. Ася выудила из кучи юбок и брюк кружевные трусики и такую же невесомую сорочку на бретельках.
– Отказалась грешить, – торжественно произнесла она. – Ушла в монастырь.
– Это же му-мужская обитель. – Бородатый сглотнул.
Ася расхохоталась и выхватила из ящика в самом углу пару резиновых сапог с меховой подкладкой, протянула Павлу, и теплый луч, добравшись до рухольной, приласкал ее щеку. Павел смотрел на Асю – вот же она, живая.
Сапоги пришлись впору. Павел задумался было о том, кто их носил и на каких ногах, но, спохватившись, благодарно закивал в пол. Ася накинула ему на спину черную куртку, почти такую же, как у нее, только большую, с мужского плеча, без дыр.
– Ну ладно, кто облачился, проваливайте, мне еще челябинских одевать, у них одежка не по погодке. Так, что я хотела еще…
– Ася?
– Паш, вы хоть не опаздывайте из трапезной. Отец-эконом на поле будет.
Ася, отстучав сапогами, вылетела за дверь. «Живая», – подумал Павел, встал и быстро пошел за остальными. Со вчерашнего вечера он постоянно кого-то догонял, переспрашивал и сейчас, по дороге к новому зданию, морщился от того, каким странным, наверное, казался Асе. Да и всем.
Навстречу Павлу шли четверо в замызганных телогрейках. «Извините, где тут трапезная?» – проблеял Павел, но те прошли мимо. Высокий, рыжий задел его плечом. Пахнуло перегаром. Обернувшись на блик, словно кто-то дразнил его солнечным зайчиком, Павел увидел колокольню, бело-голубую, и крест на ней поутру был празднично-золотым. «Баба Зоя, я и сверху кажусь идиотом?» – спросил он шепотом и, оказавшись перед двухэтажной кирпичной постройкой, заторопился в дверь, за которой исчезла спина Бородатого. Раньше Павлу не пришло бы в голову беседовать с умершими.
В трапезную мужчины входили без шапок, женщины, наоборот, повязывали платки. На первом этаже висело с десяток курток и расписание трапез: наемные работники, волонтеры, трудники. Павел понял, что есть здесь и найм и что на завтрак ему осталось минут десять. Поднявшись на второй этаж, увидел огромный образ все той же Богоматери на облаке, несколько столов, где сидели волонтеры, и по другую руку – стойку, как в столовой, с хмурой девушкой в белом платке, охраняющей чан с кашей. Другой чан, такой же огромный, с вареными яйцами, просто стоял на одном из столов. Чай, хлеб, яйца и печенье разрешалось брать в любом количестве, кашу девушка накладывала строго одну миску на человека. «Пшенная», – сказала она устало, хотя Павел и не спрашивал. Пахло здесь, как за завтраком в детском саду. Ася сидела с челябинскими в ярких косынках. Одна она была без платка, и ее волосы отливали серебром под лампами дневного света.
– Старец сегодня принимает? – начал неуверенно Павел.
– Если яйца не будешь, котам возьму. – Ася его не слушала. – Их там много, можно прямо обложиться и вздремнуть, пока отец-эконом не видит.
– Не люблю быстро есть. – Красивая челябинская волонтерка отставила тарелку.
– На вот, заверни печенье с собой. – Ася порылась в карманах, вытащила свернутый пакет. – Еще, Маш, слышишь? Еще можно не краситься: успеешь с утра поесть спокойно. С рабочими.
– Это они шли вчетвером? – Бородатый пощелкал пальцами по шее.
– Не, рабочие тут ого-го, финнов даже вызвали. Вежливые такие.
Ася уже бежала куда-то со своим подносом, и черная юбка виляла за ней. Павел в две ложки закинул в себя кашу, поспешил следом. Поставив поднос, Ася крестилась на образ. Павел поднял руку ко лбу, осекся: не понимал он этих обрядов.
Ася взяла с крыльца стопку мешков, позвала Вику (из двух челябинских она была старше и выше), поправила шапку и пошла внутрь квадратного двора Работного дома. Обогнули перевернутую ржавую лодку, сгнивший запорожец, веревки, на которых сушилось белье. Из-под битого кирпича в углах лезла первая трава. За двором открывался путь к «верхнему» монастырскому саду. На сайте монастыря тот был летним, густым. Павел вспомнил снимок с колокольней, точнее, с ее отражением в пруду. Сейчас из-за глухого забора виднелись тощие ветви яблонь. Стряхнув снег, они всё еще зябли.
Минуя садовую ограду, вышли к полю. Черному, вязкому, отделенному дорогой и аллеей старых пихт. Аллея вела на кладбище. Замешкавшись, протирая очки, Павел сообразил, что это не клочки снега на черной земле, а мешки, грязно-белые, такие же, как у Аси. Монахи нагибаются, что-то подбирая с земли, затем вдвоем волокут заполненный на треть мешок к обочине. Гоша, догнавший его на велосипеде, поторопил, сказав, что монахи с утра собирают здесь камни, чтобы расчистить поле и вспахать трактором, как станет посуше. А пока трактор увозит камни подальше.
– Сколько собрать надо?
– Значит, так, возьми в пару кого-то. – Гоша будто его не слышал. – Ты в первый раз?
Павел кивнул.
– К монахам не приставай. Сами спросят – отвечай. Ясно? – И уехал.
Возле избушки на краю поля Ася уже построила Машу с Викой в ряд, позвала еще двух старух и со словами «взмолимся, се́стры» затянула песню. Хриплый голос звучал весело: только когда сбоку подошел монах и принялся креститься, Павел догадался, что это молитва. Положив поклон, Ася взяла мешок и неторопливо пошла по полю, продолжая напевать. Она легко нагибалась к камням, долго их рассматривала, собрала пирамидку наподобие шаманской, постояла над ней. Павел просто шел рядом.
– Сфоткай меня! – Ася приложила к груди камень с дыркой посредине, похожий на огромную бусину, и протянула телефон. – Ты чего не собираешь?
– С какой стати? Ни задач, ни сроков. Сизифов труд.
Над ними пищали и хлопали крыльями чайки.
– Ты сизифов еще не видел! В первую осень я тут листья гребла в саду, под яблонями. Гребешь, они падают, гребешь, а они опять. Ветер подул, снова-здорово.
– Ну и смысл?
Павел сел на ведро, уткнулся в телефон. Поймал взгляд двух монахов. Один, молодой, заросший скорее щетиной, чем бородой, покосился равнодушно. Второй (он держал молодому мешок), одетый в куртку, из которой клоками торчал наполнитель, смотрел на Павла так горестно, будто тот ему эту куртку и изорвал. Покашливал. Обут он был в огромные валенки с галошами. Павел его сначала за старуху принял.
Отошел подальше, к Асе, придержал ей мешок:
– Слушай, это старец?
Ася смеялась так, что на них все оборачивались.
– Старец за Смоленским скитом обитает!
– Далеко?
– Ну так. Часа полтора топать, и очередища теперь, к Пасхе.
– Я сделаю сколько надо рядов и сбегаю.
– Смотри, полосатый какой-то. – Ася протянула камень Павлу. – Видишь поле? Как все камни уберем, другое послушание будет. Как колокол прозвонит, можно и отдыхать. Ну и обедом накормят, хотя я лучше вздремну.
Павел отшвырнул камень в сторону.
На обеде всё в той же трапезной каждого спрашивали: «Постное? Скоромное?» Павел взял суп с мясом, пленка поверху была жирная. Еще дали котлету с гречкой, капустный салат, компот из яблок, густой, приторный. Ася и правда пошла спать, остальных Павел не знал и рад был поесть в одиночестве. За обедом он придумал согласовать с Гошей норму, успеть к старцу. Достал телефон, занес в список дел: «Узнать, как добраться до Питера». Мысленно Павел уже вернулся в Москву, устроился на работу, в чистой рубашке входил в офис, где приятно пахло кофе. Подняв голову от мобильного, увидел, что трапезная пуста, а он съел все, даже яблоки из компота. Посуду сдавал чистую, судомойка посмотрела на него по-матерински.
Когда пришел на поле, все уже работали. Гоша сам к нему подъехал, спрыгнул с велосипеда, Павел отметил, какой он низенький, метр шестьдесят пять, не больше. Голос обрел уверенность.
– Гоша, мне надо по делам смотаться.
– То есть ты такой прямо деловой весь.
– Слушай, я сюда приехал не камни таскать, мне к старцу надо.
– Совесть есть вообще? Старухи, девочки вон упираются… Значит, так, к старцу ты сегодня не пойдешь. Сиди дальше на ведре, – последние слова Гоша прокричал.
– Это кто решил? Дай норму, я сделаю и свободен. Я не собираюсь таскаться с мешками весь день под «Отче наш»!
Монахи и правда запели молитву.
– Значит, так, завтра корабль, отправляйся домой с таким отношением. Не ломай мне дисциплину. – Гоша влез на велосипед, обернулся: – А старец тебя не примет. Он в курсе, кто какой.
Гоша еще не скрылся из виду, а Павел уже звонил в волонтерскую службу. Хотелось поставить солдафона на место. Администратор, та, что его отправляла, подтвердила, что «Святитель Николай» отойдет завтра в восемь утра, и если он хочет уехать, то пожалуйста: невольник не богомольник. А старец, старец решает все сам, никто на него не влияет, уж тем более Гоша. Он неплохой, перегибает от усердия, на него уже жаловались волонтеры.
Потом объяснила, что монастырский труд всегда ненормированный. Он про смирение. Важно принимать всё как есть и трудиться по силам.
Ну хоть какие-то правила.
Павел взял мешок, подобрал и швырнул горбатый камень. Пошел быстрее, собирал, кидал, нагибался, разгибался, сравнялся с Асей.
– О, отцу-эконому прям бальзам. – Ася понизила голос, кивнула на монахов. – Старый. Кашлял, когда ты филонил. Ты чего к старцу? Девушка ушла?
– Он что, это лечит?
– Не знаю, в разводе я. Отец Власий хороший, меня вытащил.
Ася помолчала.
– Ну и легче на острове, понимаешь? В магазине был? Там и водка есть, раз жилое поселение, нельзя без нее. Но когда он один, магазин, его проще стороной обходить. Смотри, вот даже говорю с тобой – почти не трясутся. – Ася сняла правую перчатку, выставила руку, запачканные землей пальцы держались ровно.
Павел набил камнями два мешка, обливаясь по́том, все тянул и тянул их вперед, едва успевая за Асей, помахивающей полупустым ведром. Когда дотащил свои мешки до обочины, они втроем с трактористом и Бородатым ссыпали булыжники в кузов. «Парень, ты головой-то думай иногда, так мешки набивать!» – крикнул тракторист из кабины. Бородатый поехал с ним – выгружать. Павел уселся на ведро и почувствовал, как натружена поясница.
Краем глаза уловил движение. Монахи складывали мешки на краю поля и уходили в сторону храма. Им вослед слетали с пихт вороны, небо было ясное, от земли шла ледяная сырость: и ведро, и сапоги вязли. Павел оглядел поле: мелькают шелка челябинских, старухи-паломницы говорят между собой. Вдали увидел Гошу: тот, не слезая с велосипеда, показывал скрещенными руками, что Павел план перевыполнил. Обернувшись на Асю, понял, что Гоша просто просигналил заканчивать работу. Потер грязные ладони, выругался, содрав мозоль.
Увидел перед собой валенки и галоши, поднял глаза – отец-эконом. Хотел встать с ведра – и не смог. Тот махнул рукой: сиди. Каждая морщина вокруг выцветших глаз улыбалась.
– Во славу Божию потрудился, прямо радость.
Узнав имя Павла, отец-эконом сказал, что будет молиться за него, ушел.
– Приятный старик.
– Ну, как сказать… Чай будешь? – Ася вытащила термос, плеснула в крышку крепкого до черноты. – Ты посиди еще, правда, красный весь. Ты крещеный?
Павел кивнул.
– Тут лучше крест носить. А то бесовщина всякая повылезет ночами.
Павел поморщился, нащупав вареное яйцо в кармане, достал очечник. Там вместе с тряпочкой для протирки стекол лежал и серебряный крестик на веревочке. Он иногда доставал его, смотрел как на вещь, которая с ним с рождения. Баба Зоя говорила: «Крестильный». Развернул: голова в веревочку еле пролезла. Спрятал крестик под футболку.
– Считай, это бейджик. Может, и к старцу попадешь. После него, если не размотаешь благодать за день в городе, месяц будешь ходить, как в вату обернутый.
У избушки, где молились до начала работы, теперь кружили коты. Пушистые, широколапые, игривые и старые, едва-едва способные дергать хвостом, чтобы увернуться от ласк. Маша и Вика в скромных юбках, добытых им Асей в рухольной, тянули котов себе на колени, гладили, фотографировали друг друга в темных очках и без них.
Павел едва держался на ногах, встал поодаль. К нему подошел, сел у сапога ветеран: кот с перекошенной физиономией, когда-то рыжий, а теперь желтый, пыльный. Павел достал вареное яйцо, очистил, разломил пополам. Кот не мог яйцо ухватить, белок выскальзывал из пасти, как нарочно. Сев на корточки, Павел раздавил белок с желтком в кашицу, погладил кота по спине: все позвонки наперечет, словно проводишь рукой по радиатору. Женщина, вышедшая из избушки, присела рядом с Павлом:
– Ест, ну надо же! Вы идите, идите на службу, а то опоздаете, я сама.
Волонтеры, переговариваясь, потянулись по аллее. Павел, тяжело переставляя ноги, пошел следом.
– Петя, ну что ты? Ешь! Живой, и слава богу, – послышалось за спиной.
Павел вздрогнул. Догнал своих уже у входа в храм. На крыльце, перед монахом с благообразной бородой, все расступились. Ася, поклонившись, шепнула Павлу: «Настоятель». Павел, не в силах выслушать проповедь от кого бы то ни было, постелил мешок, сел на ступеньки. Идти в Работный дом, хотя бы умыться к ужину, не мог. Утирал пот рукавом. Подуло холодным – набросил капюшон, сгорбился. Мелькали чьи-то ноги в чистых кроссовках и на каблуках. Внезапно у себя на коленях Павел обнаружил сторублевую бумажку, машинально поблагодарил, сунул в карман. Закемарил. Очнулся в сумерках, встал, держась за поясницу, и тут зазвенели монеты, падая к ногам. Там же оказались еще три сторублевки. Вытаращив глаза, Павел с трудом нагнулся, собрал, сосчитал – без малого пятьсот рублей. «Докатился», – сказал он себе, озираясь, не видит ли кто. Поднялся в храм, увидел ящик для пожертвований, скорее ссыпал все туда, как вор. «Сколько же они собирают за день?» – пробормотал Павел, задрав голову к колокольне. Серый бок колокола не отозвался.
Трапезная была закрыта. Павел достал телефон: девять вечера. Остров жил по московскому времени, но Павел перестал ощущать это время. Он никогда не носил часов. Еще в школе вставал без будильника, никогда не опаздывал. А здесь не мог понять, как время движется, куда утекает. Кому принадлежит?