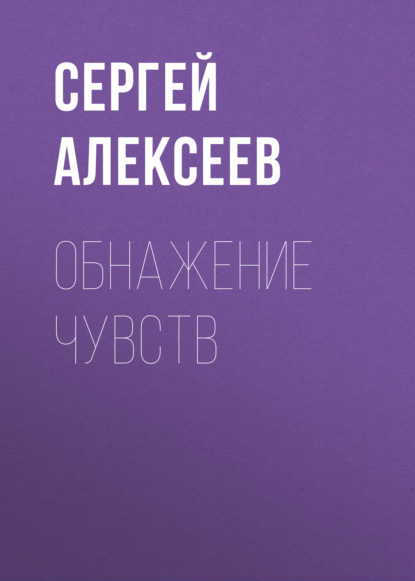1
В последний миг он ждал некого откровения, открытия истины или момента перехода из одного мира в другой; готовился к потрясающему и божественному событию, о котором так много говорили на этом свете. Но все произошло обыденно, и так, словно Сударев заснул под шум дождя, и не увидел ни обещанных коридоров, ни тоннелей, по которым улетает душа. Только собака на улице завыла и даже бывшая в спальне Анна ничего не заметила, орудуя утюгом на гладильной доске. Спохватилась, когда на левой, здоровой ноге Сударева, между пальцев вдруг открылась старая рана, полученная еще в отрочестве. Аспирантка кроме всего была военной медсестрой – все филологи проходили курс и получали звание сержанта, не боялась крови, но тут ее аж передернуло от страха: фонтанчик бил вертикально вверх с каким-то неестественным напором. Зажать ранку и перемотать углом простыни не получилось, только вся испачкалась и убежала на кухню за бинтом, йодом и жгутом, который в доме где-то был.
Когда же вернулась, кровь остановилась сама. Но Анна все равно перевязала ногу, затем как-то легко, считая Сударев спящим, перекатила его с боку на бок, благо, что кровать была широкой, чаще называемой «сексодромом». Она перестелила простыню, замыла матрац и пол, причем, делала все это не осторожно, хотела, чтобы проснулся: спать на вечерней заре, голова заболит. Профессор обычно дышал едва слышно, что говорило о здоровом сердце, а тут она вообще не прислушивалась, но запомнила, был теплый и сонно расслабленный. Они жили вместе уже полтора года, приноровились друг к другу, как привыкают супруги, взаимно изучив привычки. Анна снова взялась за утюг, ибо ее ждал ворох постиранного белья. От однообразной работы мысли тупились, и полтора часа она утюжила в голове одну и ту же: почему кровь потекла из левой ноги, когда у профессора ранена правая и на ступне когда-то отняты все пальцы?
Трижды она осматривала забинтованную ногу и ответа не находила. Поэтому залезла рукой под одеяло и тщательно прощупала постель на предмет стекла, случайно попавшей туда, бритвы или чего-то острого. Ничего такого не было!
А Сударев сначала испытал некий сиюминутный провал, будто проскочил сквозь темную комнату, причем, торопливо и с затаенным испугом, как в детстве, затем стал видеть сон – так ему показалось вначале. Будто он еще маленький, шестилетний, снова едет в кузове открытого грузовика по осенней дороге, хлещет холодный дождь и будто его опять возвращают в детский дом. А через плечо у него ноша, связанная веревочкой – промокшая перьевая подушка, подаренная сестрицей Лидой, и узелок, куда бывшие родители сложили его вещи.
Как и в прошлый раз, грузовик остановился перед железными воротами – приют помещался в бывшем женском монастыре, за высокой каменной стеной. И Сударев догадался, что каждая вечная жизнь состоит из многих замкнутых циклов, поэтому бессмертие вполне возможно. Однако следующий этап мог быть совершенно иным, в другом теле, с непохожими мозгами, устремлениями и характером. Он мог вернуться на этот свет вообще другим, неузнаваемым человеком!
Поэтому уходя, он сожалел лишь об одном – не успел написать роман о любви! Столько лет готовился, исследовал свои и чужие чувства, сотни раз выстраивал в воображении картины, завязывал сюжетные линии, сооружал грандиозные треугольники. Отлично зная теорию и литературные традиции, продумывал деталировку героев, событий, неожиданных поворотов, дабы обеспечить захват внимания, и ничего не успел перенести на бумагу! Даже планов, черновиков, записок, зарисовок не оставил – все держал в уме, полагаясь на свое воображение и память. А вдруг на новом этапе жизни писать его не захочется? Вдруг и в голову не придет сесть и сочинить роман? И все наработки, все уже придуманные чувственные коллизии даже не вспомнятся!
Но теперь поздно сожалеть, вот уже впереди нарисовались ворота!
И пусть эти ворота в старый монастырь, где когда-то был приют, но все равно символ перехода! Сейчас калитка откроется, его впустят и все начнется сначала, все пойдет по кругу, а прошлую жизнь он забудет, как только перешагнет порог детдома. Точнее, не совсем забудет – спрячет ее в дальний угол памяти вместе с ненаписанным романом, как спрятал первое усыновление. И станет верстать свое иное существование, с чистого листа. А от старого в новое перейдут вещи материальные, например, перьевая подушка, на которой будет сниться сон о прошлом. Еще возможно, воспоминания двух – трех близких, которые будут рассказывать о его прошедшей жизни.
Стоя перед воротами, Сударев все еще искал, за что бы зацепиться и вынуть из происходящего хоть какую-нибудь истину. То, чего не знал и знать не мог на этом свете. Должно же хоть что-нибудь открыться! Даже обидно становится, ни одной согревающей разум, мысли не приходит. Да и те, что крутятся в голове, кажутся отстраненными, попутными, что ли и не тянут на откровение. Он помнил, что детдом из монастыря давно выселили, отдали церкви, и теперь за воротами живут монахини и послушницы. Да еще где-то во флигеле, за стеной, обитает женоненавистник Аркаша, однокашник по приюту, маститый писатель и лауреат Госпремии.
Он приоткрыл тяжелую стальную калитку и осторожно заглянул сквозь узкую щель. И увидел, что детдома за воротами и в самом деле нет, но и монастыря нет! Открылось совсем другое пространство, и картина была памятная и трепетная: в учительском домике, возле печного зева на клетчатом пледе спала обнаженная молодая женщина! Ее разбросанные каштановые волосы лежали валом вокруг маленькой головки, покрывали плечи и далее растекались потоком по пледу и полу. И это была она, учительница Марина Леонидовна, которую Сударев узнал бы в любом виде, даже по руке, по пряди волос!
Он задохнулся от восторга – вот оно, откровение, которого ждал! И сразу же опалило старую рану между пальцев на левой ноге, откуда ударил фонтан крови! Как тогда, ранним утром на лугу, когда они собирали нектар бессмертия, и он наступил на его каплю, вышедшую из недр земли. Или, скорее всего, на битое стекло, которого было много вокруг стекольного завода, но Марина Леонидовна все же убедила его, что это был нектар, застывающий на поверхности земли.
Не взирая на кровь и опасаясь потревожить спящую учительницу, Сударев замер у калитки, перестал дышать и это его спасло от окончательной смерти. Он не умер, но повис где-то между жизнью и смертью, между этим светом и тем, потому что видел оба мира сразу! И было не понятно, в котором из них теперь обитает любимая учительница и где находится учительский домик?
А этот свет держал еще крепко, потому как шестилетний Сударев отчетливо видел Анну, которая стояла у гладильной доски и механично двигала утюгом. И помнил, что сейчас непременно появится сестрица Лида и поймает его с поличным. Подсматривать за спящими взрослыми тетями было запрещено на этом, и на том свете! Он хорошо это уяснил, однако сейчас потянул калитку на себя, чтобы войти в учительский домик, или вернее, в другой мир, и услышал голос невидимой сестрицы:
– Это безнравственно! Ты слишком рано искусился женскими прелестями.
Голос был родным, милым, узнаваемым, но слова совершенно чужие! Лида не могла произносить таких, и сказала бы грубо, ехидно, даже цинично. Она и тогда не церемонилась, захватив его у чужой двери.
– Ах ты, Подкидыш! – сказала восьмилетняя сестрица. – Сопляк еще, а уже на голых девок пялится!
И было непонятно, хорошо это или плохо, в осуждение сказано или напротив, как отображение его достоинства, поскольку в голосе Лиды звучало не только возмущение – восхищенное удивление и одновременно приговор. Сейчас бы он ответил, что смотреть на обнаженных женщин ему необходимо по зову творческого вдохновения, что рано или поздно он все равно напишет роман о любви. А для глубинного понимания этого чувства надо самому испытать все его нюансы и тонкости, исследовать природу зарождения и развития. Наконец, влюбиться самому, и так, чтоб хватило на всю оставшуюся жизнь!
В первый раз, когда сестрица застукала его в бараке, Сударев увидел совсем другую женщину, коротко стриженную, но спящую точно в такой же позе – одна рука закинута за голову, другая лежит на сакральном треугольнике. Причем, картинка тогда высветилась не реальная и напоминала знаменитое полотно Тициана «Венера», которого Сударев никогда не видел, и видеть не мог. Это уже потом, спустя много лет, когда на глаза попала ее копия, узнал. Но при этом женщина на постели, нарисованная, сотканная из масляных мазков, казалась живой, манящей и совсем не знакомой. Не приближаясь, ее хотелось рассматривать бесконечно, как картину, ибо иначе мазки сливались, и образовывался пестрый хаос, в том числе, и в голове.
Сейчас же Марина Леонидовна казалась реальной, из плоти и крови, и находилась в своем домике, возле распахнутого зева печки, но Сударев смотрел на нее сквозь приоткрытую монастырскую калитку, находясь в своей спальне, потому что Анна все еще гладила белье, и пронзительно пахло перегретым утюгом. Нога перестала кровоточить и земное, привычное сознание померкло. Зато открылось иное, как будто существующее параллельно, или точнее, свое, но отраженное, словно в зеркале или светлой воде. И можно было зрительно видеть свои мысли! Рассматривать их, изучать развитие во времени и изменять, если есть в том нужда. При жизни ничего подобного он не испытывал и взирал на такое чудо с восторгом, полагая, что теперь за него мыслит отлетевшая, но обитающая рядом, душа.
– Не спи на закате. – предупредила незримая Анна. – Голова заболит.
Аспирантка была родом из деревни, воспитывалась в крестьянской культурной среде, знала много примет, обычаев и фольклора, и будучи искренней, своей родовы не стеснялась. Он услышал это, но она, душа, толкала Сударева войти к Марине Леонидовне, хотя он осознавал себя шестилетним мальчишкой, видел со стороны промокшего цыпленка с узлами на плече, заглядывающим в то, чего еще нет. И надо было подождать, когда пройдет еще шесть лет, когда он превратиться в отрока, в зреющего подростка, и, собирая нектар бессмертия, порежет ногу стеклом. Сударев не входил в другой мир, потому что знал все наперед: отлетевшая душа манила и показывала ему будущее, которое непременно случится, когда придет срок.
Он притворил монастырскую калитку и в тот час обнаружил себя лежащим на кровати в спальне загородного недостроенного коттеджа. Исчезнувшее пространство связывал лишь хлещущий за приоткрытым окном, дождь, запах утюга, свежепостиранного белья и уксуса, который Анна добавляла в воду, чтобы взбрызгивать пересушенные простыни. Образ аспирантки был каким-то неустойчивым, не постоянным, и то являлся четко очерченным и реальным, то висел в воздухе, как приведение. Но именно в таком виде Анна казалась досягаемой, и он трогал ее за руки, гладил по ягодицам, что она так любила, иногда подставляясь под его ладонь. Скорее всего, ее привязанность была настолько сильной, что она на считанные минуты проваливалась в пространство между мирами, чтобы быть ближе к Судареву.
Потом рядом с кроватью профессора появилась другая женщина, не менее живописная, в красной пилотке, ядовито-зеленом платке на шее и бирюзовом халате «скорой помощи». На плечах, словно двуглавая змея, лежал непомерно толстый, черный шланг фонендоскопа и шевелился, как живой. Она принялась ощупывать, оттягивать веки, затем поискала пульс на горле, и наконец, приставила черную слуховую тарелку к сердцу.
Послушала и будто печать поставила.
– Он умер.
При этом руки у нее показались ледяными, как у покойницы.
– Как – умер? – воскликнула невидимая Анна. – От чего? Не может быть! Алексею Алексеевичу всего пятьдесят четыре года…Сделайте что-нибудь!
И еще что-то говорила истерично, сбивчиво, как обычно в таких случаях, но слова перебивал заунывный собачий вой. Сударев хотел сказать, что он совсем еще не умер, висит между тем и этим светом, взирает сразу на оба и еще не решил, куда ему пойти. Потому что не знает, в каком сейчас находится учительский домик, где по прежнему живет Марина Леонидовна. Его давно должны были сломать из-за ветхости, и если сломали, то дом, как и люди, тоже перекочевал на тот свет. По крайней мере, его душа. А она у дома была!
Фельдшерица, должно быть, заметила некое пограничное состояние Сударева, повозилась со своим саквояжем, после чего все-таки отыскала вену на руке и сделал укол. А длинную иглу второго шприца вонзила в сердце. На минуту в комнате повисла выжидательная тишина, даже овчарка на улице умолкла. Анна почему-то улыбалась, возможно, сдерживала рвущийся наружу восторг, если Сударев оживет, задышит и встанет.
Он не встал.
– Поздно. – заключила фельдшерица, осматривая ноги покойного. – Реакций не наблюдается.
– Но отчего?!… – сдавленно воскликнула Анна. – От чего он мог умереть?! Он совсем не болел…
– Почему ступня перебинтована?
– Кровь пошла! Брызнула!.. И сама остановилась.
Фельдшерица размотала бинт и осмотрела ранку, о существовании которой Анна даже не знала.
– Типичный свежий порез чем-то острым… Стеклом, что ли?
– Не знаю! – растерялась аспирантка. – Этой раны никогда не было!… У него правая болела, в Афгане был ранен, оперировали…
– Это я вижу… Остановилось сердце, остановилась и кровь.
– Но много крови вышло!
– Ну не столько, чтобы умереть. Крупные сосуды не затронуты… Странно все. Очень странно! Надо отправлять на судмедэкспертизу, сообщать в следственные органы…
У Анны начиналась тихая истерика.
– Отчего? Отчего он умер?…
Фельдшерица содрала перчатки и достала бумаги.
– От чего, не знаю, вскрытие покажет… И успокойтесь! Вы кем приходитесь усопшему? Дочь?
Анна вдруг схватила зеркало, поднесла к устам Сударева и долго так держала, вглядываясь, не замутнело ли стекло. Не замутнело, и голос ее обвял, сознание запуталось.
– Я его женщина… То есть, супруга, гражданская жена. Или даже служанка… В общем, аспирантка.
– Не теряй времени, гражданская жена. – цинично проговорила фельдшерица, наблюдая за манипуляции с зеркалом. – Если умная такая!… Мы все служанки. Сейчас выпишу заключение. Вызывай труповозку, вот телефон.
– Кого… вызывать? – судя по голосу, Анна пришла в ужас.
– Мы мертвых не возим. – был ответ. – Есть специальные службы доставки в морг… Услуга платная, да и у вас тут ужасные дороги! Так что поторопитесь, пока приедет… Иначе придется ночевать с покойником. И дай мне паспорт умершего!
Анна не реагировала, исступленно повторяя, как мантру:
– Нет, ну отчего он мог умереть? От чего? От чего?
Фельдшерица заготовила тампон с нашатырем.
– Надо было дедушке соразмерять свои силы! – прошипела она, тыча тампоном в нос Анне. – Нахватают молодых девок, кобели старые! И коньки отбрасывают… Скажи честно, секс был?
Точно так бы сказала сестрица Лида, окажись на ее месте! Анна вдруг выгнулась как кошка перед опасностью.
– Секс? Был! Я вон три машины перегладила! И еще гора!
И свалила стопу белья со стола. Фельдшерица несколько сдобрилась.
– Завешай зеркала. – посоветовала она. – И часы останови.
– Зачем? – Анну знобило.
– Так положено.
Судареву захотелось погладить свою верную аспирантку. Он все это слышал, поэтому думал, что все-таки жив, коль его не пустили за приютские ворота, в пространство учительского домика, где пребывает Марина Морена – так про себя Сударев звал свою учительницу. И сейчас происходит забавное недоразумение, так напугавшее Анну. Он внутренне порывался успокоить ее, а вместе с тем выразить несогласие со своей смертью, например, голосом из потустороннего мира спросить, цел ли учительский домик на берегу карьера? Или даже приколоться, например, резко вскочить, рассмеяться, только Сударев пошевелиться и сказать ничего не мог.
Ко всему прочему, перед взором, в неком подвешенном состоянии, вновь замерцало пространство за монастырскими воротами. Сквозь приоткрытую калитку высвечивалась другая комната, уже в леспромхозном бараке. И теперь там возлежала не учительница русского языка, а стриженная девица, дочь соседки тети Вали, причем уже не живописная, как на полотне, а тоже плотская, своим видом никак не похожая ни на ангела, ни на икону – разве что на образ Венеры, богини любви. И не смотря ни на что, притягивала воображение так же, как в детстве, отвлекая от реальности, происходившей на этом свете.
Сударев еще мысленно порывался вернуться в оставленный мир. Однако женщина подняла левую руку, бесстыдно оголив сакральный треугольник, и поманила к себе. И он мысленно согласился с фельдшерицей со «скорой» – было, от чего умереть шестилетнему мальчишке, если перешагнуть порог и войти. Сейчас он узнал манящую, точнее, вспомнил – та самая женщина, красоту которой узрел в шесть лет от роду и получил втык от сестрицы Лиды! Узнал и умом уже не детским – зрелым, матерым, однако изумленным, отметил, что она ничуть не изменилась, не постарела за последние полвека. Возможно потому, что не дождавшись, когда ее возьмут замуж, эта пьющая и распутная молодая женщина повесилась в этом же бараке. А мертвые не стареют. Или все-таки была живописью, искусством, будучи нарисованной дядей Сережей Трухиным, и потому способной пережить вечность. Картина на обратной стороне клеенки получилась неказистой, похожей на коврик с лебедями, но голая дева была очень похожа на живую. Сударев увидел это полотно, когда уезжал обратно в приют и пришел в барак, чтоб попрощаться с бывшими соседями. Убитая горем тетя Валя и показала ему клеенку.
– Вот она какая была, лебедица моя белая… И зачем же с собой сотворила такое?…
Сударев смотрел на клеенку, стоял и плакал.
Но тогда, в детстве, эта лебедица не подманивала к себе, была реальной, во плоти и просто спала в душной барачной комнате, откинув жаркое шерстяное одеяло. И даже не проснулась – напротив, похмельная, так облегченно задышала, ощутив во сне прохладный сквознячок из приоткрытой двери. И все же накрыла узенькой ладонью волнующий островок растительности. Тогда Сударев задохнулся от неведомых, никогда не испытанных чувств страха, восхищения и проснувшегося желания. Он еще не понимал, отчего замирает и сотрясается его природа, но прибежавшая Лида узрела его состояние.
Потом он узнал от сестры, как ее зовут – тетя Лена, которой тогда было лет двадцать. Говорили, будто она приехала в поселок к матери, но на самом деле чтобы выйти замуж за дядю Сережу Трухина – изобретателя, который жил в соседнем бараке и ничего, кроме своих железок и сварочного аппарата не замечал. Поэтому тетя Лена ждала от него предложения и по утверждению Лиды, квасила в одиночку. И по пьянке же повесилась – это уже когда Сударевы переехали из барака в новый дом. Но дядя Сережа Трухин успел нарисовать с нее картину, где изобразил точно такой, какой ее видел Сударев.
Можно сказать, он родился в приюте, с первых дней жизни оказавшись в доме ребенка, не знал матери, не сосал грудь и к шестилетнему возрасту никогда не был на пляже. Детдомовских ребятишек младшей группы еще не водили на реку, купали в большом деревянном корыте, поэтому он не видел взрослых обнаженными, ни мужчин, ни женщин, а сверстники, дети, выглядели иначе и весьма одинаково. Тут же вид совершенно голой девицы потряс, поразил его, поднял в душе не знаемую ранее, трепетную волну – даже ознобило до «гусиной» кожи! И еще не осознавая того, он догадался, что видит и будто прикасается глазами к некой, пока запретной, стыдливой стороне будущей жизни.
И этот ее аспект, этот мотив – самый главный, чтобы любить жизнь.
Сколько он так смотрел, испытывая новые переживания, неведомо, время в детстве бежало иначе, и в какую-то минуту был пойман на месте преступления вездесущей сестрой Лидой.
Судареву пытались дважды организовать семейное воспитание, и первый раз его усыновила многодетная пара из леспромхозовского поселка Лая. И у него появилась не только новая фамилия, оставшаяся на всю жизнь, но еще три младших и одна старшая сестра, девчонка рыжая, задиристая и ехидная. Она сразу же обозвала приемного брата Подкидышем, получила от родителей внушение, однако не успокоилась и продолжала так звать, когда никто не слышал. И вот Лида подкралась сзади, высмотрела, что делает новоиспеченный брат, и захлопнула дверь в комнату, где спала женщина.
– Ах ты, Подкидыш! Сопляк еще, а уже на голых девок пялится! Бессовестный, разве можно подсматривать за тетями? Как не стыдно? Я маме все скажу!
Говорила язвительным полушепотом, верно, боялась разбудить спящую, ухмылялась и смотрела с прищуром, словно прицеливалась. И этот ее приглушенный, даже вкрадчивый голос почему-то сбивал с толку. С ябедами в детдоме расправлялись просто – устраивали темную, но усыновленный Сударев еще не привык к семейным нравам и не знал, как поступить с сестрой.
– Не рассказывай, – однако же просительным шепотом сказал он. – Лучше надери мне уши, если хочешь. Или потаскай за волосы.
Тогда они еще жили в двухэтажном бараке-общежитии, Сударевы занимали две маленьких комнаты на втором этаже и одну крохотную на чердаке, где старшие дети спали летом. Перегородки дощатые, тонкие, двери и вовсе из картона – даже шепот в коридоре слышно, хорошо, днем все взрослые на работе, только эта молодая женщина спала в своей комнате.
Недавно обретенных родителей Сударев еще никак не называл, и тут, видя, что Лида драть уши не станет, поспешил заверить, что с этой поры станет звать их папа и мама – жертвовать было больше нечем. Сестра никак не оценила его готовность, но почему-то отвела подальше в угол коридора, где горой лежал мусор и сломанная мебель.
– Зачем за тетей Леной подсматривал? – спросила она. – Только честно!
Надуться и отмолчаться тут бы не получилось, все рыжие девчонки были въедливыми и дотошными.
– Я не нарошно. – попытался соврать он. – Дверь приоткрыл, а там она лежит…
– Да ты же полчаса торчал у двери! Я за тобой следила!
И внезапно схватила за штаны, зажав рукой писюлю. Он попытался вырваться – не получилось.
– А это что? Какой уже крепкий гвоздик! Ишь ты!…
И сама смутившись, разжала руку. По веснушатому ее личику поползли розовые пятна, словно солнечные зайчики.
– Говори, зачем подглядывал?
Судареву стало стыдно до покраснения, как говорила воспитательница в приюте, но не от того, что подглядывал – от того, что вынужден был рассказывать это старшей сестре, еще чужой девчонке.
– Никогда не видел голых женщин. – неожиданно по взрослому признался он. – Чтоб совсем голых…
– Маленький еще, смотреть. – выговорила она без прежнего ехидства. – Ну и что ты увидел? С таким гвоздиком?
– Почему-то у нее волосики растут. – что думал, то и сказал Сударев. – Вот у тебя волосиков нету, а у нее есть.
– А ты видел? Может, есть!
– Видел. – признался он. – Когда ты утром спала, рубашка задралась…
– И за мной подсматривал?
– Совсем немножко. За тобой смотреть не интересно…
– Почему не интересно? – возмутилась Лида. – А за тетей Леной интересно, да?
– Ты же мне сестрица…
– Я тебе не родная сестрица!
– А мне так хочется, чтобы ты родной стала! – с зажатым трепетом признался Сударев. – Такой родной-родной!
Он не собирался подлизываться к ней, однако сестрица решила именно так, схватила Подкидыша за руку и повела домой. Там посадила на табуретку посередине комнаты и взяла мухобойку.
– Родителей можешь звать, как хочешь. – вдруг заявила она, хлопая мухобойкой по своей руке и показывая тем самым свою полную власть. – Но теперь будешь делать то, что я тебе прикажу. И только попробуй не послушаться! Расскажу маме, как подглядывал за соседкой – тебя снова сдадут в приют!
Лида была старше всего на два года, но уже перешла в третий класс – раньше отдали в школу, училась на «отлично» и считалась не по возрасту умной девочкой. Младшие сестры ходили в детский сад, а ее оставляли дома, присматривать за усыновленным Подкидышем, убираться в комнатах и полоть грядки, вскопанные под окном.
Сударев тогда не испугался ее строгости, но все-таки дал слово повиноваться старшей сестре, поскольку обратно в детдом очень уж не хотелось, по крайней мере, летом. Лида любила играть в учительницу и обещала родителям подготовить приемыша к школе, чтобы, как и она, пойти шестилетним и чуть ли не с первого дня начала с ним заниматься. Сударев относился с прилежанием, но не потому, что стремился к учебе; хотелось скорее стать взрослым, ибо детство опостылело, как только он осознал свое сиротское положение.
Осенью в школу его не взяли, хотя он научился читать, писать и считать до тысячи, а ближе к зиме, когда многочисленное семейство Сударевых получило большую отдельную квартиру в новом доме, Подкидыша на самом деле вернули в детдом, бывший неподалеку от областного города. И он вернулся в свой монастырь даже с радостью, поскольку там оставался беспризорный подопечный мальчишка Аркашка, у которого Сударев был наставником. Когда расставались, Лида неожиданно вынесла из дома свою большую перьевую подушку и стесняясь, сунула в руки.
– На память. – шепнула она. – И чтоб сны смотрел…
Однажды Сударев пожаловался, что подушки в приюте ватные, комковатые, он отлеживает на них уши и совсем не видит снов.
Но это усыновление оставило не только фамилию и детскую обиду на несостоявшееся семейное счастье; на всю жизнь осталось воспоминание о первичности того, что происходило жарким летом в леспромхозовском поселке. И это навсегда избавило его от чувства сиротства. Чего бы потом он не касался, даже самых сложных отношений между людьми, все они были прямо или косвенно связаны с его детскими впечатлениями, когда он был братом Лиды, хотя их трудно было назвать братскими. Она не только тайно от родителей подарила подушку на прощанье, и он стал мечтать, лежа на ней; она научила Сударева читать и писать, и он всю жизнь потом писал ей письма, называя ласково – сестрицей.