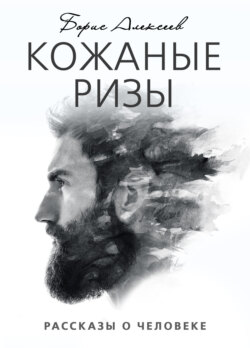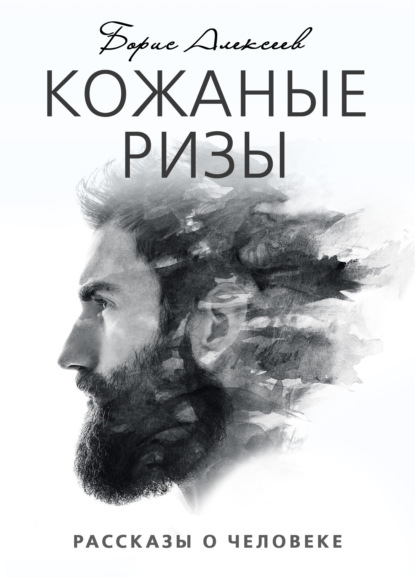Борины грёзы
Мальчик неполных двенадцати лет сидел перед экраном телевизора и страдал от чувства «ужасной непоправимости». Мальчика звали Боря, и ему хотелось умереть. Однако огромная любовь к маме препятствовала исполнению этого страшного замысла. Ведь если он умрёт, мама непременно огорчится и даже заплачет.
Провожая отца в командировку, Боря обещал маму беречь и не доводить до слёз. Значит, по-мужски говоря, умереть он просто не имел права. Но как и ради чего жить дальше?!
Ответить на этот вопрос мальчик самостоятельно не мог, оттого всё более падал духом и ввинчивал детские кулачки в сырые припухшие от слёз глазницы.
– Боря, не три глаза! Что случилось? – мама бережно отслонила руки сына от заплаканного лица.
– Мама, три… три…
– Боря, успокойся, пожалуйста, и не три глаза! – повторила обеспокоенная мать, добавив нотку строгости в голос.
– Мама, три…
– Что «три»? Объясни, наконец, что случилось?!
– Мама, три… н-ноль, мы проиграли 3:0! Мне страшно, мы проиграли!
– О господи!..
В тот памятный вечер команда российских мастеров кожаного мяча проиграла малоизвестной сборной Уэльса со счётом 0:3. Для Бори полуторачасовое позорище нашей национальной сборной стало худшим периодом всей его двенадцатилетней жизни среди людей.
К такому повороту судьбы он был не готов. Дело в том, что Боря «с детства» увлекался футболом и мечтал стать великим футболистом. Как правило, такие мальчики посещают футбольные секции и спортивные школы. Но наш маленький герой об этом как-то не думал. Само прикосновение к мячу окрыляло его мечтательную натуру, и он часами гонял в полном одиночестве по двору коричневый ниппель, представляя вереницу окон дворового колодца как эллипс большой арены в Лужниках или, на худой конец, мадридский «Сантьяго Бернабеу»[1].
Однажды, уезжая в командировку, отец снял на лето для мамы с Борей дачу в Подмосковье. Как только они всем семейством вошли в дом и распаковали вещи, Боря отыскал в коробках мяч и отправился за околицу. На подъезде к деревне он приметил за длинным старым коровником футбольные ворота.
Деревенский футбольный пятачок оказался вполне приличным местом для статусной игры. Боря по привычке предложил капитанам обеих команд жребий. Его возлюбленной команде «Торпедо» достались правые ворота и привилегия первого удара по мячу. Игра закипела. Стрельцов отдал продольный пас Воронину. Тот в одно касание перевёл мяч на Гершковича. Молодой мастер, сверкнув дриблингом, обыграл подряд трёх защитников противника и был готов пробить в дальнюю девятку, но вдруг услышал за спиной насмешливые голоса деревенских пацанов:
– Эй ты, толстый, ворота не сломай!
Я совсем забыл сказать, что Боря действительно был упитанным мальчиком. Слава Богу, в одиннадцать лет едкие насмешки ещё не ранят глубоко и нестерпимо больно, как в последующие юные годы.
Боря попытался обернуться, но споткнулся о кочку и кубарем покатился по траве. Когда он встал, ребята уже подошли и с любопытством принялись рассматривать новичка.
– Ты чё, футболист? – спросил высокий рыжий парень с лицом, покрытым множеством маленьких коричневых конопушек.
– Да, – ответил Боря, – я занимаюсь.
Зачем он соврал? Быть может, первый мужской звонок прозвонил в его сердце, сработав на опережение неторопливого времени жизни? И от этого ему захотелось казаться большим и сильным в глазах этих мальчишек…
– А где занимаешься?
– В «Торпедо»! – Боря врал всё твёрже и естественней. Наверное, «кто-то» нашёптывал ему, подтрунивая над мальчишечьей гордостью: «Ну, давай, давай, покажи им себя!»
– А за деревню будешь играть завтра с дунинскими?
– Буду. Меня зовут Боря.
Парни чинно пожали друг другу руки. На том и расстались.
Всю ночь Боря ворочался на старой железной кровати. Мысль о том, что завтра первый раз в жизни он выйдет на поле не один, страшила и увлекала его одновременно. Настал час, когда должна проявиться филигранная техника, которую он поставил за годы тренировок «на многих стадионах мира». Дни напролёт работая у стенки, Боря обучил себя технике приёма мяча и точному пасу в одно касание. Ах, сколько всего необыкновенного привиделось его памятному сердцу!
…Лужники, мёртвая тишина трибун, он готовился бить то самое роковое пенальти. Разве можно забыть тысячеголосый рёв восторга, когда минуту спустя он покидал игровое поле после победного гола в ворота сборной Испании!
Да что там Лужники, помнится, год спустя на Уэмбли… Веренице воспоминаний не было конца. Но пропели первые петухи, и в рубленое окошко над Бориной кроватью впорхнул первый солнечный лучик.
…Команды выстроились в центре поля для приветствия. Всё было по-настоящему. Судья, крепкий мужчина в спортивном костюме, метал жребий в окружении двух капитанов. Приглядись, читатель, внимательно приглядись! Один из капитанов… наш Боря! Да-да, он произвёл на деревенских пацанов неотразимое впечатление, и судьба капитанской повязки была решена. «Веди нас, Борис, к победе!» – съёрничал голкипер Вовка. «Победа, победа!» – хором закричали ребята, и Боря закричал вместе с ними, воинственно поднимая руку, украшенную красной капитанской лентой.
Раздался свисток судьи, матч начался. Команда Бори при каждом владении мячом играла только на него. Все с нетерпением ждали, что «Торпедо» вот-вот покажет столичный класс и накидает дунинским покуда-некуда. Но игра у Бори с самого начала не заладилась. Ему, привыкшему без помех контролировать ситуацию и распоряжаться мячом самостоятельно, на каждом игровом пятачке мешал соперник. Из-за этих дурацких помех отточенная техника «столичного торпедовца» распадалась на груду не связанных друг с другом экспромтов и телодвижений. Мяч, который должен был катиться прямо под ногу, от чужого касания вдруг менял курс и переставал слушаться. С каждой следующей минутой товарищи по команде всё реже в игре примечали Борю и всё чаще организовывали атаки друг с другом.
Перед концом первого тайма дунинцы ломанулись по центру, вышли к штрафной, и кто-то не слишком прицельно пробил по воротам. Мяч взвился в воздухе, чиркнул о Борину ногу, изменил направление и влетел в ворота родной деревни…
Капитан «дуняшек» подскочил к Боре и демонстративно пожал ему руку под хохот и свист дунинских болельщиков.
– Замена! – прокричали со скамейки запасных.
К Боре подбежал тот самый рыжий парень и, немного смущаясь, сказал:
– Борь, мы тебя меняем. Ты уж того, отдай повязку.
Боря механически развязал красную капитанскую ленту и пошёл с поля под оглушительный свист болельщиков обеих команд. Да, в Мадриде, помнится, всё сложилось иначе…
После ухода Бори игра выровнялась, подуставшие дунинцы всё чаще проваливали оборону и к концу матча действительно отхватили от беляковцев покуда-некуда.
– Вот что значит вовремя удалить слабое звено! – умничал после матча голкипер Вовка…
Когда Боря вернулся домой, мама весело спросила сына:
– Как сыграли?
Боря, не говоря ни слова, полез на печку. Женщине показалось странным его молчание. Она переспросила:
– Так как же сыграли?
Боря уткнулся в подушку и приготовился зареветь. Однако щебетание матери успело отвлечь его от горестных воспоминаний. Он вдруг почувствовал, что житейская несправедливость, случившаяся с ним, как-то сама собой утишилась и больше не ранит его человеческое самолюбие. Жжение в груди почти прекратилось. Он приподнял голову и даже попробовал улыбнуться.
Подошла мама. Она хотела что-то сказать, но сын ладошкой прикрыл ей губы и прошептал:
– Мама, родненькая, не трогай меня, я расту…
Два дня на деревне
Читатель добрый, выслушай рассказ московского интеллигента о двух удивительных днях, прожитых им в глухой рязанской деревне на топких Мещерских болотах. История эта записана мною на диктофон с его собственных слов и положена на бумагу без какой-либо редакторской правки. Поэтому возможные недостатки изложения лично ко мне как стенографу не имеют никакого отношения.
– Каждому человеку сопутствует та или иная среда, – Алексей Петрович выбил о фарфоровую пепельницу потухшую курительную трубку и достал из кисета свежую щепотку табака. – Попомните мои слова, юноша, среда – штука полезная! Она, словно определённый состав воздуха, ласкает наши лёгкие, освежает ум, подбирает под нас плотность и давление. Мы этого, как правило, не ценим и погружаемся в параллельные среды, кто из любопытства, кто из страха перед собственным будущим. Повадки чужой среды вскоре убеждают нас в лицемерии ожидаемых преимуществ, и мы возвращаемся обратно. Возвращаемся, увы, с потерями. Однако, – Алексей Петрович замер в обворожительной улыбке, – бывают счастливые исключения!
Он долго раскуривал трубку, попыхивая и вдыхая носом первые ароматные дымы. Мне даже показалось, что наша беседа окончилась и я напрасно высиживаю хозяйское время на гостеприимном велюровом диване. Но вот жерло трубки разгорелось, Алексей Петрович протёр носовым платком испачканные в табаке руки и продолжил:
– Так и я, задумал сменить благополучие городского очкарика на обычаи «милой старины», пожить пару дней без интегралов за утренней чашечкой кофе и без рюмки «Путинки» перед обедом в университетской столовой. Короче, сменить привычную среду обитания на иную – шершавую, гулкую, росистую. И, что греха таить, мне это удалось! Вы, конечно, возразите: результат эксперимента опровергает мою же теорию. Да, опровергает. Но опровергает диалектически. Да-да, юноша, диалектика сильнее нас! А теперь слушайте.
Жила в старой деревеньке Колосово на краю глухого Мещерского болота женщина. По выходным дням ездила она торговать ягодой на Егорьевский рынок.
Как-то я оказался по делам в этом непримечательном городке. Зашёл на рынок поглядеть, чем торгуют. На рядах разговорился со статной торговкой. Видная, величавая, она вела речь умно и просто. Более всего приглянулись мне её глаза – голубые, как бирюза. Познакомились. Я, шутя, взял адрес. Переписывались какое-то время, потом реже, потом и вовсе перестали.
Шли годы. Время от времени мне как разумному человеку приходилось испытывать так называемые периоды размытых смыслов. Хлопотное, скажу вам, юноша, состояние! Этакий коктейль из безразличия, бессилия и тягостного ничегонепонимания. Плывёшь по волнам времени, как записная бутылка, брошенная за борт. Родной корабль утонул, а чужой – когда ещё встретится…
В период очередного внутреннего нестроения вспомнил я о моей милой эпистолярной «подружке». Дай, думаю, напрошусь в гости. Может, подскажет что, посоветует, как быть.
Написал письмо и, не дожидаясь ответа, отправился на автовокзал, примет – не примет. Купил билет, подарки, сел в роскошный автобус «Москва – Касимов», и покатила меня судьба в заповедный край Мещера́, на паустовские охотничьи угодья да к есенинским журавлям!
Место досталось у окошка. Так я в него четыре часа без перерыва до самой Рязанской области глядел, всё Россию наблюдал. Почитай, первый раз от того давнего егорьевского дня случилось мне смотреть на Родину не с университетского балкона.
Попомните мои слова, юноша: полезное дело – Родину в пути наблюдать. Встречный ветер мысли ворошит, налипшую перхоть с полушарий сдувает – как не было. Весело становится на душе, будто в крещенской проруби искупался!
Тем временем автобус покинул княжество Московское и, охая запотевшей гидравликой, въехал в пределы княжества Рязанского. Километров через десять комфортабельный икарус, вырулив на небольшой лесной лышачок, остановился.
На пробитом дробью указателе значилась полустёртая надпись «Ханинская школа». Судя по гулкой тишине округи, прежней школы давно здесь не было, и всё, что от неё осталось, умещалось в дырочках указателя.
Ощущая себя незваным космическим пришельцем, я покинул уютный салон икаруса и ступил на девственную рязанскую землю. «Межпланетный аэробус» лязгнул за моей спиной раздвижными ставнями дверей, выдохнул, как бы прощаясь, избыточное давление и, ухая гидравликой на выбоинах «млечного пути», весело исчез за поворотом. Я проводил его взглядом, сложил поклажу у ног и с упоением вдохнул густой настой «фирменной мещерской можжевеловки»…
Через мгновение, задыхаясь и отчаянно кашляя горлом, мне пришлось сплюнуть не меньше сотни комаров, набившихся в рот при вдохе. Увы, с этого непредвиденного осложнения началось моё трогательное знакомство с хвалёными мещерскими ароматами.
Мои брови невольно поползли к переносице: откуда, скажите на милость, горожанин мог знать, что июнь (я отправился в путешествие тринадцатого июня) – это пик «комариной вакханалии» на Мещерских болотах?..
Моё дорожное хозяйство состояло из рюкзака и двух тяжёлых сумок с подарками и продуктами на неделю вперёд. Жмурясь, я стёр ладонями плотный слой налипшей на лицо комариной кожицы и хотел было поднять вещи, но колкий миллениум тотчас заново отформовал мою голову.
И тогда я понял всю меру собственной беспечности! Идти с занятыми руками сквозь вязкий комариный улей, казалось, немыслимо. Что делать? Ждать обратный рейс – долго. Да и дождусь ли? Съедят!
По карте до поселения Колосово мне предстояло топать шесть километров через два болота и две деревни. Как грамотный человек, я подсчитал: пять литров крови эта немилосердная свора выпьет на первом же километре.
Не помню, что упокоило трепет моего сердца. Но, в последний раз смахнув колкую кожицу с лица, я «прорычал» закрытым наглухо ртом: «Делайте, что хотите!» – поднял сумки и «лосиным шагом» направился к ближайшему на карте болоту, произнося своими словами совершенно не знакомую мне молитву.
Стоит ли описывать ощущения человека, идущего по лесной просеке со взъерошенной и монотонно шевелящейся «копной» поредевших за долгую жизнь волос?
Мои распухшие, заплаканные от укусов и бессилия глаза отказывались считывать картографию. Оттого я шёл практически наугад, чувствуя вспотевшей спиной холодок наступающего вечера.
Наверное, Бог услышал мой молитвенный экспромт и пожалел несчастного пилигрима. Иначе как объяснить появление спасительной телеги в тот самый момент, когда моё тело привалилось к упавшему вдоль дороги дереву, не имея больше сил ни идти, ни плакать.
– Садись, родной! – услышал я хриплый человеческий голос и скрип притормаживающей старой телеги. – Эка тебя! – весело прибавил старичок-возница. – Ничего, в нашей торфяной водице купнёшься – враз полегчает!
Чувствуя себя наполовину спасённым, я поглядел на возницу. Меня озадачила его лёгкая открытая рубашка.
– А вы что, комаров не боитесь? – спросил я.
– Не-е, они своих не жалют! – ответил возница и, узнав, что мне надобно в Колосово, переспросил: – А табе там кого?
Я ответил, что иду до Ефросинии Макаровны, а приехал из Москвы, на несколько дней.
– Эх, Фросиния, радость-то наша… Помёрла она, поди, скоро год будет, как помёрла, – вздохнул старик, потом обернулся ко мне и сказал: – Так это табе она всё письма писала? Три напишет – одно отправит. Я ей говорю: «Ты чего бумагу-то портишь зазря?» А она мне: «Да я для себя пишу, так на душе легче, а в Москву шлю, чтоб не забывал. Хоть и городской, душа у него живая, родниковая!» Прям так и сказала: «родниковая». – Старик на минуту замолчал, видимо что-то соображая в уме. Потом оживился: – А хошь, поживи в ейном доме, я-то за ним уж год как приглядываю.
Телега въехала в старую, полуразвалившуюся деревню. Домишки напоминали танки, подбитые в захлебнувшейся восторженной атаке. Печные трубы, как жерла танковых орудий, то тут, то там торчали из расштопанной бревенчатой брони. Посеребрённые временем венцы вросли в землю и медленно умирали, безнадёжно цепляясь друг за друга.
– Приехали, – возница не по-стариковски легко спрыгнул с телеги, – заходи!
Я вошёл в полутёмную, освещённую багровым солнцем горницу.
– Вот тута она и жила, – старичок затеплил лампаду. – Света нет, почто он теперь. Располагайся, а я пойду. Если что, вона мои окна, супротив.
Он вышел. Я остался наедине с памятью о Ефросинии Макаровне, былой хозяйке скромного деревенского пятистенка.
В сенях обнаружилось полное до краёв ведро с водой. «Ужели так и стои́т? – подумал я. – Может, Ефросинюшка воду-то для меня набрала?» Заметив, как мой язык стал, вторя старику, «то-окать», я усмехнулся и сунул голову целиком в ведро. Вода с шумом брызнула за края, обмочив одежду. Действительно, зуд от укусов быстро успокоился, и ко мне вернулось приподнятое любопытное расположение духа. Я распечатал сумки и не торопясь накрыл стол. Как путник после долгого подъёма в гору ощущает великолепие вершины, так и мой дух, одолев дорожные неурядицы, отделился от немощной плоти и блаженствовал, глядя на предстоящий нехитрый ужин.
Утолив голод, я разрешил себе осмотреть Фросино жилище. На подзеркальнике нашёл среди каких-то пузырьков множество листов старой бумаги, исписанных крупным ломаным почерком. Это были те самые неотправленные письма, о которых говорил старик. Сердце моё сжалось от мысли, что Фросину тайну я вот так запросто разглядываю, отнимая «право собственности» у смертельного забвения. Верно ли?
Вскоре глаза мои стали слипаться. Не раздеваясь я повалился на старый пружинистый диван и уснул, накрывшись голубым Фросиным пледом.
Наутро меня разбудил старик. Он сидел за столом и разливал из чайника по кружкам кипяток. «Ну, будись, Ляксей, рыбалку ты ужо проспал, а на могилку Ефросинии свожу», – сказал он, прикусывая единственным зубом большой кусок сахара.
Мы вышли на околицу. Комары не так донимали, как давеча, видать ужо, приглядели и меня. На церковном погосте среди покосившихся оградок старик отыскал Фросину могилку. Скупая табличка озадачила меня. Может, солнце, стоявшее почти в зените, перегрело мне голову или живительный мещерский воздух распеленал рассудок, но поверх таблички привиделись мне Фросины письма. Рядом с крестом в больших дорожных корзинах алела ягода лесная, а над корзинами густые комья комаров жужжали, как рой пчёл: «Ф-ф-фрос-с-я…»
Могильные видения сковали мои отяжелевшие ноги, я привалился к упавшему стволу большого дерева и едва не потерял сознание. «Да, славная была женщина», – вздохнул старик, приняв мой обморок за проявление чувств.
В тот же день я уехал в Москву. Старик подвёз меня к тракту и стоял до прибытия автобуса.
Привычным холодком лязгнули складные двери. Мы обнялись.
– Приезжай ещё, эка мы с тобой! – нарочито весело сказал мой провожатый, морща лицо в сторону.
– Приеду, Макарыч, обязательно приеду! Теперь прощай, – ответил я уже с подножки автобуса.
Помнится, тем же летом я действительно вернулся в Колосово. Старик был несказанно рад. Мы подолгу сиживали во Фросиной горнице, пили чай, вспоминали хозяйку. Дружба наша росла. В этот и следующие приезды мне всё меньше хотелось возвращаться в Москву. Наконец я взял в университете работу на дом, прервал преподавание и поселился во Фросином доме, купленном за гроши у моего нового друга Макарыча, родного брата голубоглазой русской женщины Ефросинии.
Фёдор
Затемно, часов около пяти утра, во двор, где, согласно прописке, проживал четырнадцатилетний гражданин деревни Колосово Фёдор Петрович Ремизов, явилась молоденькая барышня. Гостья поднялась на крыльцо и постучала в дверь. Не получив ответа, внимательно оглядела дворовые постройки, может, перепутала что – дом не тот или страна? Да нет, вроде правильно: Россия, Рязанская область, Клепиковский район, деревня Колосово, изба с тарелкой для телевизора – всё сходится…
Вечером прошлого дня по каналу «Культура» крутили классный фильм. Мать, устав от дел, дремала на диване, а Федя всё смотрел и смотрел. Уж очень ему хотелось знать, чем закончится история про дельфина Флиппера. Уснул за полночь. И теперь, свесив с лежанки худые и длинные, как вёсла, ноги, он сосредоточенно посапывал, досматривая очередное утреннее сновидение.
Снилось Фёдору вот что.
…Мчится он под парусом на быстроходной яхте за весёлым Флиппером. Море штормит! Огромные волны, похожие на океанические айсберги, то тут, то там устремляются в небо. Голова кружится от высоты их пенистого взлёта.
С грохотом, похожим на рёв сказочных исполинов, они возвращаются и выгребают под собой морскую пучину до самого дна. Пошарив пенными загривками по донным фарватерам и сусекам, они вновь устремляются вверх.
Вот яхта Фёдора взмыла на тучный гребень волны и поравнялась с дельфином. «Держи канат, я швартуюсь!» – кричит Федя, но за грохотом волн весельчак Флиппер не слышит его. «Уйдёт, уйдёт же!» – досадует юноша, пытаясь разглядеть дельфина в штормовой пляске волн…
А где-то там, на берегу, в безопасных чертогах утра первый лучик мартовского солнца прошил тусклое серебро Фединой горницы. Дробясь в узорах тюлевой занавески, он рассыпался на сотни тонких золотых нитей. И завертелось канительное[2] дело! Белёный потолок, печь-мазанку, зеркало с напольным подзеркальником – всё переплели золотые нити. Каждую паутинку, каждую пылинку пересчитали. Даже Федины ресницы золотыми сапожками вытоптали. Уж какой тут сон.
Пробудился Фёдор, глядит – утро на дворе! Он спрыгнул с печи и подсел к окошку. А там!..
Весёлая, размалёванная клейкой зеленцой девица опрометью носилась по двору, дразнила «присевшие на задки» коричневые сугробы и щебетала по-птичьи: «Чик-чирик, чирик-чирек, тает-тай под солнцем снег!..»
– Во даёт! – зачарованно улыбнулся Федя. – Ма, весна на дворе! Глянь, чё творит суматоха!
Двор, возбуждённый присутствием молодой симпатичной барышни, блистал приусадебным великолепием. Куры поднимали фонтаны брызг и беспорядочно носились по лужам. Обычно спокойный пёс Обама буянил на цепи и жалобно скулил. А жирные гуси, откормленные за зиму отварным картофелем, как голуби, расселись по жердинам поленницы и немилосердно крекали, заглушая скулёж Обамы.
Фёдор принялся пересчитывать кур. Он досчитал уже до половины, как из сарая выбежал телёнок Туск, распугал птицу и сбил пересчёт. «Ах ты, Туск-рогатик!» – юноша погрозил ему пальцем и сладко зажмурился.
За долгую зиму он отвык от солнечного тепла. «Светит, но не греет», – любил он повторять, вглядываясь в холодное зимнее светило. Но сегодня!.. Сегодня Федя, как мамин любимый кот Эрдоган, ластился к окошку, переполненному лучистой теплотой мартовского утра.
– Сынок, вставай, пора уже! – мать заглянула из кухни в горницу. – Ну вот и молодец. Принеси мне воды.
Федя послушно громыхнул вёдрами и отправился на колодец, по пути сочиняя стишок на тему вчерашнего урока химии:
Матушка дала ведро:
– Федя, принеси воды.
Десять литров аш-два-о
Надо, только и всего!..
Примерно через час, перекусив и выполнив ещё несколько материнских поручений, Фёдор вышел из дома и через ухабистые февральские заносы направился в сторону старого коровника. Идти было трудно. Ноги проваливались в подтаявший снег. Юноша то и дело застревал среди коварного месива, будто на болотистых кочках-плавунах.
Когда продвигаться вперёд стало и вовсе невозможно, путешественник выбрался на твёрдый пятачок и огляделся. Невдалеке на щупленькой берёзке висела привязанная сборщиком сока пластиковая бутылка.
– Что, больно? – спросил Фёдор молодое дерево.
– Очень! – колыхнулся в ответ сырой мартовский воздух.
Ответ юношу озадачил и развеселил одновременно.
– Так ты проснулась?! – Федя выпрямился, вдохнул полной грудью «весеннюю озоновую распутицу» и закричал: – Сволочи, ей же больно! Слышите, ей бо-ольно!
От пронзительного крика, похожего на клик дельфина, с ветвей розового березнячка в небо вспорхнула стая галок.
Фёдор подобрался к дереву и вытащил злосчастный прутик из расщелины ствола.
Теперь предстояло вернуться домой, но промятые в сугробах следы уже заполнила зажора, а надеть высокие калоши Фёдор, выбегая из дома, запамятовал.
«Крепись, Флиппер, скоро берег!» – рассмеялся он, припомнив песенку Олега Митяева про лето. Морщась от уколов ледяной ряски, он пошёл напрямик, набирая с каждым шагом всё больше воды в старые отцовские сапоги.
Вот и дом. Покуда мать возилась на кухне, юный путешественник прокрался за печку и наконец разулся. Бросив мокрые голенища под лавку, он впорхнул на лежанку и закутался в тёплое стёганое одеяло.
– Ты где был-то? – спросила из кухни мать.
– Весну навещал! – ответил Фёдор и закрыл глаза.
Ступни ног оттаивали и возвращались к жизни. Капли испарины, как первые капли тёплого грибного дождя, выступили на лбу юноши. Он засыпал, вернее, уплывал в открытое море, подобно отвязавшейся лодке, гонимой ветром.
…В мороке утреннего тумана Федя разглядел спасённую им белоствольную берёзку. Она скользила по воде вровень с корпусом лодки и повторяла, улыбаясь Фёдору своей нежной розовой улыбкой: «Спаси Бог, Феденька, спаси тебя Бог!»[3] Её голос походил на клёкот дельфина Флиппера из фильма, что вчера крутили по «Культуре».
Воспоминание заставило юношу обернуться. Он увидел заснеженный двор, за ним – соседские посады и околоток. Холодное солнце медленно поднималось над дальним лесом.
– Ах, Федечка, – лепетала берёзка (теперь голосок её был такой же в точности, как у весёлой утренней гостьи), – матушка Зима, поди, ищет нас. А нам-то возвращаться никак нельзя. Ты греби, греби!..
- Белые чайки, белый маяк
- Неглубокие следы
- Кожаные ризы
- Сегодня я – Пит Доэрти
- Кажется, я победила
- Жена
- Радио Сахара
- Хранитель ящика
- Пять ржавых кос
- «Американка» и другие рассказы
- Отброшенные в Африку
- Непридуманное
- Дельфин
- Чтобы не было одиноких..
- Исцеление инженера Погодина
- История одной проститутки
- Танцующий на граблях