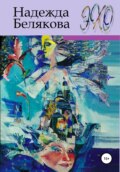000
ОтложитьЧитал

Глава первая
«Отделение виолончели» – шутили друзья «не разлей вода», Вася и Лёва, каждый раз посмеиваясь, когда проходили мимо дверей класса со старинной табличкой «Отделение виолончели». Эта шутка вошла у них в привычку с тех пор, когда еще лет в тринадцать, они, заглянув в класс виолончели, увидели, как будущие виолончелистки держат виолончель во время игры. И одновременно оба мальчишки выкрикнули:
– Хочу быть виолончелью!
В тот день эти двое подростков – учеников художественной школы – зашли в соседнюю часть здания старинного особняка, где зеркально их «художке», как называли ученики между собой художественную школу, находилась музыкальная школа. Они забегали туда во время уроков, чтобы, пока все на уроках в классах, тайно покурить, пробежав на чердак по черной, чугунно кружевной, литой лестнице – работы самого Жилярди. Она была прекрасна, даже в своем отнюдь не музейном состоянии, привычно замызганной, как любое советское учреждение 70-х. Обе школы с отдельными входами: художественная и музыкальная соседствовали в двухэтажном особняке 18 века. Этот прекрасный изящный особняк принадлежал когда-то кавалергарду Алексею Охотникову, по преданиям возлюбленного венценосной супругой одного из российских императоров. Исторические слухи об этом романе стали неотъемлемой частью красоты этого особняка, как лепнина и изысканность архитектуры этого особняка и какой-то незримой явью, подобно тому, как храмы должны быть намолены, так стены художественной школы должны быть налюблены. Да и могло ли быть иначе в художественной и музыкальной школах под общим высоким стеклянным куполом, украшавшим концертный зал этого здания.
Занятия в обеих школах – в художественной и в музыкальной – начинались после уроков в общеобразовательной школе – в 16 часов. Так что школьники успевали до начала уроков забежать между двумя школами в магазин, чтобы купить там пакет молока с булочкой, потом шли в тенистый внутренний дворик школы на свой перекус. А некоторые сочетали перекус с запретным перекуром. И, если оставалось еще немного времени, Васька и Лёвка успевали заглянуть и в соседний подъезд музыкалки.
Их всегда смешило то, что ученицам отделения виолончели, чтобы играть на виолончели, приходится так эротично, широко раздвинув ноги, удерживать виолончель. Начало 70-х годов – времена взлета мини-юбок. И виолончель в сочетании с мини-юбкой не оставляла равнодушными сердца подростков, тем более – юных художников.
Поэтому, проходя мимо класса с табличкой «Отделение виолончели», мальчишки привычно заглянули в полуоткрытую дверь с готовностью к впечатлениям и желанием отвлечься на любимую тему – успеть до начала уроков сорвать все свои «цветы зла» – и покурить, и посмотреть на виолончелисток.
И Васька, и Лёва всегда заглядывали в класс виолончели и по-мужски нагло, оценивая внешность и привлекательность той или другой девочки из музыкальной школы, произносили их дружеский пароль: «Хочу быть виолончелью!» Выставляя интонациями оценку на этом конкурсе красоты, в котором они сами себя возвели себя в ранг жюри. То, как они произносили на разные голоса свой пароль, награждая или милуя их «Королеву Красоты», в этот день и было оценкой. Впрочем, бывало, что порой безнадежной двоечнице на их конкурсе, но блистательно и виртуозно исполнявшей в этот момент к радости преподавателей какой-нибудь бессмертный шедевр мировой классики, доставался безжалостный приговор мальчишек: «Не хотел бы я сегодня быть виолончелью!»
Привычно хохотнув перед дверью с табличкой «Отделение виолончели», Васька замер. В полуоткрытой двери он увидел, как играла на виолончели новенькая. Ее стройные ноги были обуты в красные туфельки на «школьных» каблучках с тонкой перепонкой, украшенной с боку пуговкой. Обычно это первые туфли на каблуках, которые придирчиво выбирают, прежде чем купить, заботливые мамы, с легкой грустью понимая, что раз настала пора покупать доченьке первые туфельки на каблуках, скоро придут в уклад их жизни перемены, связанные с тем, что дочка выросла. Длинные ноги этой новенькой по бокам школьной виолончели – битой, исцарапанной учениками, но все еще хорошо звучащей виолончели. Было в них что-то от изящных прописей и мучительных каракулей в тетрадке первоклассника, полных его усилий приблизиться к эталону заданного росчерка.
Словом, стройные ножки новенькой, такие, на которых женщина входит в мир мужчины, чтобы царить в нём, приковали Васькино внимание.
Она подняла голову и посмотрела на шкодливо замерших в дверях мальчиков.
И, продолжая заученно играть, но явно замедляясь, она сбилась с такта, издавая звуки, скорее напоминающие затихающий сигнал старого парохода со стоном и скрипом, чем музыку. Она засмотрелась на Васю долгим взглядом задумчивых карих глаз.
– Освежите меня яблоком… – пронеслась у Василия в голове строка из «Песнь песней».
– Хочу быть виолончелью! – услышал Васька Лёвкин голос и неожиданно для себя самого – озверел. Не отрывая взгляда от неё, Василий сгреб свитер Льва в свой злобно сжатый кулак и с силой мотнул его. Хрупкий, с тонким профилем, в ниспадающем на плечи потоке черных кудрей, похожий на лицеиста Пушкина, Лёвка вскрикнул от неожиданности, но тотчас сообразив, что к чему, захохотал над другом.
Отвернувшись от ученицы, старенький раздраженный преподаватель подошел к высокой двери с табличкой «Отделение виолончели» и резко захлопнул её перед мальчиками.
Вася разжал кулак, отпуская Лёвин свитер, в досаде опуская руки, и роняя портфель.
– Эй! Васька! Очнись! На урок пора! И так опоздали, – толкнул его Лёва.
– Нет, не пойду. Тут ждать буду, – ответил Вася, поднимая портфель и прислушиваясь к тому, как за захлопнутой дверью опять пытается играть эта новенькая «Письмо к Элизе». Там, за закрытой дверью, словно это тайный знак ее приветствия и его надежды. Но вскоре у дверей художественной школы он всё же догнал Лёвку. И они вместе вернулись в свой класс на урок живописи.
Этой зимой в его учебе, да и в самой его судьбе произошли события, которые вытолкнули его с берега ученичества в распахнутую стихию творчества. И, по-прежнему посещая «художку», как называли школу все учащиеся, он сам безошибочно ощутил, что собственно жизнь художника бесповоротно началась для него, нахлынула, увлекая его – пугающее, маняще и неотвратимо.
Всё сплелось и переплелось само собой с того дня, когда друг его матери – Марины Павловны, художник и завсегдатай мастерской Элия Белютина, имя которого с 60-х до конца семидесятых было знаменем авангарда в нашей стране, поехал с Васей в Абрамцево с толстой папкой его рисунков, чтобы показать его рисунки и живопись мастеру – Эллию Белютину. Класс художественной школы, в котором учился Вася, был экспериментальным. И это было уникальным и редкостным везением для тех, кто был склонен к новаторству и бунтарству в искусстве, но в формате «Эзопова языка» или «фиги в кармане. А тема бунтарства в те годы развернутого социализма периода «застоя» буквально царила во всех жанрах и видах искусства, как противовес узким рамкам официального искусства. Класс вел совсем молоденький преподаватель, всего пару лет назад окончивший Педагогический институт. Он на свой страх и риск приносил в самые жесткие времена цензуры советского застоя альбомы Пикассо и Брака, Малевича и Шагала, даже Кандинского. Которые, разумеется, не только не входили в почетный круг авторитетов в процессе ученичества во времена тотального приоритета социалистического реализма в изобразительном искусстве, а относились к запрещенному искусству, идеологически чуждому, некоей ошибкой в истории искусств.
И на этих примерах, существовавших далеко за чертой допустимости в тени идеологии железного занавеса советского реализма, молодой педагог-новатор, учил законам композиции и развития динамики сюжета в живописи. Учил не только рисовать и писать, но и восхищаться творчеством художников разных эпох, наслаждаясь диалогам и полифонией звучания, или диссонанса цветовой палитры, рождающих драматургию живописи. И неважно, что рождало этот вихрь впечатлений – любование шедеврами классики, современная иллюстрация, репродукция живописи современных художников, или акварель школьного натюрморта. Он стремился связать в сознании учеников прошлое изобразительного искусства с сегодняшним днём, объясняя ученикам, что в искусстве нет разделения на прошлое и современное, что это единый поток творчества. Лишь высокий уровень мастерства и личный восторг художника является критерием, а не приверженность к рамкам стиля. А в это в то время, в соседних классах художественной школы, ученики честно и заунывно заштриховывали белую поверхность пустоты листа, срисовывая посеревшие от въевшейся пыли гипсовые слепки, со сбитыми носами, словно выполняли совсем иной важнейший урок в искусстве: запредельного терпения и стоической выносливости.
Тоже нужный урок! И потому в тех – «правильных» классах – частенько можно было наблюдать, как ученики или ученицы, приводимые в художественную школу родителями «для общего развития», прикрывшись мольбертом с наколотым ватманом большого формата, пока преподавателя не было в классе, доставали книжку и недоеденный на переменке бутерброд. И, уныло жуя, читали.
А в классе Лёвы и Васи все бурлило. И молодой преподаватель умело и с азартом подливал масло в огонь юношеского горения; ставя задачу не просто написать натюрморт, а осознать его: то в стиле Сезанна, то Брака, то с тщательностью пуантилизма, то с фатальной размашистостью Марка Шагала, чтобы переплавить всей юной горячностью их творческого восторга перед новым, но запрещенным и чуждым современному советскому академизму – в поиск своих средств выражения, своего творческого почерка.
Но окончательный переворот в молодых умах этот талантливый педагог художки произвел, когда, прочитав в журнале «Москва» впервые в нашей стране официально опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита», дал задание прочесть каждому ученику эту журнальную публикацию. Он и сам читал вслух М. А. Булгакова всему классу, пока ребята писали или рисовали, давал по очереди каждому ученику журнал домой с домашним заданием: сделать серию иллюстраций. Эта публикация в журнале «Москва», такая московская, словно изменила цвет воздуха жизни тех дней, раскрыла новое дыхание, наполнив его окрыленностью полета Маргариты над городом.
Но, не смотря на такую невероятную, а тем более по советским временам феерическую творческую раскрепощённость и атмосферу творческого горения, непременного условия в искусстве, Вася почувствовал, что в школе ему стало тесно. Он уже неделю за компанию с Лёвой прогуливал школу, неистово малюя дома а-ля Белютин, на больших ватманских листах, осваивая захватывающий неофигуратив – детище великого мастера Белютина, рассказывая Льву о беседах с мастером. Произнося то, что слышал там, в его мастерской, как магические заклинания названий фаз развития образа – неофигуратив, поднос, хорда, на которые можно опереться и выплыть в океане непознаваемого таинства рождения образности, как казалось им обоим. Мальчишки были поглощены новым увлечением. Встречались они чуть ли не каждый день, ведь уроки в художественной школе были только три раза в неделю.
И Вася рассказывал и повторял каждое слово, услышанное от мастера, дорожа этими сокровенными знаниями и преисполненный горделивой радостью неофита. В комнатке Васи, которая была его мастерской, мальчишки занимались живописью, новым, безумно пленительным авангардом. Стены комнаты были увешаны кипевшим цветом вольнолюбивым неофигуративом, стремящимся преодолеть иллюзию пространств и условностей плоскости листа, ворваться и смазать карту буден.
Они ощущали себя посвященными в некое таинство, дарующие им чудо вхождения в искусство, минуя рутину ученичества. И в поведении их все чаще проявлялось эпатажное бурное противопоставление себя классу, с оттенком мальчишеского зазнайства. Это не могло не огорчать их молодого педагога. Который сам прививал им артистическую эстетику творческого бунтарства, но вместо совместного восторга творческой независимости единомышленников – вне условностей возраста, он оказался в какой-то момент растерян оттого, что обнаружил, что для подлинного бунтарства нужен кто-то или нечто против чего будет направлен весь пыл юной революционности. А поскольку старшим в этой композиции судьбы был он, то и вектор развития, выраженный в «отрицании отрицания», оказался направленным в какой-то момент против него. И, увы, уроки непослушания ему пришлось изучить во всей красе, что, разумеется, обогатило его педагогический опыт.
Ниспровержение авторитета и старшинства педагога проявлялось во всем: начиная от возмутительных перекуров Васьки и Лёвки на чердаке школы во время уроков под благопристойным предлогом: «можно выйти из класса?», до того, что на уроках живописи вместо натюрмортов возникали абстракции и так далее, насколько хватало юношеской фантазии. Все это, быть может, не досаждало бы педагогу-новатору, кабы знать ему, что с годами с большой теплотой и сожалением о той пубертатной браваде, это спустя десятилетия, будет вспоминаться его бывшими учениками, как самые счастливые времена. Но это будет гораздо позже.
Но и для него, учителя, те уроки, вынесенные им из того класса, не только закалили его, но со временем вылепили из него уникальное и прекрасное явление высочайшего уровня в современной педагогике в области изобразительного искусства, подняв педагогику до уровня искусства. Поэтому многие годы спустя он заслуженно был директором этой прекрасной художественной школы.
Мать Василия, Марина Павловна, была довольна, что сын растет именно таким, каким она и хотела его видеть: смелым нонконформистом, не принимающим условностей советского общества. Опрокидывающим своим поведением его устои. Он стал ее идеалом, не подчиняющийся законам совка, в сердце которого «стучит пепел Клааса».
Это был пепел её мести и вызов жизни всей советской обыденности. За то, что с детства в школе в 39-ом году была выставлена учительницей перед всем классом, объявлена «паршивой овцой, портящей всё стадо, с которой никому нельзя дружить! Потому что Марина – дочь врага народа!», чем так напугала ее подружек, среди которых раньше она была веселой заводилой, а теперь они боялись просто посмотреть ей в глаза.
Эта отповедь была вызвана тем, что недавно стало известно, что ее отец – резидент советской агентуры в Японии, работавший в группе Рихарда Зорге, объявлен шпионом японской разведки и расстрелян. А она, дочь врага народа, стояла и улыбалась, в то время как училка, топая ногами, орала на весь класс, время от времени поправляя модную в то время пластмассовую брошь в виде розоватой камеи в отштампованном латунном овале, которой был застегнут застиранный, самосвязанный, кружевной воротничок.
Она кричала:
– Дочь врага народа, шпиона!!! Смотрите – это дочь шпиона! Марина – это позор всей школы!
А Марина улыбалась в ответ не только этому классу, но и всему миру, так жестоко предавшему и убившему её отца, её семью, её детство. Улыбалась, радуясь напавшей на неё леденящей окаменелости, сковавшей её так, что не сдвинуться с места, не сбежать из класса, оторвавшись от черной школьной доски, и не схлопнуть эту спазматическую улыбку, жестко растянувшую ее щеки по горизонтали.
– Только бы не заплакать! Не проявить слабость перед врагами! – вспоминала она слова отца, сказанные им тогда в Японии. Так уговаривала она себя не расплакаться. И чтобы не плакать, вспоминала смешные и радостные мгновения из прошлой жизни. То, как смеялся, держа ее на руках отец, большой, добрый и такой веселый, её папа, там, в Токийском зоопарке, перед клеткой с обезьянками! Она упорно вспоминала это, возвращаясь и вновь мысленно прокручивая самое счастливое своё воспоминание, чтобы, как щитом отгородиться от натиска злой училки, а главное – не дать слезам прорваться сквозь ком и спазм в горле, уже душивших её натиском подступающих рыданий, когда учительница перед всем классом срывала пионерский галстук с Марины, замершей в оцепенении в нечаянно расстегнувшейся белой блузке.
Марина вжалась спиной в черную школьную доску, когда её пионерский галстук красной добычей оказался в цепком кулачке учительницы, вещавшей классу о «врагах народа». А Марина в этот момент, слегка раскачиваясь в стойке «ноги на ширине плеч», перебирала в памяти каждую деталь того самого счастливого в ее воспоминаниях дня, когда их семья жила в Токио. Цветы на ее нарядном детском кимоно. Гримасы и проделки обезьянок за прутьями зоопарка. Теплую щеку отца, с чуть покалывающей её щечку его щетиной, потому что она крепко прижалась к нему, из-за всех сил обвив руками его крепкую шею крестьянина из Орловской губернии, удивительно талантливого парня, легко выучивающего языки и наречия, там, в Японии, выдавшего себя за английского торговца, женившегося на загадочной и недостижимой Аде, с торжественным именем Аделаида Зильберштейн.
Экзотической красавице с густыми бровями и прямыми черными волосами, женщине редкой артистичности, с легкостью перенявшей: и дробную кукольную походку японок, и застывшее выражение чуть удивлённых черных глаз, почти фарфорового лица, благодаря косметике, которой пользовались японки в те времена.
Артистичная Ада так легко имитировала все это, что её принимали за японку. Обычную японку, которая, сжав полураспустившимся цветком пламенеющие пунцовые губки на белоснежном лице, с покорно опущенными узкими темно-карими глазами идет за продуктами для семьи, просто спешащую по домашним делам обычную японку.
Марина, как в укрытии, старалась спрятаться внутри своих счастливых воспоминаний и смотреть мимо кричащей на неё учительницы, с доисторических времен донашивающую самосвязанную кофточку. Марина стойко держалась, потому что знала, что по той же статье были расстреляны и братья её мамы – Аделаиды, тоже – агенты НКВД, а значит, кричать училка будет ещё долго-долго.
А когда смолкнет крик этой учительницы, его, когда Марина вырастет, как эстафету подхватят другие; соседи по коммуналке, начальники, сослуживцы. Все, кто захотят кричать, кричать, кричать на неё, чтобы чуть выше приподняться через это выслуживание по социальной лестнице успеха тех лет.
И поэтому Марина всё сильнее старалась вспоминать, как смешно ловили обезьянки разноцветные леденцы, которые бросал им ее отец. И те разноцветные леденцы звонко ударялись о прутья клетки, и опять летели, и опять ударялись. Такие яркие о черные прутья зверинца. И из глубины её памяти возникала смешная обезьянка, ловящая брошенные ей Мариной леденцы, но опять промахивалась, и все собирала другая проворная рыжая обезьянка. И так много-много раз Марина заставляла себя вспоминать это, чтобы не расплакаться перед всем классом. Потому что если она расплачется, и настоящие слезы потекут по её румяным щекам, значит, всё это тоже – настоящее, и то, что папы, правда, больше нет.