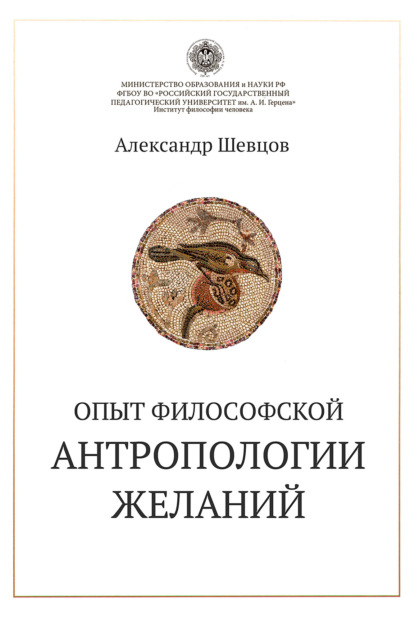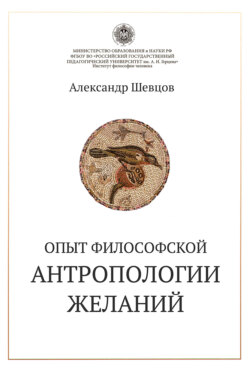
000
ОтложитьЧитал
Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университеТ им. А. И. Герцена»

Институт философии человека
© Шевцов А., 2021.
© Летягин Л., вводная статья, 2021.
© Издательство «Роща», оформление, 2021.
© ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена», 2021.
Desideratum: опыт философской тематизации
Quam multa non desidero!..
M. T. Cicero. Tusculanae
Смысл человеческого самопознания не может лежать вне сферы его устремлений. Именно поэтому философская легализация концепта «желания» не нуждается в своем оправдании.
Антологический способ интегрировать внутреннюю форму понятия в его исторической динамике, сама возможность построения такой модели – особый опыт структурирования. Процесс универсального обобщения всегда индивидуально окрашен и определяется потребностями познающего субъекта. Вместе с тем интенция желания в качестве историко-культурного феномена и мировоззренчески важного атрибута внутренней жизни человека остается явлением далеко не познанным.
Как отмечал Х. У. Гумбрехт, в актах рефлексирующего сознания «одно из самых удивительных свойств жизненного мира – по крайней мере, с точки зрения нашего рассуждения – это то, что люди, вообще говоря, способны представлять себе такие душевные и умственные операции, которые человеческий дух не может выполнять. Иными словами, к содержанию нашего жизненного мира относится образ – и желание – способностей, лежащих за пределами жизненного мира» [3, с. 124].
Объект желания, ускользающий от сторонних оценок, как и «логику желаний, <…> трудно, если не невозможно, “отвлечь” от языка» [5, с. 178]. Именно в сфере языка находит свое непосредственное выражение типология субъектно-ориентированных характеристик желания – как мучительного, смутного, навязчивого, неутолимого, пылкого, пламенного, подсознательного, осознанного, затаенного, сокровенного, заветного, истинного, абстрактного, искреннего, жгучего, неуемного, страстного, честолюбивого, нестерпимого, естественного, необузданного, благостного, пленительного… Из этого неполного ряда эпитетов несложно построить систему значимых ценностных оппозиций, взаимоисключающих экзистенциалов жизненного мира, определяющих сложные механизмы формирования аксиосферы культуры [1].
Отношения желаемого и действительности актуализируются в волевом усилии, расширяющем в сознании поступающего субъекта пределы возможного и должного. Это наиболее универсальный и продуктивный стимул мотивации человеческой деятельности. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «прагматический контекст “извлекает” из модуса желания согласующуюся с ним иллокутивную силу. Модус желания чреват многими производными коммуникативными целями. Последние вытекают из связи желания с волей, а воли с действием: желание относится к отсутствующим ситуациям <…>; оно приводит в движение волю к достижению желаемого, воля же, в свою очередь, заставляет производить действия или побуждать к действию других…» [2, с. 233–234].
Как «запретный плод» и особого рода искушение, «область потенциальных объектов желания» всегда оказывается «шире, чем область потенциальных объектов воли» [5, с. 179]. Желание – это онтологический запрос исторического субъекта, опыт преодоления им экзистенциальной несвободы, способность утвердить личное право на достижение желаемого.
Современные теории универсального эволюционизма представляют развитие Вселенной как единый процесс на основе единства ее законов. Так, Э. Морен говорит о переплетении космофизической вселенной и антропосоциальной вселенной, их взаимодействии и взаимовлиянии. Образ мысли познающего сознания в его попытке оправдания своей неслучайности – это извечная устремленность к «завесе Бытия».
«Что человек есть в возможности, его творение являет в действительности», – утверждал Аристотель. Желание, как и ряд сопрягаемых с ним понятий – «надежды», «хотения», «страсти», «мечтания», «влечения», «намерения», «умысла», – вечные интенции необезличенной поступательности, обозначающие выход за пределы возможного. Это всегда «предельный опыт» отношения к действительности, который обнаруживается за чертой ординара обыденности. Сфера желаемого, как и наличествующие в культуре формы его выражения, – путь постижения и обретения преображенной реальности.
«Самое лучшее для человека, – размышлял в “Тускуланских беседах” Цицерон, – все то, что желанно само по себе, что проистекает из добродетели или заложено в ней самой, что похвально само по себе, что я назвал бы даже не высшим благом, а единственным благом». Из-за «своей слепоты люди, желая самого лучшего, но не зная, ни какое оно, ни где его искать, иные рушат свои государства, иные губят самих себя. Да и само стремление их к лучшему часто оказывается мнимым» [4, с. 137, 155]. Не таковы только «желания, обитающие в сердце», что проясняет, возможно, смысл известного речения Цицерона: Quam multa non desidero – сколь многого мне не нужно.
В какой степени можно говорить, что «человеческий фактор» исчерпал сегодня положительный ресурс саморазвития? В ответе на данный вопрос хотелось бы избежать прямолинейного подхода и возможных риторических оценок. Именно на это ориентирована ценностная ретроспектива философской рефлексии. Поиск в истории мировой мысли действенных точек сравнения всегда поучителен. К этому побуждает и предлагаемая читателям книга – по существу первый отечественный опыт аналитики экзистенциальной антологии желаний.
Л. Н. Летягин, профессор, зав. кафедрой
эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена
Примечания
1. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики: (сб. ст.): 1982 / АН СССР. Институт русского языка / отв. ред. д. филол. н. В. П. Григорьев. М.: Наука, 1984. С. 5–23.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. 2-е изд., испр. М.: Языки русской культуры, 1999. ХV, 895 с. (Язык. Семиотика. Культура).
3. Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение = Production of Presence: What Meaning Cannot Convey /Ханс Ульрих Гумбрехт; [перев. с англ. С. Зенкина]. М.: Новое литературное обозрение, 2006 (М.: Типография Наука). 179, [1] с. (Интеллектуальная история).
4. Цицерон М. Т. Тускуланские беседы / Марк Туллий Цицерон; [перев. с лат. М. Л. Гаспарова]. М.: РИПОЛ классик, 2017. 355, [2] с.: ил., портр. (Pro власть). (Мировой бестселлер).
5. Шатуновский И. Б. Пропозициональные установки: воля и желание // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов: [сб. ст.] / АН СССР, Институт языкознания; отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Наука, 1989. С. 155–185.
Введение
Каким-то совершенно необъяснимым способом наука выкинула из рассмотрения то, что движет всем человечеством и каждым человеком в отдельности, – желания. Психология, которая должна бы иметь желания основой, из которой объясняется все поведение человека, вообще не знает об их существовании, почему вынуждена заменять их иноязычным понятием «мотивация». Если психолог и говорит о желаниях, то случайно и в совершенно бытовом смысле, просто потому, что уж совсем обойтись без них в речи не удается!
Философы чуть чаще обращаются к теме желаний, но только потому, что вся философия прошлого начиная с высокой греческой классики так или иначе была посвящена желаниям и начинала разговор о человеке с них. Да и не только о человеке – даже мифология начинается с того, что в мире возникает до появления богов начало, влекущее и соединяющее, которое зовут Эрос…
При этом отсутствие понятия о желаниях как таковых ведет к тому, что у русскоговорящего философа отсутствует понятийный язык желаний. Все переводы трудов, в которых речь идет о желаниях, случайностны в отношении языка. Даже переводя Платона или Аристотеля, русский переводчик вынужден придумывать свои языковые соответствия, никак их не обосновывая.
Так, основе всех платонических желаний – эпитюмии – было приписано быть на Руси вожделением, хотя это слово не просто неточно передает значение греческого понятия, но и искажает его смысл. Однако как придумано было в 1704 году Ф. П. Поликарповым-Орловым в «Лексиконе треязычном» считать эпитюме вожделением, так никто из философов и не выверил это понятие!
Сами же наши переводчики без малейшего смущения одно и то же греческое слово могут переводить разными русскими словами в разных переводах, а привязав одно русское слово к греческому, в следующем переводе вдруг переведут им совсем другое понятие. Так, к примеру, постоянно гуляют желание и хотение. То переводчики желанием переведут эпитюмию, забыв, что уже сделали ее вожделением, а хотением переведут вулезис. А то вдруг все это меняется местами!
Язык весьма точен при создании слов, особенно когда речь идет не о модных заимствованиях. Даже в бытовой речи полная небрежность в использовании слов вызывает сопротивление языкового чувства. И каждый русский знает, что произнести, скажем, в кафе «я хочу чашечку кофе» естественно. А вот заявить «я желаю чашечку кофе» – это странно…
Быть может, для бытовой речи и допустимо легко заменять одни слова другими, близкими по смыслу, но в философской речи, особенно если в самых началах философии было отчетливо заявлено, что душа человека имеет несколько частей и каждой части свойственны свои качества, включая и свои силы или желания, небрежность кажется не просто странной. Она граничит с непониманием исходных оснований философии!
Задачами этого исследования я ставил себе показать, что во всех основных философских системах Европы, где совершается переход от физики к антропологии и психологии, в основу внутреннего устройства человека наравне с несколькими иными началами мыслителями закладываются понятия желаний, которые рассматриваются в качестве сил души.
Делая желания одними из начал, мыслители древности, следуя за живым языком, привязывают каждый вид желаний к своей части внутреннего устройства человека или его души. В силу этого с этим видом желаний связываются вполне определенные качества, и вся антропология или психология оказываются зависимыми от точного имени желания. И перепутать, скажем, в рамках трехчленного деления души у Платона, эпитюме и тюмос или вулезис – значит просто исказить все учение!
И поэтому я посчитал необходимым попробовать вывести из работ русских мыслителей феноменологию желаний, которые использовались при описании внутреннего устройства человека. Эта феноменология, однако, оказалась весьма путаной, поскольку желания были упущены нашими мыслителями с самого возникновения русской философии, а потому как особый предмет не осмыслялись.
Поэтому, создавая своего рода тезаурус желаний, приходится сверять философские понятия с языкознанием в рамках так называемой языковой картины человека.
Не скажу, что я удовлетворен сделанным, но надеюсь, что антропологам мой еще сырой опыт антропологии желаний даст направление для полноценного поиска.
Забытая часть философии
Философия забыла изрядную часть пути, который проделала. В философии есть много имен, которые забыты, и есть целые науки, которых не помнит никто, кроме историков философии.
Иногда, как в случае с Пневматологией, то есть наукой о духе, или Каллистикой, наукой о красоте, в истории остался вполне осязаемый след, и любой интересующийся может узнать, что такая наука существовала еще в восемнадцатом веке. Но вот узнать, что она из себя представляла, уже непросто, потому что современность не любит тратить деньги на переиздание того, что правящим мнением признается умершим…
То же самое можно сказать про философию воли. Передав в конце девятнадцатого века имя психологии окрепшей психофизиологии, философия, как альма-матер всех наук, передала вместе с именем и несколько принадлежавших ей наук. В частности, философию воли и философию способностей. Но воля была одной из способностей, а способности, начиная с Платона, считались частями или Началами (архэ) души.
Вполне естественно, если философия отказывается от науки о душе и выпихивает ее из своего тела, то все неиспользуемые части Науки о душе забываются за ненадобностью. И так исчезает сразу несколько классических философских дисциплин.
Конечно, наука о воле и наука о способностях вроде как существуют в рамках современной психологии. Но физиологическим методам исследования они не поддаются, а философскими психологи не владеют. Поэтому обе эти науки в рамках психологии забываются и приходят в упадок. В итоге основные специалисты по воле и способностям – академики В. А. Иванников и В. Д. Шадриков в своих итоговых работах в конце прошлого тысячелетия вынуждены фактически заявить, что психологии воли и способностей не состоялись…
Что уж говорить о философской антропологии силы! Или просто о прикладной философии! Последняя трудами французских философов Пьера Адо и Мишеля Фуко хоть как-то стала известна современному философскому сообществу. А вот про философскую антропологию силы сегодня и лучшие философы с удивлением восклицают, что это предмет не философский, а физический!
То же самое произошло и с желаниями. В рамках парадигмы научной психологии им не нашлось места. Несколько лет назад я провел тщательный поиск и не нашел ни одной научной статьи, посвященной психологии желаний. Такого понятия в науке не существует!
А между тем, говоря о трех Началах души, Платон начинает собственно человеческое состояние со способности желать, которое приписывает в рамках трехчленного деления государства, третьему сословию, из которого впоследствии родится буржуазия.
Если вся наша философия есть лишь заметки на полях сочинений Платона, то есть смысл принять к рассмотрению, что собственно человеческое состояние души начинается именно со способности желать. Соответственно, и философская наука о человеке должна бы начинаться с нее.
Очевидно, что и животное имеет способность хотеть то, что ему нужно для жизнедеятельности. Однако эта животная способность просто не может не отличаться от человеческой. Более того, поскольку в нас есть и растительное, и животное начало, эти способности должны существовать вместе, одновременно!
А умеем ли мы их различать? И в чем различия?
Честно признаюсь: я подозреваю, что именно особый вид желаний, зарождающийся в душе человека, и делает его человеком. Похоже, греки это видели, и потому греческий язык обладает удивительным обилием имен для различных видов желаний и их оттенков. Да и в России была весьма развита когда-то философия желаний.
Все это было забыто, но все это не должно быть забыто!
Часть первая
Классические основания философии желаний
Сколь это ни странно прозвучит для уха современного философа, но философская антропология Платона начинается именно с желаний. Исторически Платон, конечно, писал не в этой последовательности. Он начинает с деления души на две части – разумную и неразумную и лишь постепенно выходит на трехчленное деление души.
Вероятно, саму идею желания как начала человеческого способа существования он находит довольно поздно, поскольку она высказывается им лишь в четвертой книге «Государства». Но высказывается так, что, по существу, именно желание оказывается началом человеческого существования, хотя я бы перевел греческое слово «эпитюме» не как «желание» и тем более не как «вожделение», а как «охоту».
В точной передаче охота является для Платона низшим началом, но овладение им с помощью разума дает основу именно человеческой душе. Поэтому, говоря о желаниях, мы остаемся в рамках психологии как основы философской антропологии. Соответственно, эта идея была подхвачена и доработана в своей манере Аристотелем, причем в нескольких работах начиная с трактата «О душе» и «Этик».
Более классического основания для философии, чем взгляды Платона и Аристотеля, трудно придумать.
Раздел первый
Глава 1
Душа Сократа и Платона
Нет, весь я не умру —
Душа в заветной лире
Мой прах переживет
И тленья убежит…
А. С. Пушкин
Моя цель в этой части исследования – выделить в учении Платона, а через него и Сократа, то, что относилось к желаниям. Сегодняшний мой уровень понимания этого предмета позволяет мне утверждать: Сократ, Платон, Аристотель и старшие стоики придавали желаниям такое значение, что можно считать желания одним из оснований всего их философствования.
Однако, читая русские академические переводы этих мыслителей, мы не сможем этого разглядеть, поскольку наши переводчики не придавали значения этому предмету, желания по каким-то мистическим причинам не стали интересны ни российским философам, ни психологам. Так что это утверждение придется доказывать.
Начну с того, что мысли Платона о желаниях в русских переводах искажены по нескольким причинам.
Во-первых, собственный интерес философского сообщества, очевидно, под воздействием христианства, видел в желаниях проявления осуждаемых правящей нравственностью страстей и вожделений, и потому для всей европейской философии эта тема была несколько неприемлемой.
Во-вторых, русское философское сообщество исходно признавало, что русский язык не является философским, а потому стремилось заимствовать необходимые для философствования термины из европейских языков, создавая искусственный язык профессионального сообщества. Сама задача поиска точных русских соответствий до последнего времени не считалась необходимой, и потому никто не смотрел, какое русское слово могло быть наиболее близким к греческим словам, обозначающим желания. Часто использовались соответствия, найденные еще во времена Славяно-греко-латинской академии.
Третье. Что такое поиск русских соответствий греческим понятиям желаний? Это труд, требующий, помимо философской эрудиции, немалой искусности в самонаблюдении и кропотливого языковедческого исследования. В определенном смысле он шире рамок профессиональной философии и не может не опираться на языковедение и собственную практику. В настоящее время подобные вторжения в чужую научную епархию считаются некорректными по отношению к коллегам. А самонаблюдение и языковедение долго не признавались полноценными методами философии.
Ну и четвертое: желания относятся Платоном к устройству души. Однако после выделения психологии из философии во второй половине XIX века душа, с одной стороны, больше не является предметом философии, а с другой – ее вообще нет, потому что психофизиология считает, что есть только работа мозга, то есть вещества. Средний философ-платоник, оставаясь идеалистом в отношении философствования и даже религиозности, каким-то необъяснимым образом считает, что материалистическая нейронаука верно описывает природу человека.
Как получилось, что философы всем сообществом перестали видеть, что это подмена, объяснить невозможно. Но большинство философов исходят из естественнонаучной картины мира, в которой души нет. Когда же они пишут о душе у Платона, то делают это настолько идеалистически, что она превращается в способ говорить о каких-то явлениях внутренней жизни человека или в описание традиционных взглядов эпохи высокой классики.
Но это очень редко разговор о душе, потому что философ отличается от простого человека тем, что всегда может запутать себя и другого вопросами о том, что понимать под словом «душа». В итоге разговор двух философов о душе превращается в спор о понятиях, а душа оказывается ни при чем.
При этом вроде бы очевидно, что, если из философии ничего не выделялось, а психология лишь присвоила себе славное имя древней философской дисциплины, полностью подменив предмет, значит, наука о душе до сих пор должна считаться частью философии. Рассуждение простое и очевидное. Но из него следует, что наука о душе до сих пор важнейшая часть всей философской антропологии.
Платон рассказывает о желаниях именно как важнейшей части души. И это действительно душа – именно та душа, в которой мы переживем смерть вещественного тела, смерть мозга и даже науки о мозге. Платоновское понимание души – это та среда, в которой и проявляются желания всех видов. Поэтому начать надо с души.
Платон неоднократно обращается к этому понятию. Безусловно, он опирается на народное понимание души, которое бытовало у греков со времен древних, надо полагать, еще индоевропейских. При этом надо принять, что созданное им и Сократом понятие отличается от того, что существовало во времена Гомера и Гесиода. Иными словами, платоническое понятие о душе – это в определенном смысле новое явление в греческой культуре, во многом знаменующее переход от архаики к классике.
Именно сократически-платоническое понятие души легло в основу христианского понятия души, слившись с древнееврейскими понятиями «руах» и «нефеш». Из собственно платоновского христианством не было принято разве что учение о переселении душ, да и то, в сущности, является у Платона заимствованием из пифагореизма. Правда, надо отметить, платонизм больше был принят православием, а вот католицизм склонялся к учению Аристотеля.
В определенном смысле платоновская психология вырастает из вполне прикладной задачи, поставленной Сократом. В «Апологии Сократа» Платон вкладывает в уста философа знаменитые слова, которые, вероятно, у самого Сократа звучали без дополнительных смыслов, использованных Платоном, чтобы бросить в глаза афинянам упрек в убийстве лучшего из своих мужей. Тем не менее именно этот упрек остается насущным и поныне, поскольку и наше общество готово убивать своих сократов:
«Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не заботишься и не помышляешь?» (Апология, 29d – e).
Оставляя в стороне публицистический накал этого высказывания, сохраняю только ту струю мыслей, что ставит задачу создания практической психологии как заботы о своей душе, которая в то время стала прикладной философской дисциплиной, известной как забота о себе.
Именно в рамках этой задачи, на мой взгляд, будет развиваться дальнейшее творчество Платона. Из работы в работу он будет пытаться понять, что же такое та душа, забота о которой должна стать сутью жизни достойного человека.
Платон не сразу доходит до определения души, сначала он собирает ее черты, позволяющие обрести полноценное понятие о душе. В «Апологии» он описывает ту черту души, которая, когда задумываешься, выглядит самой ценной в ней, используя в качестве советника смерть:
«Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят» (Апология, 40c).
Душа – это то, в чем я переживу свой прах и убегу тленья, которое ожидает тех, кто убеждает нас, будто мы лишь вещество. Вот исходная рамка, внутри которой далее и ведется поиск более точных пределов этого понятия. Но первое усилие в этом познании должно быть направлено на обретение ясности видения, как это сказано в «Алкивиаде II» в отношении того, кого избираешь своим учителем:
«Но думается мне, подобно тому, как Гомер говорит об Афине, что сначала она должна снять пелену с глаз Диомеда, дабы он <…> ясно познал и бога, и смертного мужа, так и этому человеку надо сначала снять с твоей души пелену мрака, сейчас ее окутывающую, с тем чтобы после этого указать тебе, каким путем ты придешь к познанию добра и зла» (Алкивиад II, 150d – e).
И это еще одна задача, поставленная Сократом и Платоном перед философией, которая избрала быть прикладной: научиться различать добро и зло, что в «Апологии» соответствует разумности и истине в противоположность тем стремлениям к деньгам, славе и почестям, что правят афинянами. Именно эти стремления и есть исходное определение желаний, которые надо подчинить разуму.
Обретение разумности как способности видеть истину и управлять желаниями дает способность различения добра и зла. Знать добро и зло – дело души; открывая ей способность видеть их, мы совершаем первый шаг в прикладной философской заботе о себе.
Следовательно, усилие это начинается с обретения разумности (в оригинале – φρόνησις – фронесис). Так это звучит в переводе М. С. Соловьева. Но Платон использовал много имен для обозначения той способности души, что должна править человеком и его желаниями.
Переводя диалог «Евтидем», С. Я. Шейнман-Топштейн называет ее способностью мыслить:
«– Считаешь ли ты, что мыслящие существа мыслят, имея душу, или они ее лишены?
– Мыслят существа, имеющие душу» (Евтидем, 287d).
В данном месте речь уже идет не о фронесисе, а о нус, то есть о способности думать, как бы подчеркивая, что диалог направлен против софистов, которые использовали слово «логисмос», обозначающее способность мыслить и рассуждать в словах. Комментаторы усматривают в этом диалоге перекличку с другим диалогом Платона, с «Государством», в котором правящее мыслительное начало человеческой души определяется как логистикон, то есть рассуждающая, думающая в словах часть.
А. Н. Егунов, переводивший «Государство», также видит это начало способностью:
«Итак, способности рассуждать подобает господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом – это как раз ее дело, начало же яростное должно ей подчиняться и быть ее союзником» (441e).
Но в оригинале нет никакой способности, там просто λογιστικώ άρχειν – рассуждающее начало правит. Можно ли считать эти начала способностями?
Слово «способность» не так однозначно для греческого языка – только выбор или языковое чутье распознает в слове «дюнамис» в одном случае способность, в другом – силу. Оно не существовало в русском языке до XVIII века и, вероятно, было изобретено в стенах Славяно-греко-латинской академии для перевода на русский именно греческой дюнамис. Что такое способность?
В «Гиппии Меньшем» этому посвящено целое рассуждение о том, что «душа более способная и мудрая оказывается лучшей и более способной совершать и то и другое – и прекрасное, и постыдное – в любом деле» (375e–376a). Однако это в переводе той же Шейнман-Топштейн.
А в оригинале никакой особой способности нет, есть именно δύναμις – дюнамис – сила, которую даже переводчица, ощущая некий неуют, поясняет латинским «потенция», что в латыни является калькой «дюнамис» и одним из имен силы. Если быть буквалистски точным, то это означает, что Платон не говорит о душе, способной совершать нечто, он говорит о душе, у которой есть сила действовать определенным образом.
Считать ли эту дюнамис силой или же всего лишь возможностью – всегда выбор читающего и переводящего Платона. Почему появилось философское предпочтение читать дюнамис как возможность или способность? Думаю, виноват схоластический способ думать, правивший умами философов много веков.
Сила эта, безусловно, особая, делающая возможными определенные действия, и сила эта исходит из души. Как это происходит и даже как это возможно, нельзя понять без видения устройства души, что само по себе предполагает, что душа не может быть простой и неделимой, а должна иметь некий «состав», как говорили в старину. То есть состоять из нескольких начал.
Это утверждение приходило в схоластических умах в противоречие с утверждением о бессмертии души, потому что механическое рассуждение предполагает, что бессмертным может быть только нечто, далее неразложимое на части. Поэтому бессмертно лишь то, что подобно единице, – все разложимое разрушается и потому смертно. Отсюда картезианское понимание души как некой точки осознавания себя, подобной точке математической.
Так было не всегда. Многие исследователи пытались увидеть то устройство души, которое описал Платон. Немногие, правда, достигали такой глубины самонаблюдения, чтобы пойти дальше Платона и описать это устройство подробнее.
К примеру, Тертуллиан (ок. 150/170 – ок. 220/240 г. н. э.) спорил с подходом, считающим душу неделимой и подобной точке, утверждая, что, во-первых, душа есть тело, а во-вторых, наличие частей, подобных членам, не означает делимости души:
«Но из множества членов составляется одно тело, так что здесь мы имеем дело скорее со срастанием, чем с разложением» (Тертуллиан. О душе, 63 [XIV-4]).
Но подобных сторонников платонического видения души тонким телом становилось все меньше, и постепенно подобные взгляды уходили из профессиональной философии в теологию и становились мнением христианских мистиков, которых философы просто игнорировали.
Однако Платон, несмотря на свои математические пристрастия, видел душу сложнее, чем последующие поколения мыслителей, и, собирая наблюдения за тем, что ощущал душой, шел к созданию, условно говоря, тонкой или сокровенной анатомии души. Труд этот завершился описанием частей души, соответствующих неким Началам, в четвертой книге «Государства», а затем в «Тимее».
Эти Начала впоследствии стали называться силами души или ее способностями, что подразумевает все ту же дюнамис. Иными словами, сила вполне может быть началом или архэ, питающим каждую часть души, хотя это всего лишь гипотеза, позволяющая строить тонкую или сокровенную анатомию человека.
Сокровенная анатомия – это то, что на тысячелетия осталось проектом всей платонической школы, так и не найдя своего полноценного воплощения, хотя породило множество тайных школ по всему миру. Тайные школы, как и древние жрецы предшествовавшей классике эпохи, всегда были искателями и служителями сил, первой из которых была Сила желаний.