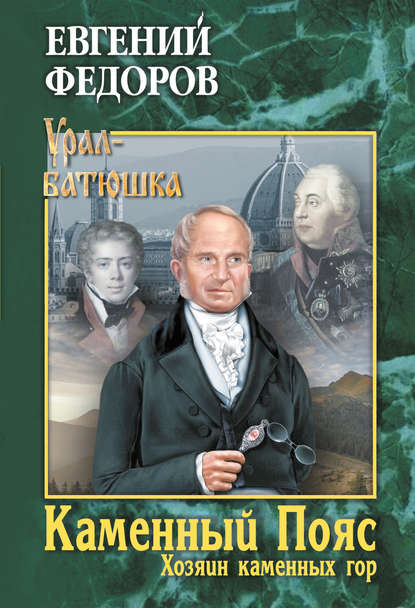Каменный Пояс. Книга 3. Хозяин каменных гор. Том 2
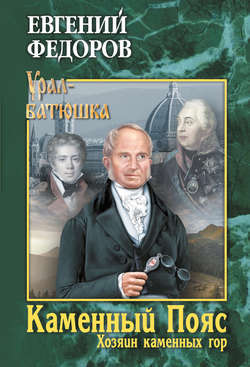
000
ОтложитьЧитал
В тихие зимние вечера в механическом заведении светились огоньки. Хорошо работалось в такие безмолвные часы! Иногда «на огонек» забегал Степан Козопасов и начинал мечтать:
– Работаю или сплю, а все перед собою вижу волю! Ах, Ефим Алексеевич, знаю, что я не только машину лажу, но и волюшку себе добываю! Эх, развернулся бы во всю силушку, да везде утеснение.
И Черепановы мечтали о том же. Не о себе думал Ефим. Он что? Век доживает. А вот сын Мирон – умная и светлая голова, как ему жить в крепостной неволе?
За окном выла вьюга, а они втроем присаживались к раскаленному горну, мечтательно смотрели на пламя и думали о будущем.
В душе Ефима иногда просыпалась зависть к Козопасову, но, твердый характером, он быстро тушил ее. Не знал он, что злые люди пытались стравить изобретателей. И кто бы мог подумать, что это шло от самого Николая Никитича, который обретался во Флоренции. Демидов слал письма, не переставая интересоваться медным рудником и механиками. Осторожно, по-иезуитски, он советовал Любимову:
«Как Черепанов и Козопасов люди одного ремесла, то всегда между ними есть ревность, зависть, а нам надлежит извлечь из этого пользу. Надо посоветоваться с Черепановым в конторе, потом порознь призвать Козопасова, но чтобы Черепанова тут уже не было, и с ним посоветоваться. Уверяет меня Николай Дмитриевич, что Козопасов умнее, опытнее и более свое дело знает, хотя и молчит. Нередко случается, что человек на словах боек, но на деле слабомощен. Впрочем, приказчикам оные люди коротко известны. Что по сему будет, тотчас мне рапортовать».
Управляющий Нижнетагильского завода хорошо знал своего хозяина, но на хитрость отвечал лукавством и в ответ писал:
«У Черепанова и Козопасова ссор, как они отзываются, никаких не имеется…»
Однажды Мирон, молодой и самолюбивый, заволновался и пожаловался отцу:
– Батюшка, Степанко опередит нас, и наша машина будет ни к чему!
Отец сдержанно улыбнулся в бороду:
– У тебя, сынок, глаза завистливые. Стоящий человек свое должен взять не завистью и не пакостью по отношению к другим, а творением своего ума и рук. Ты, Миронушка, веди себя спокойнее. У каждой машины будет свое, а наша выйдет с размахом на будущее! – ответил он ровно и спокойно.
Глядя на степенного отца, сын проникся уверенностью в успехе. Ефим продолжал:
– Я поболе твоего жил и видел, да и поработал немало! Многое сделали вот эти руки! – Взором показал он на мозолистые шершавые ладони. – Есть чем и мне похвастать, но не в хвастовстве дело! Кичливость – грязная пена! Снесет ее могутный поток, и никто не вспомнит. Вот гляжу на тебя и не знаю, что сказать. Не хочется уступать младшему, а скажу прямо: пойдешь ты, сынок, дальше моего, и то сильно радует меня! Только бери не хвастливостью и завистью, а трудом и думками!
У Мирона покраснело лицо. Похвала отца что-нибудь да значила!
В механическое заведение часто наведывался Козелок. Он приходил и молча усаживался в уголку, тихо наблюдая работу механиков. Мастер стоял перед станком, в котором быстро вращался валик, и дивным дивом казалась ему работа черепановского сына. От резца вилась дымящаяся стружка. Она вилась тонкой длинной змейкой и на глазах играла всеми цветами: то была золотисто-оранжевая, то густо-синяя и, как живая, дрожала, изгибалась и, обламываясь, падала в ящик. Металл под руками мастера казался мягким и податливым.
«Ну что за дивное мастерство!» – восхищенно думал старик и не мог оторвать глаз от станков.
Не один он ждал черепановской машины, ее с нетерпением ожидали все горщики медного рудника. Вода в штольнях в этом году прибывала сильнее, и все опаснее было спускаться в шахту.
Осенью 1827 года Степан Козопасов первый закончил свою штанговую машину. Со всех уголков Нижнего Тагила бежали люди посмотреть на пуск диковинки. Мирон волновался, нервничал, но отец твердо сказал свое: «Пойдем и мы, ведь это праздник для всех работных!»
Они вышли из мастерской. Стоял яркий солнечный день, однако лес на горах поугрюмел, притих. Полет ворон и галок стал тяжелее. Над прудом дымился туман, воздух был свеж и влажен. Среди густой тишины раздался металлический звук, а вслед за этим заскрипели-закачались штанги. Они качались размеренно, неторопливо, как длинные железные руки, и передавали силу водяного колеса к водоотливным помпам. Стаи ребятишек с восторгом носились вдоль столбов, разглядывая сооружения, а неподалеку, в обширном тесовом срубе, с шумом двигалось огромное колесо, ворочая толстый вал с железными шипами, подшипниками, приводя в движение штанги.
А на другом конце завода столпились коногоны, горщики, прислушиваясь к работе машины. Она добросовестно и жадно выкачивала из рудника воду. Вокруг бегал взлохмаченный, взволнованный Козелок и восторженно кричал:
– Братцы, братцы, гляньте, что робится! Милушка-голубушка, вот коли спасение пришло!
Все смотрели на Степанку Козопасова, который и сам ходил словно хмельной. Вот когда настал счастливый час! Он ждал, что Любимов вот-вот вынет из кармана указ Демидова о даровании ему воли, но управитель очень тщательно оглядел машину, со злой улыбкой посмотрел на коногонов и сказал им:
– Что, мужики, отробились! Ну, Степан, едем в контору! – пригласил он Козопасова в тележку.
Мастер сел рядом с управителем, и кони тронулись. От рудника до конторы рукой подать, но за этот короткий путь Козопасов много раз переходил от радости к отчаянию, от разочарования к надежде.
«Не может быть, чтобы обошли! Экий рудник спас!» – стараясь убедить себя, думал он.
В конторе Александр Акинфиевич выложил перед Козо-пасовым тысячу рублей ассигнациями.
– Гляди, милок, сколь щедры наши господа! – с лукавством сказал он.
Мастер медлил, все ждал чего-то. Управитель нахмурился.
– Аль недоволен чем? Забавно!
Степан молча взял деньги, нахлобучил шапку и, сгорбись, покинул контору…
Три дня никто не видел Козопасова. На четвертый его отыскал Черепанов у тайной кабатчицы. Степанко был пьян, мрачен.
– Негоже так! – сурово сказал ему Ефим. – Великое дело сробил, а загулял, будто с горя!
– С горя и от обиды! – хрипло выкрикнул Козопасов, и по щекам его покатились слезы. – Ждал вольной, а вот она где, вольная! – схватился за бороду механик. – Поманила, и нет!
– Обида, жестокая обида! – согласился Черепанов. – Но и то рассуди, сколько народу спасла твоя машина от потопа, радуйся. Того и ждали, что не сегодня, так завтра хлынет поток в забои… Идем, Степанко, тебя ищут! Чего стоишь?
Растрепанный, с блуждающими глазами, пошатываясь, Козопасов поплелся за Ефимом. И у Черепанова нехорошо стало на сердце.
«Вот она, наша доля!» – с огорчением подумал он, поглядывая на товарища.
Не знал он, что в письме о машине Козопасова Демидов писал управителю завода:
«А как во всем начальник должен быть еще более награжден, то чтобы сделать удовольствие Александру Акинфиевичу Любимову, даю отпускную его зятю, а сестре его приданое из конторы 2000 рублей ассигнациями».
Вот как обернулось дело!
5
Только в работе и забывались Черепановы. Мирон старался изо всех сил: сколько умных приспособлений придумал он, чтобы упростить машину, облегчить ее. Каждая выполненная им деталь, взятая в руку, сверкала чистотой отделки и радовала сердце. Большой талант таился в широкоплечем высоком парне, на верхней губе которого золотился пушок. Только он да отец могли с такой тонкостью отполировать цилиндры и подогнать к ним поршни. Работа спорилась. За нею незаметно ушла осень с темными волчьими ночами, убрались осенние воды из пруда: жадно выпил их большой Тагильский завод, не мало пропустило их вододействующее колесо Козопасова. Заметно для глаза понизился горизонт прудовой воды, обнажились прибрежные серые валуны. Река Тагилка хорошо замерзла. В заводях и протоках заблестел под скупым солнцем зеркальный лед, такой прозрачный и тонкий, что сквозь него видны были мшистые камни на дне, водоросли и рыбьи резвые стайки. По утрам потрескивали морозы, стужа сковала горные потоки. Могучие кедры над речным яром стояли тихие, темные.
В одно октябрьское утро в избе внезапно посветлело. Ефим подошел к окну. Все сверкало кругом чистой белизной. Ночью выпал снег, и он сейчас так лучился, что невозможно становилось смотреть. А на пруду, горах и в лесах лежала такая успокаивающая тишина, что у мастера замирало сердце от чистой радости.
«Вот когда наша машина покажет себя! – подумал Черепанов. – Осенью воды много, не жалко, в горах то и дело идут дожди, и пруд все время пополняется. А вот зимой попробуй набери ее, чтобы двинуть колеса!»
В это светлое утро Черепанов в первый раз пустил свою паровую машину. Она высилась на прочном каменном фундаменте, дышала ровно, ритмично. Плавно, размеренно ходили шатуны, и насосы не задыхались, не захлебывались, как прежде. По трубам, певуче позванивая, весело, торопливо бежала из шахты вода.
Очарованные Черепановы молча стояли перед созданием своих рук. Они казались пигмеями перед огромной машиной, а она покорно выполняла их волю. Радость, самая настоящая и глубокая, наполняла сердца механиков.
На этот раз в срубе, в котором работала машина, собралось не много народу. Любимов стоял в задумчивости перед механизмами и прикидывал выгоды. Его несколько пугало, что в топку уходило много дров. Подумать только, две кубические сажени в сутки! И все-таки работа паровой машины обходилась в двенадцать раз дешевле конной. Вода, конечно, даром, но где ее взять в мелководье?
– Спасибо, Ефим Алексеевич, – без спеси заговорил с механиком управляющий. – Выручил рудник! Чую я, что твоей машине будет почет на заводах!
Этими скупыми словами и ограничилась похвала. Александр Акинфиевич ушел из клети спокойный, горделивый: медный рудник спасен и будет процветать!
Он отдал распоряжение снять конные погоны, лошадей перевести на другие работы, а коногонов поставить на завод к гвоздарному делу. Этим он сберегал хозяину большие деньги.
Демидов остался доволен донесением управляющего и написал Александру Акинфиевичу письмо о весьма полезном действии механики. Вслед за этим письмом от Николая Никитича последовало распоряжение в нижнетагильскую контору о создании должности приказчика механических заведений и о назначении на нее Ефима Черепанова. Отцовское место плотинного на Выйском заводе занял его сын Мирон.
Глава четвертая
1
В России стоял апрель с его синими прохладными зорями, с водопольем, с вешним звучанием резвых ручьев и гомоном перелетных стай. Только-только забродили соки в белоствольной березке и на пригретых местах из земли полезли зеленые упругие иголки травинок. Милая русская земля! Николай Никитич только сейчас, на смертном одре, почувствовал тоску по родным краям. В большом флорентийском дворце своем умирал демидовский потомок. За окном буйствовала природа чужой страны. В апельсиновых рощах оранжевым цветом пылали плоды, и казалось, что кто-то заботливый щедро развесил среди густой зелени тысячи тысяч цветных фонариков. В распахнутые настежь широкие окна спальни вливалось благоухание, и большие пестрые бабочки вились над клумбами, подобно манящим огонькам. Густо синело застывшее эмалью небо.
На широком ложе, покрытом шелковым балдахином, утонув в пуховиках, отходил потомок уральских заводчиков. Ему только что минуло пятьдесят пять лет, но жизнь ушла из его хилого, истощенного тела. Лежал он маленький, тщедушный, с крохотным восковым лицом, и бесконечная усталость читалась в угасающих глазах. Ничего величественного, привлекательного не осталось от когда-то сильного и жизнерадостного гвардейца екатерининских времен. Радости, увлечения, зависть и страсти оставили больное, иссохшее тело.
У дверей, в кресле, сидел упитанный, большеглазый итальянец лекарь. Молчаливо и неподвижно смотрел он на облаченного в епитрахиль седенького православного священника, который читал отходную.
Вряд ли уже слышал Николай Никитич медленные грустные слова отходной молитвы: он лежал неподвижно, с остекленевшими глазами. В комнате стыла могильная торжественная тишина, и одинокие залетевшие в покой бабочки только подчеркивали ее. В луче яркого южного солнца беспомощно трепетал огонек тоненькой восковой свечки. Капельки ярого воска стекали по свечке и падали на лакированный столик, стоявший у изголовья умирающего.
Отзвучали последние слова молитвы, священник задул свечку, снял и неторопливо свернул епитрахиль. Он скорбно склонился над Демидовым и долго прислушивался. Все кончено! Иерей истово перекрестился:
– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего…
Лекарь подошел к ложу и почтительно склонил голову…
В ясный лазурный день уральский властелин покинул земную юдоль, а вместе с нею огромное богатство, созданное великими муками работных людей! Тридцать тысяч крепостных, не зная отдыха, голодные и оборванные, трудились над созданием демидовских сокровищ. Огромные пространства уральских земель и лесов, пятнадцать действующих заводов, десятки деревень, горы металла и груды драгоценных камней, картины великих мастеров, фарфор и золотая утварь, – все осталось наследникам – сыновьям Павлу и Анатолию Демидовым, так сходным между собой в тунеядстве и различным по характеру.
По воле покойного, его решили похоронить на далекой родине, для которой он являлся чужим и немилым. Тело положили в гроб, заделали в цинковый ящик и в ожидании приезда наследников поставили в склеп.
Вскоре прилетели осиротевшие птенцы в опустевшее палаццо. Никто из слуг не заметил на их лицах ни скорби, ни разочарования. Старший, Павел, среднего роста, заметно пополневший, с ранней лысиной, деловито распоряжался разделом. Младший, шестнадцатилетний Анатолий, только что прибыл из Парижа, где оставил лицей. Он предоставил хлопотать по хозяйству брату, а сам занялся молодыми флорентинками.
Павел Николаевич не покривил душой перед братом и произвел раздел поровну. Два огромных корабля по его приказу были нагружены демидовскими сокровищами и отправлены в Россию. Управителю санкт-петербургской конторы наказали срочно подыскать земельный участок и отстроить на нем приличествующее здание для размещения сокровищ. Павел Данилович по получении эстафеты немедленно наложил траур в Нижнем Тагиле, а затем быстро отыскал на Васильевском острове место для постройки и приступил к возведению хором для своеобразного музея.
Покойный Николай Никитич не забыл и Флоренцию, завещав городу огромные суммы. Итальянцы не остались в долгу, и на одной из флорентийских площадей, названной в честь его Piazza Demidoff, воздвигли ему памятник. Досужие люди дознались, что монумент этот возвели на средства Демидовых…
Тело Николая Никитича осенью 1828 года повезли из солнечной Италии в Нижнетагильский завод, отстоявший от Флоренции более чем на шесть тысяч верст. Гроб водрузили на особо сооруженный катафалк, накрыли черным покровом из тонкого сукна, обложенным по краям и посередине серебристым газом. Шесть черногривых сильных коней, покрытых черными попонами со сверкающей отделкой, повезли колесницу через всю Европу, вызывая удивление и любопытство встречных. Осенние дожди, грязь и ливни, зимние метели и снежные заносы, ледоставы и вскрытие рек не остановили мрачного кортежа. В России гроб с останками Демидова провозили через города с большой пышностью. Особенно торжественно встретили и провожали похоронную процессию в Киеве. Через весь город колесницу с гробом сопровождали киевский епископ Кирилл и многочисленное духовенство. Хор певчих огласил улицы. Возле каждой церкви, мимо которой везли прах, останавливались, читали Евангелие. Унылый звон колоколов сопровождал печальное шествие.
Спустя неделю за Киевом последовала Тула. Однако тульские оружейники только из любопытства вышли посмотреть на диковинное зрелище.
– И куда тащат мертвое тело за тысячи верст! – неприязненно встретили они своего былого хозяина. – У нас и своих живых живоглотов хоть пруд пруди!.. А кони-то, кони!..
Кроме духовенства и одиноких мещан, никто не провожал тульского заводчика.
Пошли унылые дороги, перелески, деревеньки, занесенные сугробами… Измученным крепостным не было дела до Демидова. Сопровождаемый четырьмя драбантами[5] в черной одежде, экипаж медленно катился среди полей, как мрачное привидение…
2
Похоронили Николая Никитича Демидова в Нижнем Тагиле с большой пышностью во вновь отстроенной Выйско-Николаевской церкви. По наказу наследников управляющий заводами Любимов не поскупился на расходы: храм отстроили с прекрасным резонансом, обилием света и драгоценной живописной росписью. Стены церхви снаружи в нижних частях обложили огромными чугунными плитами, пол тоже сделали чугунный. Отныне под полом стала находиться усыпальница рода Демидовых. Отслужили панихиды, сорокоусты, одарили нищих и с покойником покончили.
Теперь Александр Акинфиевич и вся нижнетагильская челядь стали с треволнением ждать наследников. На Каменном Поясе никто и никогда не видел демидовских потомков. Было лишь известно, что оба брата воспитывались во Франции. Старший сын – Павел Николаевич, которому перемахнуло за тридцать годков, в эту пору оставил военную службу и успешно подвизался при царском дворе в звании егермейстера. Младший, Анатолий, жил безвыездно в Париже, где только-только покинул лицей. Все остальное было покрыто мраком неизвестности – это особенно озадачивало управляющего заводом.
Любимов родился и вырос в Нижнетагильском заводе, возвысился до управляющего. Покойный владелец отличал его, и жизнь Александра Акинфиевича протекала плавно, гладко; Николай Никитич последние годы жил безвыездно в Флоренции, и управляющий заводами чувствовал себя властителем в Тагиле. Правда, на первых порах санкт-петербургская контора причиняла много хлопот и неприятностей, но умный и рассудительный тагильский управитель съездил в столицу и сумел столковаться с Даниловым. Оба они хорошо понимали друг друга.
«Так-то оно лучше: в ладу да в учтивости. Рука руку моет!» – думал Александр Акинфиевич и не скупился на поминки-подарки главному демидовскому управляющему.
Сейчас одно беспокоило Любимова: как поведут себя молодые наследники? Будут ли они по-прежнему жить на отлете или приедут и осядут в родовом горном гнезде? Ко всему этому у Любимова имелась своя тайная тревога и о другом. Управляющий жил бирюком: жена умерла от мучительных родов, оставив ему дочь Глашеньку. Девушке шел шестнадцатый годок. Она была стройная, беленькая, как весенняя березка в соку, а глаза синие. Обладала она чистым и приятным голосом; запоет – песня в душу просится. Любил отец после хлопотливого дня забраться в светелку дочки и послушать ее песни. Хороши и привольны, за душу берут русские песни, но в устах Глашеньки они звучали еще сердечнее, еще теплее.
Слушая дочь, Александр Акинфиевич умилялся:
– И в кого ты удалась, моя радость?
Склонив головку с золотыми косами, девушка улыбалась отцу и еще звонче пела. Жила Глашенька в верхней светелке, за дальними переходами барского дома, в той самой, в которой в давние-предавние годы томилась красавица полячка Юлька. Многое позабылось людьми о той стародавней поре, только среди седых горщиков да дедов-литейщиков, ныне изработанных, ходили тайные сказы о Катеринке Медвежьем огрызке да красавице Юленьке, казненной Митькой Перстнем. Сказы эти знала и Глашенька: их не раз тихими словечками, нанизывая, как жемчуг, по секрету рассказывала няня – старенькая ласковая Домнушка. То, что она живет в светлице, где когда-то распевала Юленька в жгучей ревности и страдала Катеринка, – все это волновало Глашеньку. В ее сердце рано проснулось неспокойное ожидание любви. Она пела, радовалась жизни, но приходили часы – и молчаливая, грустная девушка долго сидела у оконца.
Однажды на вопрос Домнушки, о чем грустит девушка, Глашенька сладко потянулась и призналась с беспорочной простотой:
– Ах, бабушка, как хочется полюбить всласть!
Старуха не на шутку перепугалась, бросилась к иконам, зажгла лампаду и весь вечер молилась:
– Пронеси, Господи, наваждение!
Домнушка скрыла от отца раннее пробуждение тоски в сердце Глашеньки. Морщинистая, сгорбленная няня не осуждала питомицу. Да и как осуждать, если даже сквозь каменные могильные плиты пробивается в щели зеленая травка, если и спустя полвека сама Домнушка не могла забыть своей счастливой поры!
Однако управитель догадывался о многом и, ожидая приезда молодых демидовских наследников, больше всего опасался, чтобы его единственная Глашенька не попалась им на глаза. Он отлично знал натуру столичных стервятников! Чтобы отвести беду, он подолгу беседовал с дочкой и, между прочим, заводил речь о любви.
– Нет ничего краше и дороже любви! – спокойно говорил он ей. – Но любовь – что облачко: дыхнешь и улетит, растает, а потому беречь ее надо и попусту нельзя звать это чувство к себе! Когда человек в поре, то оно краше и сладостней!
Однажды отец пришел в светелку, сел к столику и начал осторожный разговор с дочкой. Он вынул из одного кармана новенький золотой лобанчик[6] и положил его на ладошку девушки.
– Гляди, Глашенька, как горит! Красив. Вот и любовь, как этот лобанчик золотой: пока он у тебя цельной монетой в кармане – ты богач! А вот! – Он полез в другой карман и извлек из него горсть грязных истертых медяков. – Глянь-ка! Видишь? Разменял лобанчик на тысячу копеечек – стал нищим: и таскать медяшки трудно, и грязные они, тусклые! Так и любовь – беречь ее надо до настоящего часа.
Глашенька рдела, но внимательно слушала отцовские поучения.
…Старший наследник Павел Николаевич Демидов жил в отцовском особняке в Санкт-Петербурге. Утесненный в средствах, которые по наказу отца отпускали из главной конторы (а отпускали немало, сто тысяч рублей в год), молодой егермейстер двора потихоньку влезал в долги. Балы, которые он давал, не отличались роскошью. Не раз он вступал в перепалку с прижимистым Даниловым, но тот непреклонно гнул свою линию:
– Для вас же стараюсь! Придет время, господин, и помянете меня добрым словом!
Ждать приходилось долго, батюшке подходило только к шести десяткам; сколько он протянет, кто знает? Однако все обернулось неожиданно приятной стороной: Николай Никитич оставил земную юдоль и перекочевал в подвал тагильской церкви. Тут-то и встрепенулся егермейстер двора Павел Николаевич. Он задал такой бал на поминовение души батюшки, что о нем долгое время говорили в столице.
Данилов, проводя расходы владельца по счетным книгам, пришел в неописуемое волнение:
– Батюшка, господин мой, да ведь с такими пирами и в трубу вылетим!
Демидов строго поглядел на управляющего, и тот поразился выражению лица и взгляду своего хозяина: что-то новое, грозное читалось в них. Не успел он опомниться, как егермейстер холодно и властно сказал:
– Что за господин такой? Господином величают и мелкого чиновника и дворянина-однодворца. Отныне и до века в обращении ко мне дозволяю применять только полный титул! Разумей, раб, и повтори за мной!
Туман заволок глаза Данилова: никак он не ожидал такого внезапного высокомерия. Чувствуя под собою колебание почвы, он рабски повторил вслух:
– Ваше превосходительство… Егермейстер двора Его Императорского Величества… Кавалер орденов…
На лбу у старика выступил холодный пот. Повторив все титулы и величания, он спросил:
– Так, господин, каждый раз и в бумагах то ж?
– Олух! – заорал Демидов. – Сказано, не просто господин, а ты вновь за старое! В бумагах особо, хоть донесение и в одну строчку, а титул полный! Потом о деньгах – не пикни! Я тут хозяин. Заикнешься – выкину или в далекую вотчину свинарем сошлю!
Хотел Павел Данилович заикнуться: «Да ваш батюшка давно мне вольную дал!» – однако промолчал: кому охота оставлять теплое, насиженное место?
На другой день Демидов издал указ по санкт-петербургской конторе – именовать ее главной, Данилова отныне величать главным директором, Любимова – директором Нижнетагильских заводов, а прочих – управляющими. От пышных наименований, конечно, ничего не изменилось, но старику было лестно это величание. Он немедля отправился к молодому хозяину и в припадке рабьей преданности облобызал его ручку.
Одряхлел телесно Данилов, не так поворотлив стал, однако быстро изучил характер Демидова и не менее быстро приспособился к нему.
Молодой хозяин уже не довольствовался седым крепостным камердинером и нанял для услуг к своей особе тощего бритого и нелюдимого на вид англичанина Джемса. Иноземец на всех смотрел свысока, говорил мало, держался невозмутимо; по губам его скользила брезгливость. Барина он одевал всегда с великой важностью, словно поп обряжал архиерея.
По вступлении в наследство Павел Николаевич решил выехать на Урал и осмотреть заводы. Началась подготовка к дальней дороге: чинили экипажи, готовили возки с кладью, издавались приказы по тагильской конторе. Павел Данилович спешно написал Любимову, как подобает встречать хозяина и что ему показывать. В марте сборы окончились, и Демидов, испросив разрешение у государя, отбыл на Каменный Пояс.
3
Далек и однообразен зимний путь! В опустелых полях, как вдова на похоронах, надрывно голосила метелица. Она злилась, швыряла в глаза Демидову пригоршни колкого снега и снова заходилась воем. Как челнок по вздыбленным волнам, нырял возок с пригорка в ухаб, с ухаба в сугроб. Конца-краю не предвиделось пути; минули Москву, Арзамас, пересекли Чувашию, оставили позади Волгу и после долгих неудобств добрались до Башкирии.
Молчаливый слуга-англичанин сидел рядом с ямщиком и удивленно поглядывал на необъятные просторы. Он не утерпел и сказал:
– Как велика ваша Россия!
Русский ямщик поднял голову и с гордостью отозвался:
– Расея-матушка просторна, без конца-краю. Мы ведь только краюшек с тобой отхватили, а все еще впереди!
Вот и попробуй, потягайся с таким царством-государством! Никто и никогда его не сломит!
Льдистыми синими глазами англичанин неприязненно смотрел вперед, о чем-то думая.
– Что ж ты молчишь? – толкнул его в бок бородатый молодец.
– Велика страна, а городов мало! – хмуро отозвался камердинер.
– Неверно! – вступился за свою землю мужик. – Городов много, но еще больше простору. И край-то наш молодой. У русских все впереди! Нам еще жить да жить! А кто молод, за тем радость и счастье!
Англичанин не отозвался, замкнулся в себе…
В одно утро перед путешественниками на горизонте встали горы. Поскрипывая полозьями, обоз медленно поднимался на увалы. Величаво кругом шумели бесконечные дремучие леса, впереди под самое небо поднимались темные вершины – шиханы – и неумолкаемо гремели незамерзающие даже в лютую зиму падуны-ручьи.
За сто верст от Нижнего Тагила демидовского наследника встретили высланные Любимовым конники: лесничие, егеря, казаки. Они сопровождали возок хозяина до самого завода.
Тем временем в Нижнем Тагиле с минуты на минуту ждали высокого гостя. Во дворец согнали десятки поденщиц. Они прибирали, чистили, выбивали дорогие бухарские ковры, промывали пыльные хрустальные люстры, натирали воском паркет. Из каменных кладовых, из заветных окованных сундуков вышколенные слуги извлекали дедовскую утварь: золотые кубки, серебряные чаши, парчовые скатерти. Спешно изготовили для дворни новые наряды с галунами. Казалось, снова ожил дремавший до сих пор барский дворец. Всюду мелькали бритые лакеи в темных фраках, гайдуки, скороходы, казачки для мелких услуг. В горницах и залах, проветренных и заботливо натопленных, сейчас все сверкало, блестело и переливалось.
На синем рассвете в Николин день на завод прискакал егерь и передал управляющему, что хозяин вступил в пределы своего владения, а к полудню его надо ждать в Тагиле.
Поспешно распахнули ворота. Управляющий вместе с приказчиками, уставщиками, кричными мастерами, кафтанниками – почтенными стариками, отслужившими Демидовым верой и правдой по многу десятков лет, – суетился на площади. В церкви рядом мелькали огоньки возжженных свечей и лампад. На паперти и по дороге, ведшей к ней, разбросали пахучую хрустящую хвою. Маленький тощий священник с жидкими косичками, заправленными под вытертый воротник старой шубенки, спозаранку суетился в притворе: приготовлял хоругви, икону для благословения. Крепкий рыжий детина дьякон с красными, как у кролика, глазами поминутно раздувал кадило. Кудреватый синий дым струйкой поднимался и быстро таял в морозном воздухе. Иерей поминутно выбегал на паперть и, задрав бороденку, взывал к звонарю:
– Гляди не прозевай!
Под большим медным колоколом стоял в полушубке и в пимах бородатый звонарь и зорко всматривался в белесые дали.
Александр Акинфиевич в последний раз осмотрел медную пушчонку, выставленную подле барского дома. Отставной артиллерист надраил орудие до блеска и зарядил двойным зарядом.
– Ты уж, Иванушка, постарайся! – просил Любимов. – Тарарахни так, чтобы гул по горам великим громом раскатился!
Пушкарь поежился, признался:
– По вашему приказу зарядил, да страшновато. Пушчонка по годам ровесница прадедам, да и палили из нее давненько. Ненадежна!
– Пали, выдержит! – приказал управляющий. – Как только сойдет из саней господин, так и дуй горой!
– Уж вы не беспокойтесь. Пальну, как велено!
Как ручейки в вешнюю талую пору, на площадь с говором стекался народ. Пришли черномазые углежоги, вылезли на-гора истомленные горщики, явились литейщики, кузнецы. Запестрели цветные платки заводских женок, и зазвенели над снегами резвые ребячьи голоса. Людское море волновалось, гудело. Тусклое солнце, как совиное око, выглядывало из-за туч. Дорога была пустынна – всех проезжих и пешеходов полицейщики согнали в сторону, в сугробы.
Но вот вдали вихрем заглубился снежок, мелькнула черная точка, быстро, на глазах, увеличиваясь.
– Едут! – закричал на колокольне звонарь и вслед за этим ударил в колокол. Тяжелые гудящие звуки поплыли над заводом, над прудом и дальними горами. Священник в рясе, надетой поверх шубки, вышел с иконой на паперть. За ним вынесли хоругви, подхваченные ветром. Управляющий бросился вперед…
Все уловили звон бубенцов, который с каждым мгновением нарастал и становился все ближе и ближе. Минута – и на дороге выросли и взметнулись вихри снежной пыли. Впереди неслась резвая тройка серых. Позади саней, вытянувшись в струнку словно гончие, на мохнатых башкирских иноходцах скакали егеря. И дальше, оглашая просторы звоном колокольчиков, неслись еще две тройки.
– Едут! Едут! – заволновались в толпе, и все стали тесниться к паперти, на которой суетился в ожидании Демидова церковный причт со священником во главе.
Тройка серых, покрытая паром, закусив удила, бешено вынеслась на площадь. Бравый кучер в косматой папахе во всю глотку кричал:
– Эй, сторонись. Разда-й-ся!..
Народ отхлынул в стороны, и образовалась широкая улица, в которую остервенело ворвалась взмыленная тройка. Ямщик-удалец натянул вожжи, и кони-звери как вкопанные остановились у самой церкви.
- Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы
- Каменный Пояс. Книга 3. Хозяин каменных гор. Том 1
- Каменный Пояс. Книга 2. Наследники
- Тёмный путь
- Новомир
- Оренбургский платок
- Каменный Пояс. Книга 3. Хозяин каменных гор. Том 2
- Земля забытого бога
- Екатеринбург Восемнадцатый (сборник)
- На пороге великой смуты
- Дикое счастье (сборник)
- Связанный гнев
- Роман с фамилией
- Над Нейвой рекою идем эскадроном
- Убитый, но живой
- Сплетение судеб
- Волшебный камень
- Глумовы
- Урал – быстра река
- Золотой цветок – одолень
- Слово атамана Арапова
- Царь горы
- Время красного дракона
- Семейная хроника
- Сказы казачьего Яика
- Юность в Железнодольске
- Казак Луганский
- Долгая дорога