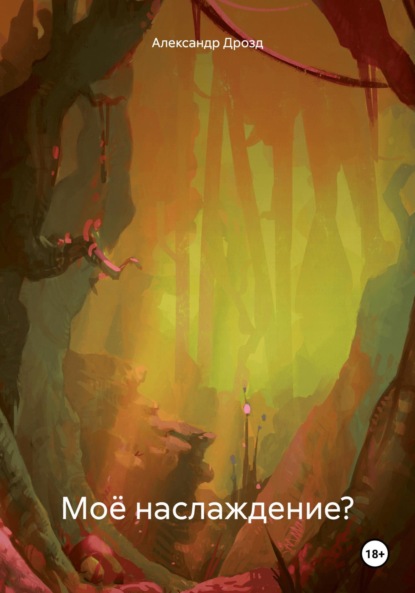Оправдание.
Возможно ли передать свои фантазии в головы людей? Не знаю, тебе, читатель, виднее, сможешь ли воспроизвести их в своём сером веществе. Конечно, лучше видеть фантазии на холстах или в синематографе, но как у любого начинающего художника, у меня нет ни малейших средств на великое искусство, но, может, оно и к лучшему. Пишу эти строки в надежде включить в мозгу изображение переживаний, запечатленное на бумаге. Произведение, что держишь ты в руках, изначально создавалось как сценарий, выношенный мной в течение восьми лет. За долгое время он менялся много раз, пока не привиделся мне в таком вот виде. Да, рассказ поставлен по музыке, что делает его более индивидуальным среди простых словесных выражений сущности писателей, но, как было упомянуто, я не писатель, я всего лишь художник, не имеющий возможности на данном этапе моей жизни проявить себя иначе.
Начальное предназначение сей странной истории состоит в реализации представления, которое не каждому дано увидеть. Не нужно читать между строк, лучше представь себя в шкуре придуманных актеров. Я не старался описать всю тягость их сумасшедшего стремления к любви, ты сам должен увидеть то, что не подвластно каждому. Быть может, прочтя мои мысли, именно ты будешь единственным зрячим. Представленное тебе лучше услышать в звуках коллектива «Агата Кристи» в альбоме «Майн Кайф?», подстегнувшего сделать эксперимент с краской в виде пера и бумаги.
Что получилось – решать тебе. Не забывай включать фантазию.
С уважением: А.Д.
Пролог. Убитая любовь
Занавес. Выключается свет. В кромешной тьме раздирающим воплем начинается представление: крик женщины, для пущего эффекта – барабанная дробь; так делают для осознания всего, чтобы подчеркнуть ясность данного представления.
Публика уже заинтригована, гул стихает, на занавесе полукругом фокусируется свет, на сцену выходит конферансье – под умолкающий звук аплодисментов. На нем потрёпанный черный фрак, на руках не менее потертые черные кожаные перчатки; он становится по центру театральной сцены, приветствуя всех пришедших на столь долгожданную премьеру. Снова овации – в приветствии главного человека в таком событии; он жестом просит гостей успокоится, зал умолкает, предоставив слово человеку, что решился явить миру столь неприятное произведение.
– Ах! – злобно, чуть шипя, произносит ведущий для поддержания театрального тона.
– Дамы и господа! – выдержав паузу, – Позвольте нам начать, и пьесу показать вам – чрезвычайно унылую и горькую по своему содержанию, как и все мелодрамы, рассказывающие про смерть, – выдержав снова паузу, дополняет, – и про любовь.
Звучит музыка, рвущая слух, грозная, но в то же время ужасно депрессивная. Зал в ожидании всей постановки – застыл, предвкушая следующие слова столь загадочной фигуры.
– Невинность и инцест! – чуть не крича от громкой музыки, произносит он. – Гоморра и Содом! – На заднем плане появляется театр теней, показывающий некие картинки – ассоциации по произносимым словам.
– Предательство и так недоступная нам честь, а может и карлик с топором, если вам вздумается, уважаемая публика! – Музыка обретает иной ритм, более стремительный, вульгарный.
– И кто кого любил в этой вакханалии безумств, не разобрать уже и подавно! – дикий звук его голоса, сквозь усиливающийся рёв музыкальных инструментов, перекрикивает жуткую мелодию. – И кто кого убил там, решать уже не нам, это точно!
Музыка утихает, и вместе с ней – истеричный вопль представляющего постановку:
– Ведь пьесу, столь желанную для вас, играют мертвецы, и мертвецы в ответе за поступки прошлых дней, а вина и наказания им чужды! И мы, увы, и вы, зрители, давно уже мертвы, убита и любовь – на том и этом свете, грустным басом конферансье заканчивает пролог, – единственный лишь раз.
На этой ноте он, уходя, взглянул на манекенов, что сидят в партере.
Занавес открывается.
Глава 1. Пират
Не меняется Библия, сказания о Боге, но именно она наполнилась для меня неким новым, иным смыслом, неестественным, заоблачным, иллюзорно перемешавшимся в недосягаемой глубине своей. Я её понял в сновидении, в момент безграничного полёта, что был для меня неким прозрением, которого, как бы я ни пытался, не перенести на бумагу. Словом, лишь прочувствовав это на себе, ощутив иллюзорную жизнь совершенно реально, будто действительность, что порой многие из нас не хотят принимать, отталкивая её от себя, блуждая в существовании до конца своих дней, и можно что-то понять.
Сны снятся редко, если в течение суток шестнадцать часов подряд приходится служить не во благо себе, а ради пустой идеи одного человека, непонятной даже самым великим умам философии. А после валишься с ног в совершенном безразличии, где придётся упасть на столь короткий отдых; проваливаешься в бездну бессилия, а после просыпаешься, словно и не было отдыха. Нет, я не отрицаю, многие всю жизнь работают «на износ», физически, беспрерывно и почти без еды, не говоря уже о том, что за работу получают разве что поощрение в виде дополнительного куска хлеба; не каждый отважится на столь губительный для своего изнеженного организма шаг.
Ты закрываешь глаза, и глубокий, но чуткий сон овладевает всем твоим существом. И в преддверии великих перемен для меня самого оживает загадочная картина, немыслимая, но пленяющая своей непорочной чистотой прекрасного заката, что не доведётся увидеть, наверное, никому в реальности. Возможно, лишь ваша фантазия – с моих слов – немного поможет взглянуть на увиденное мной.
«Огромных размеров огненный шар пока не зашёл за горизонт; не двигаясь, кучевые облака замерли, любуясь последними лучами солнца, отражающимися в воде, застывшей в безукоризненном своём штиле. Быть может, после я отдам всё, чтобы увидеть этот пейзаж ещё раз. Я стою на воде, на её прозрачности, не двигаясь с места, плавно притягивая на дно так приятное для меня свечение; и вечностью длится одна секунда, но у времени тоже, видимо, есть свой предел…
При всём моим нежелании, с дикой скоростью от моего взгляда удаляется горизонт. Темнеющие, только что светло-голубые, почти белые, облака превращаются в грозовые тучи, и чем дальше удаляется от солнца мой взор, тем менее становится рай в моём понимании действительным. Необъяснимым образом тучи превращаются в стены, преграду, созданную воображением, из стен вырисовываются скалы, а скалы преобразуются в рифы, затянувшие своей тьмой яркие лучи света.
Оказалось, что я стою на корабле, огромном боевом галеоне приблизительно шестнадцатого или семнадцатого века.
Ни солнца, ни рая не было – будто привиделось всё странной надеждой на лучшее. Вместо этого траур, ощущаемый в каждой части корабля, куда бы ни устремился мой взгляд. Разорванные в лоскуты паруса болтаются на реях, с нетерпением дожидаясь момента, чтобы оторваться от рангоута и такелажа, насильно задерживающих ткань от стремления улететь в неизвестность. Местами прогнившая палуба, в искажённости, свойственной мнимому миру, полному некоего сюрреализма – изломанные линии, очертания наружной части судна, размытые мелочи. Определённо должны присутствовать троса, пушки, штурвал – но они не просматриваются в еле проясняющихся отрывках моей памяти. Внешность моя выдает отрицательные эмоции – своей неухоженностью и разбитым, угнетающим видом. Вся команда стоит ко мне спиной. Матросы, офицеры и некие люди в шикарно вышитых одеждах – слуги, что явно отличаются ото всех своей белой, но в то же время небрежной формой, молча стоят от каюты капитана по всей палубе галеона. Их лиц не увидеть, не двигаясь с места, мрачные, опустившие головы люди, словно шахматные фигуры, стоят каждый на своём месте.
Я пытаюсь приблизиться, взглянуть более внимательно в живые статуи. Но как ни прикладываю усилий идти или бежать вперёд – и оказываюсь на одном и том же месте. Двигаюсь по кругу, и кажется, фигуры специально поворачиваются спиной, не являя мне своих лиц, как будто не было их вовсе. Лишь далёкие отзвуки голосов летают среди тишины, сотворённой для контраста со зловещим шумом за спиной. Я просто останавливаюсь, и в доли секунды окаменевшая команда выстраивается в две шеренги – как по невидимой натянутой нити. Стоя у борта корабля, я так и не вижу их лиц, и я прекращаю свои попытки. Никаких предрассудков, ни званий, ни цвета кожи, ни толстого кошелька и ни характера убеждений не разобрать, лишь только по росту выстроенные, склонили они головы ниже прежнего. Тусклое свечение показалось из капитанской каюты. Свет загородили два огромных моряка, видимо, самых крепких и сильных обитателя мёртвого судна, за ними вышли ещё два, не менее громадных, человека, идущих в ногу. Чуть подойдя, что теперь удалось мне без труда, я вижу, как они несут деревянную столешницу, и чем-то происходящее напомнило церемонию погребения. Нет, это и есть прощальная литургия. На столешнице лежит тело, закутанное в белую ткань, облегающую умершего, так, что видна почти каждая часть его тела. Лиц выносивших тоже не видно, как и всех остальных. Они идут ко мне боком, смазанные как масляные краски на холсте, постоянно меняя свои очертания; как будто мое подсознание специально стирает их в моей памяти. Первая и последняя мысль в голове стремительно врезалась одним странным чувством смятения и скорби.
Сам себе я рисую ответы на заданные во сне вопросы: «Умер король, отец вседержитель, создатель меня?» И мыслью этой рождаю множество новых вопросов: «Кто он, кто я?» – «Мёртв» – произнесли уста мои без единого усилия, без понимания этих звуков. Эти слова засели в голове, в дико разверзшемся мозгу: «умер, скончался, мёртв» – неустанно летало в не понимающем ничего разуме, смешиваясь в кучу, ввергая в растерянность и шоковое состояние. Судно словно распадалось, выходя из-под контроля, из равновесия, но, не собираясь быть поглощённым морской пучиной, просто и незатейливо стало растворяться в воздухе. Полупрозрачным становится галеон перед глазами – вместе с его обитателями. Подняв руку, я вижу как вместе со всеми исчезает и моё тело, но страха, паники я не чувствую. В один из странных моментов происходящего я замечаю ребёнка лет шести, что, не исчезая, но почти незаметно за живыми полупрозрачными статуями, медленно подходит к закутанному телу и касается его головы. В этот миг я на мгновение исчез, пропал во тьме, в не известном никому небытии.
Корабли, везде корабли, они поселились во мне, и я ни о чём другом не могу думать. Я переживаю за ребенка, которого так плохо разглядел. Во сне часто происходит так, что о ком мы переживаем, теми и становимся, но не сейчас. Ребёнок не был похож на меня: бледная кожа, светлые волосы, обычная одежда; большего мне не запомнилось. И вот я понимаю, хотя это всего лишь предположение спящего на тот момент человека: быть может, сценарий, придуманный мной – предназначение чего-то?
Я открываю глаза, не помня, закрывал ли их, и вижу корабль, похожий, но уже не серый, и цел его корпус, и нет больше траура – видимо, и не было его. Я парю над ним, лечу, словно душа, высвободившаяся из заточения тела; озирая взглядом с высоты его живой лик, окутанный тонкой пеленой загадочного, то болотного, то местами голубого тумана. Нас двое: я и корабль, и тонкая связь между нами – туман, а вокруг тьма, ни моря, ни земли, всего лишь тьма, которая позволяет быть тем, кем мы хотим себя видеть. Закрываю глаза на миг, будто что-то заставило меня сделать это. Я оказываюсь на этом корабле; и ясно стало, что он – не галеон, а скорее бригантина, в полной своей красе, с золотыми окантовками на поручнях и бортах судна. Видно, что судно не новое, и побывало уже в сражениях; его выдает немного потёртый вид и несколько замененных палубных досок. У него есть своя история – может, история кровопролития.
Подняв голову, чтобы взглянуть на мачту с убранными парусами, я вижу черный флаг, рвущийся от сильного порывистого ветра, напоминая о лоскутах разорвавшегося паруса; видимо, небеса не дают ему сорваться с флагштока и улететь в море. Теперь слышны голоса, отчётливые слова на непонятном мне языке. Рассеивающийся туман обнажает палубу. Та же команда, что была на предыдущем судне – но не застывшая, занимается своими обязанностями. И нет больше горя и печали, будто происходящее со мной пару секунд назад для них было очень давно, что не вспомнить им прощание с королем, наверное, уже никогда. Почему-то опять вспоминается ребёнок, маленький сын, что с болью в каждом движении своём подошёл к телу короля. Я думаю о нём, чувствуя его боль, сжимающую грудь ощущением никчемности человека. Спёртый, отравленный воздух, горечь, вставшая комом в горле, и одновременно накатывающая слабость не дают забыть, постоянно напоминая ту картину. А для всех остальных, что мечутся по кораблю, есть новый король, как его ни назови, он для них кукловод, и для неизвестного мне ребёнка, успокаиваю я себя, наверное, отведена новая роль. Мои переживания только о нём – совершенно неизвестном мне мальчике. Двигаюсь по палубе, пытаюсь узнать хоть у кого-нибудь, что происходит и где тот ребёнок. Но никто не обращает на меня никакого внимания. Прозрачность становится понятнее, когда сквозь меня проходит матрос, а скорее боцман пожилого возраста. Оглянувшись, как будто заметив меня, старый, но все ещё крепкий мужчина уходит спокойной походкой бывалого морского волка, не обращая внимания на легкую качку, взглянул прямо мне в глаза. «Неужели он увидел меня?» – пробегает мысль. Пытаюсь сделать шаг, меня поглощает туман, что обволакивал только что мои ноги – расплывается от ступней на несколько метров.
Проходит немного времени – и туман рассеивается. Снова галеон, уже разбитый о рифы, и нет никого – только тело короля. Я подхожу к нему, кладу руку на его укутанную тканью голову. Так не должно было быть, я падаю ниц у его тела, что недавно дышало и было горячим. Внезапно понимаю – я вижу ту же сцену, что и раньше, смотрю глазами ребёнка и чувствую его внутреннюю боль. Я ощущаю этот запах, запах горечи, что напоминает испорченное мясо. И снова туман, он подкрадывается со всех сторон, издавая этот гнилостный запах, он странного тёмно-зелёного, скорее болотного, цвета; обвивающий и пугающий меня до глубины души неестественным, то ускоряющимся, то замедляющим свой ход движением. Весь корабль покрывается его ядовитым смрадом; угнетающе обвивает туман все мое естество, одолевая изнутри своим страхом так, что невозможно сделать движения. Словно муха нахожусь я в паутине страха, как вырваться из его когтей, не имею понятия. Запах вливается своей зеленью мне в разум, я чувствую страх, который охватывает всё мое существо.
Немыслимо зло, что почувствовал я, увидев себя со стороны, ибо туман стал моим продолжением. Я вижу месть, открывающую непостижимые простому человеку горизонты. Теперь нет порядка, зато есть свобода. Словно пират, отверженный миром, захватываю мироздание, получая великую эйфорию от происходящего, свободу от человеческих предрассудков и ангельских убеждений. Я смеюсь над страхом, который победили месть и злость, охватившие мой разум. Никчемные душонки бывших героев, слабых и смешных, трепещут в страхе своём перед ползущим гадом, шипящим на них ради забавы, ведь все виновны и прокляты перед богами своими. И знамя моё стало цвета тени, что будет всегда рядом с ними, будет преследовать их, напоминая о моём существовании.
«Что мне терять?» Внезапно я подумал о матери. «Это мой выбор, не жди меня, но знай: с тобой я буду рядом. Наркотический дурман овладел мной, дав то, чего я так долго ждал: свободе, овладевающей мной, нет предела, такова моя суть. Прости. Может, я жесток, но, насколько один человек ради добра может натворить зла, настолько, следовательно, моя злость к окружающему миру и жестокость – не иначе как моё жертвоприношение – во имя добра. Так надо. Крест водружаю на себя, испепеляя пламенем мести моей, все, что преградой станет на пути, полетит до самого ада – вместе со мной».
И воссев там, на трон великого пандемониума, велю найти всех, кто находится в геенне огненной; будь то разбившиеся о скалы, павшие своей смертью или в сражениях, погрязшие в грехах, виновные и наказанные лишь душою своей – будут наказаны вновь. Отмщением казнены, пожирая души ближнего своего, отдавая части себя на съедение другому. Не дам возможности на спасение, чтобы ощутили на себе боль и потерю, питаясь лишь надеждой конца, что не может быть в бесконечности. Лишь волею судьбы насытившись местью, вознесусь над происходящей для моего глаза картиной, останусь в раю, которым будет для меня ад.
Да, я буду пиратом, среди честных, ползущим предателем себя самого, так как честен буду, разве не честность провожает людей на их грехи чёрного знамени, цвета мести и траура, нейтральной полосы между двумя мирами, становящейся для кого-то точкой отправления, и чаще всего точкой конечной. Я умру, но душа будет вечна, так надо, так придумано до нас. И потекут мои слёзы по несчастным, омывая их, грешников, пламенем, уничтожая преграды на пути до света всевышнего, до самого рая. Взирая на мир тысячами глаз, замечая лишь густой, тёмно-зелёного, скорее болотного, окраса туман».
Не увидев заключения, я проснулся – от ужаса, всколыхнувшего меня, осознав, что это всего лишь сон. Я уже не мог спать, задумавшись над видением, я осознал, что никогда не задавался вопросом о своём отце, и не интересовался его жизнью. И даже сейчас нет мне до него никакого дела.
На горизонте вставало солнце. Похожим на увиденный во сне пейзаж видом начинался новый день, очередной бессмысленный день, в котором нет нечего совершенного. Лишь сон, что я видел, не давал мне покоя, но и это пройдёт. Со временем.