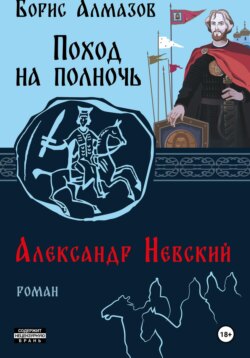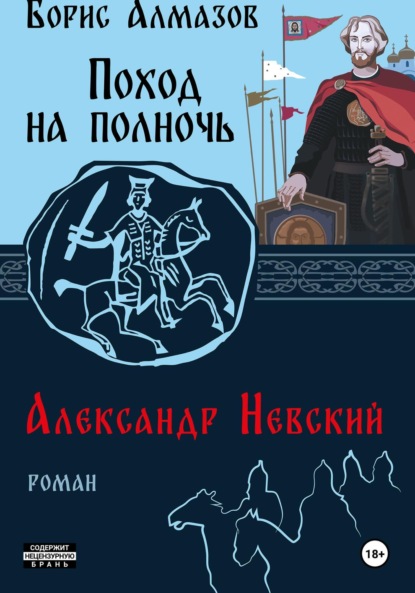Глубокий взгляд на исторические события, видящий их внутренний смысл и дальнейшие перспективы, недоступен народной массе. Народная масса видит перед собой лишь внешние факты и непосредственно на них реагирует. Она может лишь подсознательно понимать и ценить путь своих вождей, подобных св. Александру, которые исполняют ее скрытую и для нее самой неосознанную волю, но на тех путях, которые вызывают ее сопротивление. В этом есть глубокая трагедия истории. Из народа выходящие, народную сущность утверждающие и сознающие, отдельные великие люди творят подлинную волю народа среди сопротивления народа. Они живые камни, на которых создается история народа. Они наиболее всех народны. Они получают народное признание и любовь на каких-то особых, неосознанных путях, именно как наиболее ярко осознавшие и воплотившие национальную волю. Но их жизнь полна непонимания и открытых мятежей. Они всегда одиноки.
Н.А. Клепинин. «Святой благоверный и великий князь
Александр Невский»
YMKA-PRESS, Paris, 1928
Пролог
«Пришли народы незнаемые…»
(1223 г.)
1.
За Днепром служилые черные клобуки донесли, что видали маячивших на холмах и возвышенностях чужих всадников народа незнаемого. Одного словили. Видом он был преужасен: гололоб, безбород, лицо имел плоское и будто внутрь продавленное, нос короткий, глаза безбровые и такие узкие, что не разобрать, как он и смотрит-то. Тело имел широкое, и на взгляд – совсем без шеи, руки и ноги короткие. Поначалу то, когда издали, смотрели, и вовсе решили, что он без ног. Потому иные сказывали, что сие зверь Китоврас, не то лошадь – подбрюшье то конское, не то человек. Но как попали в но стрелою, так он и развалился: конь – отдельно, человек – отдельно....
Старший воевода Александр Попович велел пленника привести в свой шатер. Но привести оказалось невозможно – ранен трудно, уже глаза заводил. Принесли. Поставили носилки у ног воеводы.
Воевода Александр внимательно рассмотрел «воителя грозна». Мелкорослый, на вид – тщедушный. Лик имел страховидный, но подобные лица попадались и среди половцев, особенно тех, что последнее время, откуда-то издалека приходили. И не гололоб природно, а прическа диковинная на голове его: середина головы брита, как лысина, а на висках и да затылке четыре косы тонкие длинные насаленные. Волос черен и груб, будто конский хвост. Лицо с желтизной, а теперь уж и в темных пятнах подглазий, с синюшными губами – видать кончается жизнь в таурмене, мунгале или как там его…
Александр рядно, коим покрыт раненый, приподнял, да скорее обратно покрыл. Все кишки наружу и ребра ломанные, как у рыбы гниющей, наружу торчат. Видно, как сердце бьется.
– Фу, глядеть приторно… – сказал крещеный половец Антипа, тот, что и взял пленника. – Добить его, что ли?
–
Надо бы, допрежь сего, распытать,
–
предложил сотник половцев Ратмир.
– Да он уж кончается. Толку с него…
Александр – опытен – прикинул: жизни в таурмене осталось часа на два:
– Да и кто ж его собачье наречие ведает? Как распытать-то? Так что, Антипа, взял ты языка, а язык сей немым явился, – сказал он по-кыпчакски.
И тут все увидели, как у раненого расползлись в улыбке губы.
– Ого! – зашевелились, посунувшись к носилкам, половцы: – Никак он нашу речь понимает! Ну-ко!
Антипа немилостиво вывернул таурмену веко. Черный глаз, без мертвенной пленки, глядел осмысленно.
– Жив. Ай! Жив. Допросить можно… – засуетился Антипа: – Ай-е! Жив!
Раненый открыл глаза и так глянул на Александра и воевод, что те невольно отшатнулись. С трудом, ворочая языком, он что-то проскрипел, будто каркнул, и плюнул в склоненные над ним лица. Кровавый плевок попал Поповичу на сапог.
– Ах, ты, паскуда! – кинулся пинать таурмена Иванко оруженосец.
– Оставьте его! – приказал Александр.
– Заговоришь! Заговоришь, сучий хвост! – хлопотал Антипа. – Ты у меня все расскажешь… Ты у меня соловьем запоешь…
– Оставьте его! – повторил приказ Попович. – Снесите вон наружу, чтоб не воняло тута…
– Чего ж ты его распытать не дал? – удивленно спросил половец, когда толпа воинов клубком вывалились из шатра: – Сейчас-то зажмуркой идем. Где кто, где враги?
– Побьют они нас, – сказал вдруг Александр. И сам подивился тому, что сказал.
– Да ты что! Это же звереныш дикий, навроде волка… А у нас сила, вон какая! В кои веки вся Русь заединым духом поднялась! – ахнул боярин Анпилог, ведавший конным обозом. – Они вои, сказывают, хуже половцев,… – и тут же осекся, напоровшись на взгляд половца Антипы.
– Это ведь всего смерд ихний, – сказал Александр, – самая, то есть, чернота. А иного боярина крепче держится.
– И у нас воев изрядных много! И духом смелы и телом крепки…
– То – то и оно, у нас только что много, а у них, разумею, таковы – все…
– Господи, – перекрестился Анпилог, – аж меня от твоих слов в холод кинуло. Ты ли это, витязь? Я тя, Олёша, не узнаю! Ты ли это, Попович?!
– Я сам себя не узнаю.
Правду сказал. Странное предчувствие страшного, неведомого, чему и противостоять то нельзя, как Судному дню, теперь оформилось. Вот она, секира при корнях древа лежащая. Шумит листва, зреют плоды, а смерть ему уже приуготовлена. Вот он – конец света. Идут народы незнаемые, и на людей-то не похожие, и всех сильных побивают!
Попович вышел из шатра. Воинский лагерь, разбитый на берегу Днепра, сиял – полный огней, бряцания оружия, музыки, доносившейся из княжеских шатров, фырканья и ржания коней у коновязей, топота верховых. За шелковыми или полотняными стенами шатров раздавался смех и пение… Всё как всегда! И даже в смертельных междоусобных княжеских сечах, когда сходятся свои со своими, как в той несчастной сече на Липице, а уж о странах заморских и говорить нечего… На Кипре и в Палестине. воевавшему там Поповичу, иной раз казалось, что для знатных воителей, да и для простых ратников главная жизнь не в боях и переходах, а вот так на постоях в лагерях…
Костры выхватывали из темноты коновязи, полные лошадей, княжеские стяги и половецкие бунчуки, развевающиеся у шатров, посверкивали на доспехах часовых и ходивших по лагерю воинов… Всё привычно, всё знаемо. Но вон там, нынче, во мгле за Днепром в бесконечной степи, словно туча, клубится что-то темное, неизъяснимое и неотвратимое…
– Что ж прежде-то, – думалось воеводе, – не было перед сражениями нынешнего томительного ожидания, даже какой-то уверенности в скорой погибели, словно предчувствия конца света? – и тут же сам себе ответил, глядя на тени, за стенами шатров, – Не всю правду князья говорят!
Припомнил, что когда он только прискакал из Ростова, ходили слухи, будто бы от половцев приходили посланцы просить о помощи противу мунгалов. Были и от мунгалов этих неведомых посланцы с уверениями, что мол, они, мунгалы, только с половцами воюют, а князьям Руси – не супротивники. Гоните, мол, от себя половцев, а то и соединяйтесь противу них с нами и делайте с половцами все, что хотите.
– Как же «соединяйтесь противу половцев!» – подумал Александр, – Это ведь не то, что прежде, почитай, сто лет назад и больше, в те времена, когда половцы только появились в Диком поле, вот тогда, сказывают, вражда с ними была лютая. А нынче-то почти все половецкие ханы в родстве с князьями да сами воеводами в княжеских дружинах состоят. И хоть воюет меж собою вся княжеская родова непрерывно, без отдыха, идет брат на брата, все тех же степных половцев нанимая себе в помощь, а противу внешнего врага c половцами же степняками соединяются. Половцам в угоду, должно, чтобы свою верность дружеству показать, посольство мунгалов тех неведомых и убили. Как же половцам не радоваться: теперь князья русские с князьями половецкими кровью убитых послов мунгалов повязаны. По закону – нельзя послов убивать! Посольство завсегда неприкосновенно. Но уж таков на Руси обычай – аж из штанов выпрыгивать, дабы верность дружеству показать! Сказано не зря: «русский треснет, а выходку явит!» Хорошо, когда по уму выходка, а больше вот так, в запале, от восторга, от дури…
– Ох… – вздохнул воевода, – чем теперь за эту кровь посольскую платить придется?! Небось, виру за убийство, деньгами такими потребуют, что у смердов шеи затрещат! Князьям то что – они лес не выжигают, над сохами не горбатятся. А черным мужикам – тяжела будет плата за восторг княжеский. Да и князья, особенно малые, это понимают, потому теперь и вовсе для всех одна забота сделалась – мунгалов побить, чтобы хоть виру им не платить! Вот и выходит пословица – дальше в лес – больше дров!
Мунгалы, шел слух по Галицким да Киевским полкам, в дальних степях у Кавказских гор уже половцев разгромили, убили крещеных князей половецких – Юрия Кончаковича и Данилу Кобяковича, а разбитые рати их гнали аж до Половецкого вала, что отделял Дикое поле от владений киевских. Сам набольший половецкий хан, воитель Котян, прибежал в Галич к своему тестю Мстиславу, за помощью. Христом Богом умолял помочь. Сколь подарков князьям подарил – верблюдов, коней, поволок, невольниц.… Понимал, небось, лучше богатство потерять, нежели голову. Видать, так мунгалы половцев припекли, что они уж стали готовы под руку князей русских всеми своими кочевьями и племенами идти. Вон хан Бастый, намедни, крестился в Православную веру, дескать, мы теперь вам братья во Христе – единоверцы! Помогайте!
Да оно, особливо по окраинам Дикого поля, давно уж так сталось. Мало что все князья с половцами в родне, и смерды-то родовой перемешались. У кого мать половчанка, у кого – жена. В половецкие станы приедешь – все язык славянский разумеют, половина кочевников – христиане! А Мстислав-то Галицкий Удатный и вовсе дочь за Котяна выдал. Во внуках-то Мстиславовых половина крови половецкой, а они Мстиславу – против других внуков – любимее!
Мстислав Удатный на Руси славен – почестен. Вот он и кликнул сбор всем князьям в Киев. Собрались князья в Киеве, стали думать. Половцы только что на колени не падают, да и князья им в любви и дружестве клянутся. Тогда вот и порешили: вставать заедино с половцами, и всей Русью, свои распри, позабыв, как бывало встарь.
Но за спиной меж собою князья и другие думы держат, иные речи говорят. Главный резон Мстислав Удатный вслух произнес: «Если мы половцам не поможем, то половцы пристанут к врагам нашим, и сила их станет против нас больше». Вон как! И то верно – с половцем дружись, а за меч держись! Хоть и нет в Диком поле славянам никого половцев ближе, а все ж чужой народ, стал быть, и веры ему нет. Не по русской правде живут, свои законы держат, свой интерес соблюдают. Хотя и все так-то! Каждому роду племени – своя рубаха ближе к телу.
Ну, а когда решили помогать, на том крест целовали все князья, кроме Юрия Суздальского.
Решили тогда же – не за стенами городскими мунгалов дожидаться, а идти им встречь. Мол, «лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей».
– Чем же лучше? Кому? – размышлял Попович. – Половцам, конечно, лучше. Их кочевья давно снялись и по степи разбежались, от войны подале, а княжеским дружинам в степи воевать непривычно. Дрались-то постоянно, счетом, почитай, двести лет, но со своими – князь на князя! А тут идут мунгалы какие-то, каковы они в бою – неведомо. Известно, что все конные. А в княжеских ратях собралась главная сила – пешцы. Конницы мало, конница почти вся – половецкая. Стало быть, войско хоть и велико, а малоподвижно, не разворотисто. Мунгалы, сказывают, изрядные стрелки – лучники. С таким – резон на стенах биться, а не в голой степи ратиться. Конные, сколь бы их ни есть, конно на стены не взойдут! И чем их больше, тем скорее кони всю траву округ крепости, кою горожане, в осаду садясь, не выжгут, приедят! А нет корму – нет и осады! Редко когда осада более месяца длится. Пока один город в осаде бьется, другие успеют к набегу приготовиться. Так все супротив набега, в городах затворившись, и отстоятся.
Однако, даже если бы Александр Попович свои опасения высказал, кто бы его слушать стал? Они – князья, а он – попович, и что с тринадцати годов он в сечах, что на Руси, что в дальних странах, и годами иных князей нынче вдвое старше – не в зачет! Попович! Вон уж седеть стал, а все «Олёша»! Слава Богу, хоть не Олёшка!
Видал он восторг княжеский, а пуще рыцарский, когда под действием минуты кидались рыцари в сечи совсем безрассудные, бессмысленные. И нравилось ему, что на Руси князья все ж порассудительнее крестоносных рыцарей будут. И то, что в степь пошли, с одной стороны – безрассудно, а с другой – с умыслом. Какое княжество, всю тяготу соединенных дружин принять сможет хоть бы и на краткий срок? Войско ведь как саранча – мигом все округ сожрет! Да и беды от войска всегда жди.
Вон крестоносцы – что с Царьградом сделали! Ведь шли как друзья, не как враги басурмане, а хуже басурман город, да и всю державу Византию, разграбили. До сих пор Константинополь к былой красоте и славе не вернулся. А уж почитай двадцать лет прошло. А здесь в степи половцы рати на свое прокормление взяли.
Но ведь и то: не идут мунгалы неведомые на русские города! Это Русь сама, первая, с половцами заедино, на них двинулась, да еще поспешает – боится добычу упустить.
Идет войско в силе тяжкой, округ пеших ратей половецкая конница скачет. Кругом весть громом раздается: замиренная, как в прежние времена, Русь, а теперь еще купно с половцами, распри позабыв и обиды простив, един воинский дух имеет!
Да и сам воевода ростовский Александр, а попросту, Олеша, сын ростовского попа Леонтия такого и не помнил, чтобы меж собою князья не дрались, и старался старинным преданиям, не то мечтаниям, верить. Не столько верил, сколько надеялся, что может Русь заедино противу врагов подняться, как вставала прежде, что прежде такое было!
А может, и не вставала? Сказки сказывают? Сейчас-то вон сила какая поднялась – говорят, одного войска восемьдесят тысяч! А ведь это еще не все! Многих князей из Северной Руси – нет. Еще не подоспели. Далеко идти – велика Русь. Но только ли поэтому?
Нет вот переяславского князя Ярослава Всеволодовича, коему воевода Олеша Попович служил, командуя старшей дружиной. У кого отпрашивался, чтобы сюда прискакать с дружиной малой.
Александр свое место на воеводстве очень понимал. Да как не понимать, когда и прозвище носил – «попович», то есть роду не знатного, не княжеского. Только что не смерд. И хоть многими победами воинскими украшен, и в заморских краях знаем, и всеми признано, что воевода он изрядный и воитель на Руси, чуть не первый, а всё не князь, всё – попович. Сказано: сколь ни дороден, ни славен боярин, а всё княжеский слуга.
Князь Ярослав Всеволодович отпустил Поповича с радостью. Получалось – вроде, как и он свою лепту малую в общее дело князей русских внес. Однако, понимал Попович – сам князь ехать-то не хочет! Как враждовал с тестем своим Мстиславом Удатным, так, видать, обиду на него и держит. Да и Мстислав зятя не любит – вон даже на постриги 1) внука не приехал.
Хорошие вышли постриги, и пированье доброе. И мальчонка, коего Попович на коня первый раз сажал – хорош. Так за гриву и уцепился – не даром имя ему – Александр.
Тогда еще владыка Симон, что постриг княжеский в Переяславском Спасо Преображенском соборе совершал, сказал Поповичу, держащему на руках двухгодовалого мальчонку:
– Вот, как ты – Александр. Тезка твой. Тоже воитель будет, как Македонский!
Мальчонка глядел смышлено, ни скопища людского, ни клацанья ножниц, коими отхватывали пряди кудрявых его волосенок, ни коня – не испугался. И Поповичу тогда вдруг страшно захотелось так вот держать на руках не княжича, не внука Мстислава Удатного, сына князя Ярослава, а своего дитенка, свою родную малую плоть¸ свою кровь от крови, кость от кости… И думалось, со вздохом, что тогда, что теперь: может, и растут где-то его дети, да он даже и не помнит где. Мало его по свету носило с битвы на пир, с пира на поход, да на сечу… Где там семью-то заводить! Сказано, катящийся камушек мхом не обрастает! Так, на постоях, грехом беса тешил… Может, где и в странах заморских, где воевать пришлось, бегает, вовсе какой-нибудь чёрненький. А может уж и выросло его, Олеши Поповича, потомство, не ведавшее отца. Его семя, разметанное по свету. Иные, небось, и языка славянского не разумеют, и повстречай Поповича, даже и окликнуть его не смогут. Вот не дай Бог, со своим в сече переведаться меч о меч! Как про такое в былинах об Илье Муромце поют, как он сынка своего обасурманенного Подсокольничка в бою повстречал! Щемило у воеводы временами сердце. И подивился он себе – никогда прежде от тоски не страдал, видать, стареть начал, да и пора – пятый десяток лет землю топчет.
А крошечный княжич Александр Ярославич, тогда, месяц назад, крепко обхватив его ручонкой за шею, глядел во все глаза на сотни блистающих либо вороненых шлемов, на красные щиты княжеской дружины, на фыркающих коней. Так и запомнилось воеводе его невесомое тельце и тепло ручонки на шее. Как сажал он княжонка на коня и вел коня вокруг собора, а тот сидел будто клещ, вцепившись в конскую гриву. Куда там – упасть! Сидел – как влитой!
– Воитель, воитель будет! – шло по рядам дружинников. – Вишь, как вцепился – не ворохнется, стало быть, в любой сече уцелеет. Не убьют!
Невольно улыбнулся иссеченный во многих боях, бывший по молодости неутомимым гулякой и бабником, постаревший воевода, вспоминая недавний праздник постригов в Переяславле. Вот ведь что на ум явилось: ни пирование, ни девки, плясавшие всю ночь, а княжонок в длинной рубашонке и собольей княжеской шапке с алым верхом. То, что он не хотел с рук Поповича сходить! Упирался и брыкался, желая сидеть у воеводы на руках. А поутру, когда выезжала малая дружина со двора в поход на Калку, вынесла его мамка на крыльцо, и махал княжонок ручонкой отъезжающим. Будто маленькая птичка на фоне голубых, весенних, северных небес, крошечная ладошка трепыхалась. Так и осталась в памяти махонькая эта, машущая ручонка…
– Да, мил ты мой, – неожиданно для себя вслух сказал воевода, – на что ж это ты меня, тезка Александр, благословил?
2.
За шатром, вопреки приказу Поповича, пытались прижарить пленного. Но он молчал, пока не впал в беспамятство. Пожгли немного, да и отступились – все едино не жилец.
Однако пленный умер только через трое суток, поразив стражей своих и палачей невиданной доселе живучестью. Говорили, что перед смертью он вдруг приподнялся из последних сил, глянул в степь на восход солнца и что-то прохрипел, на совершенно никому не знаемом языке – не то позвал кого-то, не то со своими простился… И повалился мертвым. Телом немощен, но духом силен! И сказывают половцы, что таковы мунгалы – все…
– Можно воевать с врагом сильным, можно воевать с противником многочисленным, но здесь с кем воевать? Где они – эти народы незнаемые? Сколько их? – сказал Попович оруженосцу, ехавшему рядом, когда ему донесли о смерти пленного.
Шел он во главе половецкой орды, впереди русских дружин, с небольшим отрядом легкой конницы, тоже, в основном, из крещеных половцев и служилых торков, далеко в заднепровских степях. За ними, расстелившись на многие версты, шли русские дружины конные и пешие, в силе тяжкой, потому и двигались медленно. Конные половцы и своя легкая конница шли впереди войск и обочь по сторонам, оберегая дружины от неожиданного нападения. Но врага все не было. Бесконечная, непривычная и неприветливая степь тянулась округ, куда доставал взгляд. Кто хоронился в ее оврагах, чьи глаза следили за густыми рядами славянских пешцев, конницы, скрипучих обозов – неведомо. А что следили – Попович не сомневался.
Дня через два передовые наткнулись на небольшой отряд, шедший с востока на запад. Всадники трусили на мелкорослых, мохнатых лошадках, ведя еще по две в поводу. Привычно, подобно волчьей стае, охватили их отряд половцы, по команде Поповича, разом, кинулись с холмов да из балок на неведомых конников. Скоротечно пыхнула схватка. Не выдерживая удара, неприятели попытались уйти в степь, но были перехвачены конными стрелками и все повалились с седел, сбитые стрелами. Всего один, либо двое, ушли в степь и словно там растворились. Как ни гнались за ними всадники Поповича, а догнать не смогли.
Так говорили догоняльщики, воротившись. Воевода не поверил. Как это на сильных конях, походом не траченных, каких-то мохноногих лошаденок не догнать! В ином причина – наткнулись на громадную отару овец и на табун, кои тоже гнали с востока на запад гололобые отарщики и табунщики. Кинулись хватать скот да коней, про погоню позабыли. Добыча – знатная! Мяса недели на три для всего войска. Александр подымать крик из-за того, что гололобых упустили, не стал. Можно было бы и разнос учинить корыстолюбцам, да и времена нынче не те, что прежде – нет в воях покорности. Много как высоко все себя нести стали. Ты его, может, и за дело укоришь, а он те, ночным временем или в сече, стрелу меж лопаток! Измельчали людишки, озлобились в непрерывных усобицах, ноне каждый сам за себя, ежели и подружатся, то звериным манером – для добычи, а как делить станут, как, глядишь и дружбе конец – перегрызлись, будто собаки над костью. Дрянь народ!
Воеводы нечаянной добыче радовались: мол, вот и в пустыне Господь пропитание послал! Попович же толковал с воеводами половецкими не про милосердие Господне, а удивляясь, откудова такому случиться в голой степи? Почему супротивники идут не встречь соединенному войску половцев и русских дружин, а как-то мимо, словно нарочно подставляя незащищенный правый бок. Половцы отмалчивались, отшучивались, но чувствовал Попович, что-то они недоговаривают… Добро, коли сами не знают, хуже, ежели скрывают измену какую. Вот и здесь тоже получается – как же в бой идти, в сече стоять заедино, если веры соратникам нет?! Потому измена обычаем стала. Одно слово: дрянь народ сделался!
Непонятность движения врага гнала Поповича от вечернего застолья, где сиживал он на самых высоких скамьях, пред самые княжеские очи. Прежде пировал и веселился витязь всегда знатно и гостем был званым да любимым, а вот теперь и веселие пиршественное стало ему не в радость. Бывшие его сотрапезники дивились – не тот нынче стал Попович, видать – постарел… Вон его уж и в седину шибануло… То ли дело прежде!.. Да ведь прежнего не воротишь! Поповичу и разговоры-то про прежние гулевания тошны сделались. Тоска давила. Тоска от непонятности, куда идем, с кем боя ищем?.. От предчувствия, что вот эта непривычная непонятность до добра не доведет. Да и вообще, тоска…
Еще через день наскочили на уходивший в степь, строго на юг, отряд, подобный тому, какой изрубили в первой схватке. Напали на него неожиданно, незаметно подойдя к старому кургану половецкому, где спешилось несколько всадников – «мунгалов». Потому как стремительно бросились они в отступление, бросив даже несколько сбатованных 2) коней, Александр понял, что и эти гололобые нападения не ожидали.
Конники княжеские, обшаривавшие курган, наткнулись на запрятанного в яму (видать когда-то копали грабители курганов) раненого воина, немолодого и, должно быть, знатного. Этот, в отличие от первого пленного, сразу заговорил и назвался:
– Камбег.
Пленный по-кыпчакски говорил свободно, это немало всех удивило.
– Откуда половецкий язык знаешь? – спросили Камбега.
– Воюем давно, – ответил тот.
– Где?
– Там… На Иргизе… – показал пленный на восток.
– А где он, Иргиз-ат этот? – толковали князья, и кто-то знающий пояснил:
– Далеко. За Хвалынским морем.
– А море таковое, где будет? – вякнул кто-то.
– Ай! – отмахнулся знающий, – толкуй тут с вами… Далёко!
– Вот и слава Богу, что далеко! Авось, до нас не дойдут!
«Ан вот уже и дошли!» – подумал Попович, но про себя. Молча. Князья вокруг стояли – не чину ему говорить.
Александр оставил малый отрядец для подсмору за степью, а сам поворотил назад, к Днепру. Гнали по прямой. Доехали быстро. Однако же, Александр о многом успел Камбега расспросить, и много ему стало понятно.
Монголы, так именовался народ незнаемый, кочевали где-то далеко на Востоке. Их разрозненные племена объединил Тэмучин, иначе именуемый Чингисхан. Монголы много лет воевали с меркитами. Кто это такие – Попович не понял. Никогда про такой народ не слышал. Но с меркитами, где-то там, далеко на Востоке, союзничали половцы. Монголы меркитов победили и теперь пришли сюда в Кыпчакскую степь разделаться с их союзниками – половцами. Участь коих, по словам Камбега, предрешена. Они будут уничтожены все.
Воевода Александр дивился выносливости монгола. Терпение, с каким монгол переносил боль, невольно вызывало в нем уважение. Уж кто-кто, а многократно израненный воевода знал, каково это – боль терпеть от ран жгучих. Но самоуверенность, с какой монгол повторял: «половцы будут уничтожены все!» – раздражала и вызывала протест. Поповичу было странно слышать, как говорил это монгол – спокойно, без ярости, без ненависти.
– Да почему же всех половцев надобно уничтожить? Чем же перед вами все-то виноваты, и даже те, кто вас и в глаза-то не видел?
Монгол раскрыл глаза- щелочки, и Александру показалось, что он смотрит с удивлением и даже с долей жалости – будто с ребенком-несмышленышем говорит.
– Страшная болезнь – чума, – сказал монгол, – Как чуму остановить? Откочевать, чтобы сам воздух чуму тебе не принес и не погубил род твой, а всех, кто даже разговаривал с зачумленным – уничтожить и жилища их сжечь огнем. Предательство хуже чумы, поэтому нужно уничтожать не только предателя, но весь род и весь язык его, чтобы остановить болезнь. А половцы – предатели.
– Чума по ветру ходит, а предательство в людях живет, – пытался возразить Попович. – Один предаст, а другой, может, брат его, никого не предавал, чем виновен? Его за что казнить?
– Если брат – значит виновен! Зачумленный же тоже не виноват, что к нему чума прилипла, но чем иначе, чем огнем, от чумы защитишься?
– Ну, а половцы-то наши, кои никогда с вами за морем Хвалынским и не знались, чем виновны?
– Они предатели. Они тоже больны этой болезнью.
– Да откудова?!
– Сюда мы пришли через Кавказ. Через народ аланов. Половцы обещали аланам помогать, но не помогли. Значит, предали! Значит, они больны предательством, они будут уничтожены.
– А мы? Мы половцам союзничаем, что же, и мы больны?
– Да, – с уверенностью, от какой воеводу мороз по спине продрал, отвечал Камбег, – Вы тоже заразились предательством.
– Это как же?
– Мы посылали вам наших людей сказать, чтобы вы не дружили с половцами, не помогали им. Почему вы убили послов? Значит, вы тоже предатели. Вас уже заразили предательством половцы.
– Что же вы, и нас уничтожите? – спросил Попович, уверенный, что монгол начнет от ответа увиливать, но тот ответил спокойно и уверенно:
– Да.
– Смотри, не подавись, собачья блевотина, – наклонясь к самому лицу монгола, прошипел половец Ратмир, что ехал позади воеводы и монгола, и весь их разговор слышал.
Безволосый блин лица монгола расползся в улыбке, сверкнули крепкие зубы.
– Иих…– хлестнул его поперек лица плетью Ратмир.
– Нооо! – перехватывая его руку, сказал Попович, – пленного-то, связанного-то?! Негоже!
Кровь текла из рассеченного лба монгола, заливала щелочки глаз, но не один мускул не дрогнул на лице, и улыбка, широкая, самоуверенная не исчезла.
– Погоди, погоди, – хрипел Ратмир, – ужо ты у меня полыбисси! Ты у меня полыбисси! Ох, как я на тебе сердце отведу, дай срок! Воеводе скажи спасибо, а то бы сейчас у меня на ремни подпружные пошел, а нутро – волкам на пропитание. У меня, небось, не враз помрешь, помучаешься всласть,… – шипел Ратмир по-русски, забывая, что монгол языка сего не разумеет.
– А хоть бы и разумел, – подумал Попович, – есть ли у него страх или, может, он полоумный какой?
Через реку переправлялись войска. Александр заприметил уже на этой, степной стороне князя Мстислава Удатного и молодого князя Даниила, сродника его, что состоял при князе на положении воеводы. К нему и обратился Попович, соблюдая ряд и чин – хоть Даниил раза в два моложе Поповича, а происходил он из высокого рода княжеского и сам княжил, а не воеводствовал, как Александр. И, слава Богу, вроде, не глупой у Мстислава зять-ат! Попович вычислил верно. Даниил быстро прошел в Великокняжеский шатер, и вскорости оттуда вышли несколько князей пленного посмотреть.
Попович отошел к обозу. Отыскал две своих телеги. Тамила – не то тиун его, не то оруженосец, с Никишкой, сыном своим, обрадовано кинулись навстречу.
– Ну, как ты там?
– Да как вошь под шапкой – в темноте. Тычемся тут без толку. Места незнаемые, лешие. Одно слово – идем вслепую, наугад. Слава Богу, хоть трава да вода есть, а как прижарит солнце да трава погорит – вот тогда и завертимся… – воевода разговаривал с Твердилой, своим рабом, откровенно – стар Тамила, опытен, верен.
– Так ведь половцы ведут.
– Куда-то еще заведут… Им самим эти места – дальние. Они тут, почитай и как мы – небывальцы.
– Бродников бы наймовать. Бродничьи вожи самые знающие.
– То-то и оно. Да их где взять? Разбежались по степи. И так скрытно живут, по рекам хоронятся, а теперь их вовсе не сыскать. Ни одного бродника, уж сколь дней идем, не видел. Ушли, не то попрятались.
– Да и не стали бы бродники князьям да половцам служить! – встрял Никишка.
– Уж, ты вывел! – засмеялся воевода.
А Никишка, почесав потылицу после отцовского подзатыльника, чтобы в разговор старших не лез, не унялся:
– Я одного бродника знал. Дружество с ним водил. Так он на князей да на половцев, как собака, зубы скалил. Баил: князья де у нас все ловы отняли, со всех сторон степи распашкой давят. Дичину охотами своими с мест сбивают, реки сетями перегораживают, а половцы и того хуже: бродников имают, где не встретят, да в рабство за море продают.
– Это верно: половцы-то, известное дело, с того живут, что людьми торгуют, – согласился Тамила.
«Да и князья работорговлей не брезгают – подумал Попович, – Кто половцам пойманных повсюдно рабов к степным границам полонами гонит? Князья! А ины и своих смердов продают».
– Ты доспех-то приготовил? – спросил он, переводя разговор на другое.
– Все в готовности. И доспех конский, и коня… Никишка за ним, как за малым дитем, доглядывает. С ладони зерном кормит.
Никишка подвел коня. Высокий широкогрудый красавец, половецкие кони были много ниже, плясал, бил тяжкими копытами, выворачивал бешеный глаз, ронял с губ пену.
– Смотри, не перекорми зерном-ат, – сказал воевода, – Ишь, сколь тела набрал! Неровен час, осядет на ноги с перекорма – хлопнул он любимца по крупу.
– Чай, мы по зернышку, по счету. Не сомневайся, как пойдет настоящая сеча – обрядим тебя да коня в доспех – поезжай с Богом. Всех сразишь, а сам невредим будешь!
- Поход на полночь. Александр Невский
- Атаман Ермак со товарищи
- Илья-богатырь