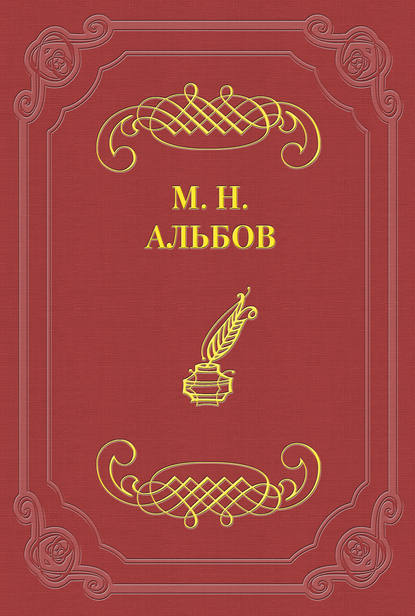«Экая жарища, господи!.. И чего, на кой ляд понесло их?.. Черт знает!..»
III. Идиллия
– И прекрасно, и прекрасно, что так это вышло! Следует радоваться, что он провалился! Этого их латиниста положительно благодарить даже нужно… Ей-богу, уверяю вас, Анна Платоновна! Да знаете ли вы, коли на правду пошло, что я сам бы так поступил? Именно потому, что желаю Саше добра!.. Нет, положительно он, должно быть, человек не без смысла, даром что чех!
Так ораторствовал Филипп Филиппыч спустя полчаса, расположившись у окошка гостиной одноэтажного кирпичного дома, на одной из лучших улиц Пыльска, носившей поэтому общепринятое во всех городах название Московской. Вид он имел невозмутимый, что всего более действует в целях успокоения, и курил папиросу, по обычаю, толщиною чуть не с оглоблю. Речь свою вел он к худощавой, средних лет даме, помещавшейся против него, с краю дивана. Лицо ее, бывшее, очевидно, в молодости очень приятным, с тонкими, правильными линиями, но как будто когда-то давно, вследствие каких-то причин, преждевременно вдруг постаревшее да так и застывшее раз навсегда в этих чертах, пристально впивалось в Филиппа Филиппыча темными, без блеску, глазами, которые от времени до времени с пытливой и затаенной тревогой перебегали на Сашу, в той же понуренной позе, как и давеча, когда он был у Филиппа Филиппыча, сидевшего на стуле, у стенки. Надо было думать, что незадолго перед этим Анна Платоновна была очень расстроена, может быть, даже поплакала, и вот теперь только оправилась и овладела собою. Но все-таки она, вероятно, еще не совсем успокоилась, потому что горячо и с негодованьем воскликнула:
– Нет, как хотите, Филипп Филиппыч, а это подлость со стороны учителя! Я уверена, что он это сделал нарочно, потому что Сашу не любит! Саша – вот спросите его – мне не раз жаловался, что он к нему несправедлив и всегда придирался…
– Он всегда ко мне придирался, мамаша! – встрепенулся на своем стуле птенец, готовый уже закипеть, но Филипп Филиппыч тотчас же на него оглянулся и спокойно заметил:
– Вот что, братец… Принеси-ка ты мне стакан воды да попроси у Варварушки кусочек льду… Будь такой добрый!
– Вот что в конце концов я скажу вам, Анна Платоновна, – продолжал он, лишь только Саша вышел из комнаты, – вы вооружены против учителя, – оставим его в покое… Но неужели вы не заметили, как наш мальчуган переменился за время экзаменов?
– Как? – испуганным шепотом переспросила Анна Платоновна.
– То есть я хочу сказать, как он похудел, побледнел… Он на себя не похож!.. Другим экзамены – как с гуся вода, а с ним посмотрите, что сделалось!.. Отчего? Оттого, что он слаб, и то, что для других мальчиков – трын-трава, для него, чтобы усвоить, требует огромных усилий…
– Вот уж это неправда! – запальчиво воскликнула Анна Платоновна. – У Саши блестящие способности, Саша быстро усвоивает, он умен не по летам! И вы, Филипп Филиппыч, напрасно…
– Хорошо, оставим это, – спокойно перебил ее собеседник, – но что для него будет полезно посидеть еще годик – тоже бесспорно! Ему нужно отдохнуть, сил новых набраться, воспользоваться летом вовсю!.. Да уж полно вам себя волновать-то, голубушка, поверьте, что все это к лучшему…
– Ах, все не то!.. Это, конечно, все пустяки, и не то меня мучит…
Анна Платоновна тяжко задумалась и, придвинувшись ближе к Филиппу Филиппычу, прибавила пониженным голосом:
– Знаете ли, чего я боюсь?
– Ну? Что такое?
– Я боюсь, что эта неудача сильно на него повлияла…
– То есть как «повлияла»?..
– Он убит! Потрясен! С его самолюбием… ведь это ужасно! Я понимаю его, потому что он – весь в меня… Он совсем не похож на других детей! О, как он самолюбив, если б вы знали!! Этот удар…
– Ха-ха-ха! Да полно вам! Какой там «удар», господи боже! Важность какая, что мальчика на второй год оставили! Тряпка он будет после того, если и это для него уж «удар»! Эх, да поверьте, что для него в сто раз приятнее воспользоваться летом как следует, чем корпеть за латынью… Гм… гм!.. Ну вот, спасибо, птенец! – весело перебил сам себя Филипп Филиппыч, – принимая от Саши принесенный ему на блюдце стакан воды с плававшей в ней светлою льдинкой.
В то время как Филипп Филиппыч был занят утолением жажды, глаза сына и матери встретились… В эту минуту лица обоих были более чем когда-либо похожи одно на другое. Тревогой за сына и беззаветной материнской любовью светились глаза Анны Платоновны; тревогой за мать и глубокою детскою преданностью были проникнуты взоры птенца… Минута – и оба протянули вперед свои руки, упали друг другу в объятия и залились в три ручья.
– Мамаша… Голубушка… Вы не сердитесь? Нет? – лепетал чуть слышно птенец, утопая в слезах.
– Дорогой мой… Сашуточка… Да неужели ты думал?.. Я только за тебя ведь тревожилась… Красавец ты мой! – отвечала мать сквозь рыдания.
В течение нескольких минут в комнате слышались лишь всхлипыванья да поцелуи… Филипп Филиппыч безмятежно дымил своей самокруткой, глазея сквозь окно на вывеску противоположного дома с изображением какой-то пестрой лепешки и надписью: «И здесь делают гробы».
– Ну? Кончили, кажется? Или еще не наплакались? – спросил он наконец, терпеливо дождавшись, когда излияния чувств прекратились, и взглянул на мать и сына попеременно.
Оба, от избытка ощущений, безмолвствовали, утирали лица платками и улыбались…
– Слава богу!.. Теперь, кажется, можно обратиться и к обыденной действительности… Матушка Анна Платоновна! Совсем вы меня заморили, бог вам судья! Честное слово, в брюхе девятый вал перекатывается!
– Сейчас, сейчас, голубчик, Филипп Филиппыч… Простите! – встрепенулась хозяйка, хлопотливо вставая. В голосе ее еще слышались слезы, но он звучал умилением.
Когда мать вышла из комнаты, птенец бросился к Филиппу Филиппычу, обвил его шею руками, чмокнул в уста, потом отскочил, припрыгнул козлом и рассмеялся блаженнейшим образом.
– Ну, то-то, давно бы так следовало! – отозвался тот со своей ленивой и благодушной усмешкой, смотря на радостно-оживленное личико мальчика. – А то и нюни уже распустил… Ишь, нос даже распух! Поди-ка лучше умойся, да и мундирчик-то новый бы сиял… Что даром трепать!
Гимназист сделал еще пируэт, показал дурашливо самому себе язык в зеркале и, тотчас же приняв чинный вид, вышел из комнаты.
– Кушать пожалуйте! – печально произнес в дверях женский голос.
В соседней комнате, за круглым обеденным столом, покрытым белоснежною скатертью, сидела на своем председательском месте, перед дымящейся миской, Анна Платоновна и разливала в тарелки куриный борщ с помидорами. Филипп Филиппыч поместился за прибором, перед которым стояли графинчик с водкой и большая старинная рюмка. Он налил, выпил и крякнул, и закусил куском балыка. В ту же минуту явился и Саша, умывшийся и облеченный вместо мундирчика в коломянковый пиджачок и сорочку с изящно расшитою грудью – рукоделья мамаши.
Все погрузились в еду.
После борща Варварушка (высокая худощавая женщина, родом из Курска, обладавшая вышеупомянутым печальным голосом и не менее печальным лицом, обмотанным вдрбавок вокруг, несмотря на жару, толстым платком, точно она только что вернулась из бани и опасалась простуды) убрала все лишнее, а вместо того принесла и поставила, широко взмахнув своими обнаженными локтями над головами обедающих, огромное блюдо, на котором были навалены высокою горкою раки… При этом зрелище Филипп Филиппыч, завесивший себя салфеткою под самые уши, даже загоготал плотоядно и с восхищением воскликнул:
– Раки!! Вот это добре!
И он тотчас же нагреб их себе на тарелку целую кучу. Перегрызая с треском их скорлупу, он заметил, неодобрительно тряхнув головою:
– А признаться, неважны! не-е-важны!
Вот и все, что произнес Филипп Филиппыч во время обеда. Остальные пока и того не сказали. Обед происходил в благоговейном молчании. Слышался только треск разгрызаемых раков. Анна Платоновна отыскивала более крупных и подкладывала на тарелку птенца. Она замечала с тревогой, что Саша действительно побледнел и осунулся, и, выбирая ему лучший кусок, бросала на сына участливо-подозрительный взгляд, точно он к теперь должен был все больше хиреть у нее на глазах, и она предотвращала опасность…
После раков был подан жареный короп[11]. Филипп Филиппыч отдал честь и ему, потянув к себе на тарелку добрый кусок. Саша задумчиво ковырял свою порцию вилкой.
– Что ж ты не кушаешь? – тревожно спросила его Анна Платоновна, положившая сама ему кусочек получше.
– Не хочу, мамаша.
– Ну, скушай, дружочек!
– Право, не хочется. А что на последнее?
– Кисель с молоком…
– Ах, киселя вот поем! А коропа не буду!..
– Ну, скушай, душечка… А? Для меня! Я прошу!
Саша покорно принялся за коропа.
Наконец обед был окончен. При этом, по-старосветски, Филипп Филиппыч поблагодарил хозяйку «за хлеб за соль», на что Анна Платоповна отвечала ему: «Извините», а Саша поцеловал у ней ручку, та же его – в лобик и губки. Затем общество переместилось в гостиную.
Филипп Филиппыч, пылая и отдуваясь от обеденных подвигов, сел у окошка, на свое старое место, и занялся курением. Птенец возлег на диван и предался созерцанию голубой пелены табачного дыма, плавной струею несшейся через окошко в безветренный уличный воздух. Анна Платоновна расставляла посуду для кофе. Широкий столб лучей солнца перерезывал наискось комнату, задевая кончик носа Филиппа Филиппыча, угол рояля и обливая всю противоположную стену с висевшими на ней литографиями.
Показался наконец и Фальстаф, который все время где-то скрывался, но при первом звуке посуды проник на кухню, откуда теперь и явился, после довольно продолжительного там пребывания, облизываясь и в приятнейшем расположении духа, заблагорассудив почтить своим присутствием общество. Он томно брякнулся на пол, в освещенном солнцем пространстве, у ног Филиппа Филиппыча, на которого и устремил благосклонный свой взор. В этом взоре читалось:
«Ну, а ты как? Поел? Хорошо? А я, брат, а-атлично!..»
Затем, с блаженнейшим вздохом из всей глубины своей собачьей души, он спрятал голову в лапы и предался немедленно сладкой дремоте.
– Сашута! – сказала после кофе Анна Платоновна. – Принеси подушку Филиппу Филиппычу. Ложитесь, Филипп Филиппыч, мы вам не будем мешать! Спать небось хочется?
– Признаться! – всколыхнулся Филипп Филиппыч, который сидел истуканом, устремив пристальный взгляд себе под ноги и уподобляясь факиру, погруженному в созерцание нирваны. – Это точно. Не прочь подремать!
Спустя немного он уже лежал на диване в позе убитого воина, с наброшенным на лицо, в защиту от солнца, пестрым фуляром, и тихо посапывал. В комнате оставался один лишь Фальстаф, который спал крепким сном. Мать с сыном ушли, плотно притворив дверь за собою.
Анна Платоновна села у окна своей спальни и прилежно занялась извлечением ниток из канвовой работы. Саша лег на кушетку. Между обоими царило безмолвие.
– Сашута, – нарушила наконец тишину Анна Платоновна. – Ты, может, вареньица хочешь?
Птенец отвечал глубоким молчанием.
– Саша, а Саша, – окликнула опять его мать. И тут он не издал ни единого звука.
Анна Платоновна встала и подошла. Мальчик спал безмятежно, подложив кулак под голову.
Анна Платоновна сняла с кровати одну из подушек, приблизилась к кушетке на цыпочках и, осторожно приподняв голову сына, подложила ему под затылок подушку. Потом она села на прежнее место и принялась за свою прерванную работу.
Совсем тихо стало в квартире. Только откуда-то издали слышался заглушённый расстоянием шум, который производила Варварушка, перемывая посуду.
Анна Платоновна зевнула, протерла глаза, свернула работу и положила ее на маю. Затем она встала, направилась к кровати и тихо легла.
Тут, у кровати, на стене висела акварель под стеклом, в позолоченной рамке. Она изображала прелестного мальчика с рассыпанными по плечам черными кудрями, в синей бархатной курточке и широком гофрированном воротнике с кружевами.
Это был портрет Саши, снятый с него, когда ему было пять лет.
Ложась спать и вставая, мать каждый раз машинально обращала свой взор на этот портрет. Вот и теперь, лежа недвижно, она его созерцала… Затем веки Анны Платоновны тихо смежились и не поднимались уж больше… Она крепко заснула.
Теперь весь дом точно вымер. Лишь один маятник неугомонно стукал в столовой да Варварушка, с печальным лицом, в своей кухне гремела посудой…
Филипп Филиппыч все спал в своей позе убитого воина. Одна рука его была подложена под голову, другая ниспадала с дивана. Густой храп с переливами вылетал из его полуоткрытого рта. Фуляр с лица давно уж свалился, чем мухи и не преминули бесцеремонно воспользоваться. Одна бродила вокруг его рта, заглядывая в него точно в пропасть, другая сидела на самом кончике носа и заботливо чистилась.
Филиппу Филиппычу виделся сон.
Ему снилось, будто над ним делают пытку, про которую он сегодня ночью прочел в романе Гюго «Человек, который смеется». Там изображается, как на одного субъекта, который лежит на земле, кладут тяжелые камни, один за другим, вынуждая сознаться, в чем его обвиняют[12]. Вот теперь и на Филиппа Филиппыча полошили такие же камни. Один лежал у него на груди, другой давил руку. Над ним стоял «чех» и делал допрос.
– Филипп Филиппыч, как будет futurum exactum от глагола «экватор»?
– Нет такого глагола! – твердо стоял на своем Филипп Филиппыч.
– Отвечайте, Филипп Филиппыч! – прозвучал опять голос «чеха».
– Нет такого глагола! Отстаньте! – простонал Филипп Филиппыч.
– Филипп Филиппыч! – настаивал голос.
– Отстаньте!
– Филипп Филиппыч, а Филипп Филиппыч! – совсем уже явственно звал его голос.
«Отстаньте», – хотел было повторить Филипп Филиппыч, но открыл глаза и, вместо мрачного подземелья, которое описано в романе Гюго, увидел стены гостиной Анны Платоновны, на которые падал розовый отблеск заката, а вместо несносного своего вопрошателя – грациозную фигурку птенца, который тряс его за руку и повторял:
– Филипп Филиппыч! Вставайте! Чай пить! Вставайте!
– Фу-у-у! – сделал Филипп Филиппыч – и совсем уже пробудился.
– Чай пить идите! – повторил птенец. – Мамаша давно уже ждет… В саду!.. Приходите!
И затем он исчез.
Садом называлось пространство за домом, кончавшееся забором, который выходил в переулок. Тут росло несколько грушевых деревьев, лепетал своими разлатыми листьями клен, протягивая ветви к каштану, а вдоль забора смиренно жались друг к дружке несколько терновых кустов. Посредине была разбита цветочная клумба. Рядом с нею виднелась сквозная, из дранок, беседка.
Филипп Филиппыч туда и направился.
В беседке, на врытом в землю столе, окруженном по стенкам беседки скамейками, ярко блестел самовар, за которым сидела Анна Платоновна, наливая птенцу уже второй стакан чаю.
Филипп Филиппыч сел и воскликнул:
– Ну и чепуха же мне приснилась сейчас!
Он закурил свою самокрутку и рассказал только что виденный сон.
– Это желудок! – объяснила Анна Платоновна, пододвигая к Филиппу Филиппычу кувшинчик со сливками.
Наступило молчание, и все занялись чаепитием. Филипп Филиппыч пил жадно и с наслаждением.
Смеркалось. Зарево заходящего солнца, проникая сквозь чащу, бросало на землю золотистые пятна. Воздух был тепел. Деревья, казалось, погружались в дремоту.
Чай был уже отпит. Все члены этого маленького застольного общества сидели не двигаясь, как бы застыв, с глазами, устремленными в этот тихий, дремотный сумрак…
– Как славно! – вырвалось шепотом у Анны Платоновны.
– Вечер чудесный! – таким же шепотом ответил ей Филипп Филиппыч.
Все вздохнули, не исключая птенца, мечтательно созерцавшего какую-то точку в пространстве. И снова водворилось молчание, как бывает в тех случаях, когда одна только фраза, слово, простой даже звук способны нарушить гармонию душ, слившихся в одном глубоком и тихом чувстве покоя…
Совсем уже смерилось. Варварушка убрала самовар и посуду и поставила на стол зажженную лампу.
– Ну что ж, Филипп Филиппыч, мы будем делать? – спросила Анна Платоновна. – Почитаем, может быть, вслух?
– Почитаем! Отлично! – встрепенулся Филипп Филиппыч. – Что же мы будем… Да, кстати! Начали «Анну Каренину»?
– Начала… Немного только, а потом бросила…
– Бросили? Почему же?
– Да как вам сказать… – Анна Платоновна немного замялась, а потом, с какой-то виноватой улыбкой, прибавила: – Скучно…
– Ка-ак?! – взвизгнул Филипп Филиппыч. – Ску-уч-но?! Это «Анна-то Каренина»?.. Граф Толстой – скучен?! Ну-у, сударыня… (он развел руками). Нет, черт возьми!.. Извините меня… Но только, знаете ли, ей-богу…
– Да вы не волнуйтесь, бога ради, – остановила, с благодушной усмешкой, поток его отрывочных восклицаний хозяйка. – Что с меня взять?.. Ведь вы знаете, какая я читательница?.. Мне больше сказочки нравятся… А там, у Толстого, все так обыкновенно… И люди такие простые, и все так известно…
– Помилуйте, да ведь это-то и есть… Эх, да уж ладно! Что тут говорить!
– Да что вы кипятитесь-то… Господи! Чем же я виновата? Ну вот, рассердился даже…
– Нисколько… Чего мне сердиться? – возразил Филипп Филиппыч со вздохом.
Он как будто весь даже померк, и на лице его залегло выражение горечи, как у человека, оскорбленного в самых дорогих своих чувствах.
– Ведь вот, право… Из-за чего вдруг расстроился… – с недоумевающим огорчением промолвила Анна Платоновна. – Да полно вам дуться-то! Что ж, значит, не будем читать?
– Отчего же? Извольте… Только, уж извините, «Рокамболя»[13] у меня с собой нет…
– Ишь! Ну, я не знала, что вы такой злой!.. Зачем же «Рокамболя»! У меня есть ваш Вальтер Скотт…
– Гм… Ну, это дело другое, – проворчал Филипп Филиппыч, смягчаясь, и спросил, подозрительно смотря на свою собеседницу: – Что ж, он вам тоже не нравится?..
– Нет… нравится…
– Гм… Действительно нравится?
– Да… интересно…
– Гм… Ну, хорошо, будем читать Вальтер Скотта, – соизволил наконец Филипп Филиппыч, по-видимому, совершенно уж умиротворенный.
– Сашута, – обратилась к птенцу Анна Платоновна, – сходи-ка за книжкой, – она, кажется, там у меня на комоде; да и работу мою захвати…
– Вот тоже гигант!.. Эта ширь, эта мощь, этот величаво-торжественный эпос… – тихим, проникнутым голосом произнес Филипп Филиппыч, как бы говоря сам с собою, с застывшим задумчиво взором…
Как думный дьяк, в приказе поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Не ведая ни жалости, ни гнева…[14] —
продекламировал он тем же проникнутым голосом, и воскликнул неожиданно, ударив кулаком по столу: – А все-таки она тоже будет классической вещью! Ее напечатано только начало, но я предрекаю, что она будет классической вещью!
– Что это? – вскинула на него глаза его собеседница.
– «Анна Каренина».
«Опять!» – хотела было сказать Анна Платоновна, но только махнула рукою.
Явился Саша с книгой и работой мамаши.
– На чем же вы остановились? – спросил Филипп Филиппыч, раскрывая толстый том в переплете.
– А вот, погодите… Да, вспомнила!.. Когда этот рыцарь… Как его?.. Который вот еще на турнире-то… Фу, забыла!..
– Рыцарь-Лишенный-Наследства?
– Ну да… Так вот, в том месте, где король велел ему выбрать девицу, как царицу турнира, и он выбрал дочь этого помещика…
– Какого помещика?
– Да ну, как его… Имена там такие все трудные. Саксонца!
– А! Седрика-Саксонца? Знаю! И на этом вы кончили?
– На этом и кончила.
Филипп Филиппыч перекинул несколько страниц в середине и воскликнул:
– Ага!
Затем он торжественно и громогласно откашлялся, призывая тем к вниманию свою аудиторию. Анна Платоновна прибавила свету и погрузилась в свой канвовый узор. Птенец облокотился на стол и уставился глазами в рот Филиппу Филиппычу, тоже приготовившись слушать.