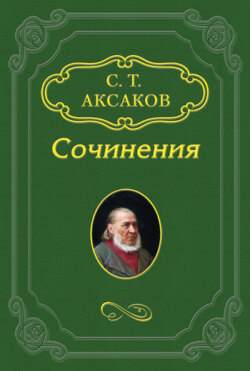
000
ОтложитьЧитал
Мне пришел теперь на память очень смешной случай, почти современный сейчас мною рассказанному, который мог бы соблазнить всякого доброго человека, не коротко знавшего кн. Шаховского, насчет его православия. Я уже говорил, что Мочалов то восхищал, то огорчал нас своей игрой. Один раз, когда давали комедию «Пустодомы», кн. Шаховской как-то опоздал и приехал в директорскую ложу Кокошкина к концу первого акта. Мы поспешили ему сказать, что сегодня Мочалов бесподобен, и Шаховской сел так, чтобы его не было видно. Зрителей было мало; Мочалов играл, как говорится, спустя рукава, и был неподражаемо хорош. Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений! Мы были просто поражены совершенством его игры. Чтоб не смущать Мочалова, Шаховской не показывался, а мы решились даже не ходить на сцену во время антрактов, как это обыкновенно бывало. В продолжение всей комедии кн. Шаховской то бесновался от восторга, то умилялся до слез. По окончании пиесы мы поспешили в уборную, где переодевался Мочалов, и восхищенный автор едва не бросился перед ним на колени. Шаховской обнимал, целовал в голову удивленного, недовольного собою Мочалова и дрожащим от радости голосом говорил: «Тальма? – какой Тальма! Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!» – Через несколько дней после этого спектакля, когда Шаховской находился еще в упоении от игры Мочалова в роли князя Радугина, приехал в Москву из Петербурга какой-то значительный господин, знаток и любитель театра, давнишний приятель князя Шаховского. При первом разговоре о театре петербургский гость выразился как-то с неуважением о таланте Мочалова. Шаховской вспыхнул, превознес московского актера похвалами и, чтоб совершенно убедить своего старинного приятеля, упросил Кокошкина повторить комедию «Пустодомы». Зная хорошо Мочалова, мы скрыли от него причину скорого повторения комедии и, чтобы лучше обмануть и не смущать его, Шаховской даже не поехал на репетицию. В день представленья мы все собрались у Кокошкина в ложе; петербургского гостя усадили на почетном месте; Шаховской был весел, но вдруг смутился, когда кто-то прочел вслух афишу: вместо Ширяева, который очень хорошо играл роль Радимова, дебютировал в ней переходивший из Петербурга на московскую сцену актер Максин-старший. Шаховской очень поморщился, потому что не жаловал этого актера, и пробормотал себе под нос: «Боюсь, боюсь я его плоповеди». Но Кокошкин поспешил его успокоить, уверяя честным словом, что Максин будет лучше, что он сам им занимался. Но, увы, беда произошла не от Максина: Мочалов как-то узнал, что его будет смотреть значительная особа из Петербурга, узнал, что Шаховской хочет похвастаться его игрою, и – постарался… Он был невыносимо дурен. Шаховской бесился, приписывая эту перемену новому актеру, который, правду сказать, был очень нелеп в своей роли. Каждое его слово и движение осыпал Шаховской бранью и проклятием. Наконец, совершенно вышел из себя и, когда Максин подошел поближе к директорской ложе, Шаховской, будучи уже не в состоянии говорить, начал высовываться из ложи и дразнить языком бедного актера. Кокошкин, схватив его за руки, усадил в кресла, в глубине ложи, и умиленным голосом произнес: «Помилуй, князь! Что ты делаешь? За что ты его обижаешь и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек!» – «Федоль Федолычь, – бормотал, дрожа от бешенства, не помнивший себя Шаховской, – я лад, что он плекласнейший, доблодетельнейший человек, пусть он будет святой, – я лад его в святцы записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебен отслужу, да на сцену-то его, лазбойника, не пускайте!..» Ну, что должен был подумать о религиозности князя Шаховского человек, не совершенно близко его знающий? Конечно, чрез минуту Шаховской уже крестился и вопил: «Господи! плости мое соглешение!» И мы уже знали, что он мысленно клал на себя эпитимью из нескольких десятков лишних поклонов!
Впрочем, добродушие кн. Шаховского, его страстная, бескорыстная любовь к театру и сценическому искусству были так известны всем, что никто не сердился за его безумные вспышки, да и нельзя сердиться на того, кто смешит. К этому надобно прибавить, что припадки бешенства проходили у него мгновенно и заменялись самым любезным и забавным раскаяньем; он так умел приласкать или приласкаться к обиженному им лицу, что нельзя было не простить и даже не полюбить его от души.
* * *
Начинаю продолжение моих «Воспоминаний» пополнением сделанного мною пропуска. Я ни слова не сказал о замечательном спектакле, которого был самовидцем в 1826 году, вскоре по приезде в Москву. Это был спектакль-гратис[27] для солдат и офицеров. Фрака не было ни одного в целом театре, кроме оркестра, куда иногда и я приходил; остальное же время я стоял или сидел за кулисами, но так глубоко, чтобы меня не могли увидеть из боковых лож. Спектакль этот шел 13 сентября. В шесть часов вечера я приехал в театр. Ни одного экипажа не стояло около него. Я заглянул в директорскую ложу и был поражен необычайным и невиданным мною зрелищем; но чтоб лучше видеть полную картину, я сошел в оркестр: при ярком освещении великолепной залы Большого Петровского театра, вновь отделанной к коронации, при совершенной тишине ложи всех четырех ярусов (всего их находится пять) были наполнены гвардейскими солдатами разных полков; в каждой ложе сидело по десяти или двенадцати человек; передние ряды кресел и бельэтаж, предоставленные генералам, штаб-и обер-офицерам, были еще пусты. Скоро стали наполняться и они, кроме последних двух рядов кресел, которые наполнились вдруг перед самым приездом государя. Всего более поражала меня тишина, которая безмятежно царствовала при таком многочисленном стечении зрителей; даже на сцене и за кулисами было тихо или по крайней мере гораздо тише обыкновенного, несмотря на то, что все актрисы и актеры, танцовщицы, хористы и проч. были давно одеты и толпились на сцене. Некоторые посматривали сквозь занавесь на чудный вид залы и лож, полных невиданными зрителями в разноцветных мундирах, сидящими неподвижно, как раскрашенные восковые фигуры. Все служащие при театре, которым следовало тут присутствовать, были в мундирах. Наконец, пробежал слух, что сейчас приедет государь, – и Кокошкин, Загоскин и Арсеньев поспешили его встретить у подъезда. Через несколько минут в боковую малую императорскую ложу вошел государь и, не показываясь зрителям, сел на кресло в глубине ложи; в большой царской ложе помещались иностранные послы. По данному знаку загремел оркестр и через несколько минут, не дожидаясь окончания увертюры, поднялась занавесь и началась известная, очень забавная комедия князя Шаховского «Полубоярские затеи», за которою следовал его же водевиль «Казак-стихотворец». Я слышал, что обе пиесы были назначены самим государем. Тишина не прерывалась, и я не могу описать, какое странное действие она на меня производила. На сцене кипела жизнь, движение, звучали людские речи, а кругом царствовали безмолвие и неподвижность! Если б пиеса давалась в пустом театре, то это было бы естественно; но театр был полон людьми от верху до низу. Я сидел в самой середине оркестра и видел, что государь часто смеялся, но не хлопал – и ни малейшего знака одобрения или участия не выражалось между зрителями. Все актеры, начиная со Щепкина, игравшего главную роль Транжирина, до последнего официанта, все играли совершенно свободно; а Щепкин, как говорили видавшие его прежде в этой роли, превосходил самого себя. Я не удивлялся Щепкину: это такой артист, для которого зрители не существуют; но я удивлялся всем другим актерам и актрисам. Я думал, что эта подавляющая тишина, это холодное безучастие так на них подействуют, что пиеса будет играться вяло, безжизненно и роли будут сказываться наизусть, как уроки, которые сказывают мальчики, не принимающие в них никакого участия, стоя перед своим строгим учителем; но комедия шла живо и весело, как будто сопровождаемая теплым сочувствием зрителей. Пиесы кончились точно так же тихо, как и начались. Государь уехал; театр ожил, зашумел, зрители в ложах встали и стройно, без всякой торопливости и суеты, начали выходить. Я поспешил увидеть, как эти маленькие, отдельные кучки станут соединяться в толпы, выходя из театра. Все происходило в удивительном порядке. Я сел на дрожки и отправился в свою Таганку. По всей дороге я обгонял множество солдат, идущих уже вольно и разговаривающих между собою. Это тоже было необыкновенное зрелище. В глухом гуле и мраке ночи, по улицам довольно плохо освещенной Москвы, особенно когда я переехал Яузу, по обоим тротуарам шла непрерывная толпа людей, веселый говор которых наполнял воздух. Солдаты шли по одной со мной дороге; они жили в Крутицких казармах.[28] Я поехал шагом, желая вслушаться в солдатские речи, но в общем говоре мало долетало до меня отдельных выражений. Я думал, что виденный сейчас спектакль будет единственным предметом разговоров, но я ошибся: солдаты говорили, судя по долетавшим до меня словам, о своих собственных делах; впрочем, раза два или три речь явственно относилась к театру, и я слышал имя Щепкина с разными эпитетами «хвата, молодца, лихача» и проч. Иногда они сопровождались такими прилагательными, которые в других случаях имеют смысл бранных слов; но здесь это были слова похвальные или знаки восклицания, которыми русский человек очень энергически любит украшать свою речь. Впечатление виденного мною спектакля долго владело мною и навело меня на множество размышлений. Можно себе представить, какое действие произвело это зрелище на иностранцев!..
Приехав в Москву, уже при первом свидании с Писаревым я был поражен его худобою, бледностью и кашлем. Не говоря Писареву, как известно моим читателям, о моих опасениях, я, разумеется, переговорил о них со всеми нашими общими друзьями; но все были удивлены моими тревожными замечаниями и уверяли меня, что Писарев худ и бледен всегда, что кашель его чисто нервный, что он иногда, особенно по летам, совершенно проходит, что Писарев прибегал раза два к помощи театрального доктора N., «прекраснейшего человека» (заметил Кокошкин), и что тот никакого значения его кашлю не придавал. Спокойствие лиц, уверенность, с какою были сказаны эти слова, и даже улыбка, с которою смотрели на мою тревогу, заставили меня подумать, что я, занимаясь в деревне постоянно лечением больных, перенеся жестокие потери в моем семействе, сделался мнителен и смотрю на такого рода предметы с темной стороны. Я расспросил легонько и осторожно Писарева, нет ли у него каких-нибудь лихорадочных явлений, и, получив положительно отрицательный ответ, совершенно успокоился. Но всю зиму, с 1826 года до весны 1827 года, Писарев не переставал кашлять. К весне кашель его даже усилился, и я возил его к моему доктору М. Я. Мудрову, с которым я и все мое семейство были давно знакомы и дружны и который не переставал слыть в Москве знаменитым практическим врачом. Мудров тоже не нашел ничего важного, прописал какое-то лекарство, спокойствие духа, умеренность в умственных занятиях и проч. Лекарство было Писареву очень полезно, и весною он совсем выздоровел.
В продолжение зимних месяцев 1827 года, прежде других пиес, именно 7 января, шел, переведенный Писаревым с французского, премиленький водевиль «Дядя напрокат», о котором я уже упоминал. Этот водевиль, превосходно разыгранный лучшими московскими артистами, памятен мне по особенному обстоятельству. После какой-то скучноватой пиесы стояли мы с Писаревым на сцене в ожидании, когда все будет готово для начинания водевиля. Глядя на все, вокруг нас происходившее, я говорил Писареву о темных сторонах театрального мира и в особенности закулисной сферы. Писарев качал головой и молча не соглашался со мною; вдруг окружили нас одетые в свои костюмы Щепкин, Рязанцев, Сабурова[29] и Н. В. Репина, которая была тогда украшением московской сцены в водевилях и даже в комических операх.[30] Каждый из них с живостью и одушевлением обратился к Писареву, показывал, как он хорошо одет, и спрашивал, доволен ли автор? (Переводчика всегда актеры называют автором.) Писарев расхвалил всех, особенно Репину, которая была очень мило и к лицу одета. В самом деле, все было придумано до последней мелочи, чтобы придать наружную характерность представляемому лицу. Во всех была видна забота, любовь к делу, желание угодить автору. Все актеры горели нетерпением начать водевиль, предвещая Писареву блистательный успех и вызов… Когда раздались слова режиссера: «Пожалуйте со сцены!» – Писарев, слушавший живые речи артистов как будто с равнодушием, но тронутый до глубины души, что выражалось особенною бледностью его лица, крепко сжал мою руку, увел меня за дальнюю декорацию и сказал голосом, прерывающимся от внутреннего волнения: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, – с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня, как человека с талантом! Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц, с презрением говорящих о нравах театральной сволочи». Писарев час от часу становился бледнее, глаза его горели, он почти дрожал. Я едва мог его успокоить и увести в директорскую ложу. Водевиль шел очаровательно. Писарев холодно улыбался и от времени до времени говорил: «Надобно обнять Щепкина, Репину и Рязанцева». По окончании водевиля публика с неистовым восторгом вызвала переводчика и потом всех актеров. Возвращаясь домой, подумал я: крепки нити, привязывающие Писарева к театру, и никто не оторвет его от обольстительной сферы сценического мира.
Тринадцатого января, в бенефис актрисы г-жи Борисовой, была дана большая трилогия князя Шаховского «Керим-Гирей», взятая из «Бахчисарайского фонтана», с удержанием многих стихов Пушкина. Общего успеха она не имела, но многие места были приняты публикой с увлечением. Надобно сказать правду, что, несмотря на излишнюю плодовитость и болтовню князя Шаховского, несмотря на невыгодное соседство стихов Пушкина, в трилогии встречаются целые тирады, написанные сильными, живыми, звучными стихами, согретыми неподдельным чувством. Мочалов, игравший Керим-Гирея, не один раз увлекал публику своим огнем и верным чувством. В той же сцене, где он, напав на замок польского магната, предавая все огню, мечу и грабежу татар, вдруг увидел Марию и оцепенел от удивления, пораженный ее красотою, Мочалов, в первое представление пиесы, был неподражаем! Долго не могла публика удержать себя от восторженных рукоплесканий. Но, увы, никогда уже потом Мочалов не был так хорош в этой сцене! Чем более он старался, тем выходило слабее, безжизненнее. Итак, это был только сценический порыв, не подвластный актеру, улетевший без следа!
Бенефис г-жи Синецкой, бывший 27 января, заканчивался небольшим водевилем Писарева, также переведенным с французского: «Две записки, или Без вины виноват». Этот водевиль слабее других писаревских водевилей, но куплеты, как и всегда, были остроумны, ловки и метки. Переводчик был вызван.
Щепкин дал в свой бенефис (4 февраля) очень большую комедию в прозе (подражание английской комедии «The way to keep him») под названием «Школа супругов», переведенную с французского Кокошкиным. Комедия имела много существенных достоинств, но была тяжела, длинна и наскучила публике. Мочалов, поистине неподражаемый в тех местах, где, без его ведома, находило на него вдохновение свыше, играл в этой пиесе весьма серьезную и необычайно большую роль. Он знал ее наизусть (как и все свои роли) с удивительной точностью и во многих местах был так хорош, что Шаховской, ставивший пиесу, удивлялся ему. У него в роли находился один монолог на семи страницах; казалось, не было возможности высказать его публике, не наскучив ей. Шаховской намеревался обрезать эту рацею на две трети, но, услышав, на первой репетиции, как Мочалов читал свой семистраничный монолог, Шаховской не решился выкинуть из него ни одной строчки; ему захотелось сделать опыт: как примет публика эту длинноту? Не почувствует ли она истину и простоту игры Мочалова? Он не ошибся. Во время представления пиесы Мочалов превосходно разрешил эту мудреную задачу, и публика выслушала весь монолог с удовольствием и наградила актера продолжительным рукоплесканьем. Эту пиесу, кажется, давали еще один раз, и опять длинный монолог сказан был Мочаловым превосходно. За комедией шел водевиль Писарева «Странствующие лекаря». Вопреки обыкновению водевиль был серьезного содержания, прекрасно написан и превосходно разыгран; но как публика, после наскучившей ей комедии, хотела и надеялась посмеяться, слушая писаревский водевиль, то и «Странствующие лекаря» были приняты холодновато; даже превосходные куплеты не поправили дела. Вот один из них, хуже других написанный, но имевший для публики особое значение. Щепкин, игравший одного из лекарей, передал этот куплет мастерски:
Все празднолюбцы-эгоисты,
Себя привыкшие любить,
Врали, педанты, журналисты,
Однажды б только стали жить.
Но автор – честь своей отчизны,
Блюститель правого суда,
Герой, родясь однажды к жизни,
Не умирал бы никогда.[31]
Публика обрадовалась нападению на журналистов, подразумевая в числе их издателя «Телеграфа», и заставила повторить куплет. Нам всем показалось, что публика своим одобрением выразила желание, чтоб Писарев продолжал свои злые выходки против Полевого.
В продолжение великого поста, по случаю закрытия театра, мы чаще ездили друг к другу. Все шло прежним порядком, и карточная эпидемия не ослабевала. Привычка – великое дело, и мы все скучали без театра. Для какого-то значительного лица, чуть ли не для главного директора императорских театров, проезжавшего через Москву, Кокошкин, вместо рапорта о благосостоянии театра, составил два спектакля: один французский, а другой, школьный, русский. Во французском спектакле я в первый раз увидел водевиль «Кеттли» – и увидел с наслаждением. Роль Кеттли играла очень немолодая французская актриса Дюпарк; мне показалась игра ее очаровательною, – может быть, оттого, что я уже пять недель не был в театре и еще три недели не мог его видеть. Спектакль в театральной школе был очень замечателен. Многие воспитанники и воспитанницы обещали талантливых артистов или артисток. К сожалению, большая часть из них погибли рановременной смертью, в том числе девицы Карпакова и Лаврова; уцелели только Шумский, наш славный артист в настоящее время, и Куликова, теперешняя г-жа Орлова. В апреле замечательных спектаклей не было, кроме бенефиса в пользу сирот Рыкалова, составленного из двух пиес кн. Шаховского: «Буря», волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира, и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольерову «L'amour peintre». Ни та, ни другая пиеса не имела настоящего успеха, хотя в обеих было много недурного.
Наступала весна. После десятилетнего пребывания в Оренбургском крае на вольном сельском воздухе, где не только весною, летом и осенью, но даже и зимой я, как страстный охотник, никогда не сидел взаперти, восьмимесячная жизнь безвыездно в Москве, несмотря на множество интересов, сильно меня занимавших, произвела на меня тяжелое впечатление; а весеннее тепло и роскошно распустившиеся в Москве сады и бульвары живо напомнили мне весну в деревне, и я с величайшим удовольствием принял предложение Кокошкина – уехать на несколько дней в его подмосковную вместе с ним, с Писаревым, кн. Шаховским, Верстовским, А. С. Пущиным, презабавным оригиналом, и еще двумя приятелями из нашего общества. Загоскин и Щепкин должны были остаться по делам театральным. Подмосковная называлась «Бедрино» и славилась старым парком, великолепным озером, в две версты длиною, и пловучими на нем островами. Писарев, написавший прекрасную элегию «Бедринское озеро», с восторгом, к какому только был способен, хвалил мне эту чудесную, по его словам, местность. Вдобавок ко всему Бедринское озеро изобиловало рыбой, а Писарев был страстный охотник удить. Дождавшись самой лучшей погоды, запасшись рыболовными снарядами (хотя Писарев уверял меня, что в Бедрине хранится много прошлогодних, совсем готовых удочек), мы весело отправились, в двух четвероместных колясках, в знаменитое Бедрино. Надобно было проехать верст тридцать по проселочной, весьма дурной и лесистой дороге. Товарищи мои жаловались на толчки; но я, когда пахнуло на меня свежим лесным воздухом, когда со всех сторон открылся не заслоняемый строениями горизонт, когда зелень полей и лесов обняла меня со всех сторон, – я пришел в упоение, несмотря на скудную подмосковную природу, кочковатую почву и незавидную растительность. Все смеялись надо мною, говоря, что дикий оренбурец помешался от радости, вырвавшись на простор из столичной тесноты, и применяли ко мне стихи Пушкина: «Мне душно здесь, я в лес хочу». Но Писарев не смеялся, а завидовал мне, завидовал силе и полноте моих впечатлений. Я не отвечал на приятельские шутки, а всю дорогу говорил только с Писаревым, описывая ему мою чудную родину. Он слушал меня неравнодушно и еще более завидовал мне.
Часа через три мы приехали в Бедрино. Местоположение было довольно плоское и обыкновенное, но огромная полоса воды светлела издали и красила все. Большой деревянный дом стоял на покатом пригорке, недалеко от края озера, весь окруженный зеленью распустившихся лип и берез. Старый и темный парк тянулся вверх по озеру, вдоль дорожки, которая живописно лепилась по самому краю берега. Прежде всего мне хотелось взглянуть хорошенько на воду; но гостеприимный хозяин желал показать мне дом, и я должен был сделать ему это удовольствие. Он вздумал было также показывать мне парк, объясняя, где и как он намерен устроить «воздушные спектакли», то есть спектакли на открытом воздухе, до которых Кокошкин был страстный охотник; но я попросил его объяснить мне все это после и побежал на озеро: оно было огромно и величаво расстилалось в отлогих зеленых берегах своих. Озеро было точно очень хорошо – да и когда же вода не бывает хороша? Я сейчас догадался, что это был собственно пруд, потому что нижний конец его упирался в высокую, широкую, вековую, отлогую земляную плотину, засаженную деревьями. Она так срослась с берегами, что ее не вдруг можно было отличить. Спуска для вешней воды не было – вероятно, она текла через низкий край плотины, который соединялся в уровень с противоположным отлогим берегом. Без сомнения, теперешнее озеро было какое-нибудь болото, а может быть, и озеро с родниками, через которое весной текло много ручьев с полей: стоило только перегородить всю лощину плотиной, отчего и составилась двухверстная, вверху очень широкая полоса воды. Откуда же взялись пловучие острова, которые я увидел в разных местах? Для другого это был бы трудный вопрос; но я уже знал образование таких островов и сейчас решил, что это были отмокшие и отставшие края противоположного болотного берега. Удовлетворившись моим первым обзором, я поспешно воротился в дом и нашел Писарева, сильно озабоченного устройством удочек, а прочих моих приятелей и хозяина – занятых своим размещением и ожиданием завтрака, потому что мы выехали из Москвы довольно рано. Писарев называл их обжорами и звал меня ехать с ним на небольшой лодке, управляемой тутошним рыбаком, прицепиться к одному из островов, около которых всегда держатся окуни, и начать уженье немедленно. Я решительно не принял его предложения; я вообще боялся плавать на маленькой лодке, а здесь надобно было плыть по неизвестным водам и глубинам, с неизвестным мне кормчим. Я доказывал Писареву, что теперь уже одиннадцатый час и рыба брать не будет, что теперь лучше хорошенько позавтракать и отправиться целым обществом на большой, безопасной лодке погулять по озеру, посмотреть его хорошенько и выбрать места к завтрему. Писарев отвечал насмешкой над моей трусостью, схватил свои прошлогодние удочки и отправился удить один. Кокошкин был очень благодарен мне, что я не поехал. Он угостил зато меня и других роскошным завтраком на прекрасной, широкой пристани, вдавшейся в воду и покрытой тогда тенью высоких дерев. Было тепло и свежо; кн. Шаховской, Верстовский и Пущин своей веселостью и шутками оживляли нашу полудеревенскую, оригинально помещенную трапезу. Много было всякой болтовни, безобидных шуток и смеха. Кокошкин беспрестанно декламировал наизусть разные стихи, даже отрывки из трагедий. Правду сказать, он даже надоедал нам своей декламацией. Он и дорогу всю читал, да и здесь продолжал читать. Орган у него был чудесный, грудь высокая и необыкновенно развитая, он мог декламировать с большим наружным жаром, не уставая, от утра до вечера; он находил в этом большое наслаждение и видимо утешался чисто взятыми верхними интонациями или полнотою грудных своих тонов. Надобно сказать, что его чтение с первого раза поражало и даже увлекало всех, что большинство людей, его слыхавших, считало Кокошкина первым, несравненным чтецом. На публичных чтениях, в Обществе любителей русской словесности, он был поистине великолепен: полнозвучный, сильный, приятный и выработанный голос его обнимал всю залу, и не было слушателя, который бы не слыхал явственно каждого слова, потому что произношение его было необыкновенно чисто. Но должно признаться, что истинного, сердечного чувства и теплоты в его чтении не было. Услыхав Кокошкина, несколько раз читающего одну и ту же пиесу, можно было сейчас это почувствовать: одинаковость приемов, одинаковость переходов из тона в тон, несмотря на наружный жар и даже подчас вызванные слезы, обличали поддельность и недостаток истинного чувства. А потому люди, никогда не слыхавшие или очень редко слушавшие Кокошкина, слушали его с восхищением или по крайней мере с удовольствием, а люди, составлявшие его почти ежедневное общество со скукою и даже с досадою.



