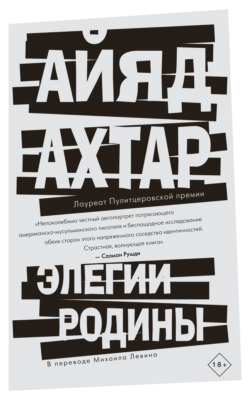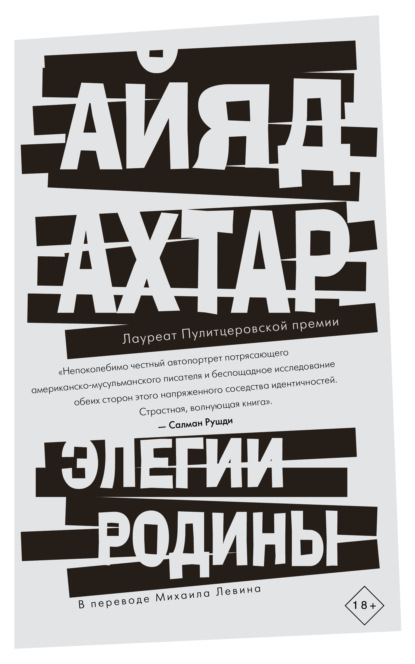Ayad Akhtar
Homeland Elegies
© Левин М., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
Посвящается Марку Уоррену и Аннике
«Что-то сочинить я могу только про то, что уже само случилось.»
– Элисон Бекдел
Увертюра: к Америке
В колледже у меня была преподавательница, Мэри Морони, читавшая курсы по Мелвиллу и Эмерсону, которую когда-то знаменитый Норман О. Браун, ее учитель, назвал «самым тонким умом во всем ее поколении»: ангелоподобная женщина чуть за тридцать, чье сходство с рафаэлевскими купидонами не назовешь случайным – ее родители приехали из Урбино. Эрудиция Мэри Морони поражала: эта женщина одинаково легко цитировала Старшую и Младшую Эдду, Ханну Арендт и «Моби Дика». Лесбиянка – о чем я упоминаю лишь потому, что она сама часто это говорила. Лектор, чьи фразы были остры как немецкий резак, и она проводила ими новые борозды в сером веществе нашего мозга, создавая новые пути для старых мыслей, как было в то февральское утро через две недели после первой инаугурации Билла Клинтона, когда Мэри, читая лекцию о жизни в период раннего американского капитализма, явно прерванная навязчивой мыслью, подняла взгляд от пола, куда обычно смотрела, произнося слова, в своей характерной позе – левая рука глубоко засунута в карман свободных слаксов, ее неотъемлемого наряда, – и почти небрежно заметила, что Америка как началась колонией, так колонией и осталась, – в том смысле, что главное на этой территории – барыш. Здесь на пьедестал возведено Обогащение, а о гражданском порядке всегда вспоминают во вторую очередь, потом. Отечество, во имя коего – и на выгоду коему – продолжается хищничество, стало уже не физическим отечеством, а духовным: Американская Личность. Этим грабительским patria стала вечно распухающая американская эгомания, долгой дрессировкой натасканная поклоняться своим желаниям (как бы благоразумны, как бы банальны они ни были, а не сомневаться в них, как учит классическая традиция), говорила Мэри, и мародерские годы правления Рейгана лишь подчеркнули эту непреходящую реальность американской жизни яснее и прозрачнее, чем когда бы то ни было.
У Мэри были некоторые неприятности в предыдущем семестре из-за столь же жестких замечаний насчет американской гегемонии, сделанных после «Бури в пустыне». Один студент из программы подготовки офицеров резерва, слушавший ее курс, пожаловался администрации, что она выступает против армии. Он затеял петицию, организовал секцию в студенческом союзе. Поднявшийся шум привел к появлению редакционной статьи в газете кампуса и к угрозам протеста, которые так и не воплотились в жизнь. Мэри не стала извиняться и каяться. В конце концов, это было в начале девяностых, и последствия суровых огненно-серных идеологических дождей – или обвинений в сексуальном абьюзе с использованием служебного положения, если таковые выдвигались, – вряд ли можно сравнить с сегодняшними. Если у кого-то возникли проблемы в связи с тем, что сказала нам Мэри, то я об этом ни разу не слышал. На самом деле я сомневаюсь, что многие из нас тогда понимали, что она имеет в виду. Я определенно не понял.
Поклонение своим желаниям. Распухающая эгомания. Колония для разграбления.
В ее словах была сила мощного отрицания, слышалось противоречие традиции бесконечного американского самовосхваления. Это было для меня ново. Я привык к той исключительности – «благословенная-господом-страна-свет-мира» – что проповедовалась на каждом слышанном мною уроке истории. Я взрослел в эпоху града-на-холме, сияющего для всех. Таковы были прославляющие тропы, выученные мною в школе, и я считал их не тропами, а истиной.
Я видел американское благоволение в знающем взгляде Дяди Сэма на почте, слышал американское изобилие в консервированном закадровом смехе ситкомов, которые каждый день смотрел вместе с матерью, ощущал американскую защиту и силу, крутя педали десятискоростного «Швинна» мимо двухуровневых и двухэтажных домов округи среднего класса, где я рос. Конечно, мой отец был тогда горячим сторонником Америки. Для него не было более великого места на земле, такого места, где ты можешь больше, имеешь больше, где ты сам больше. Америкой он не мог насытиться: палаточные походы в парк Тетонс, езда на машине по Долине Смерти, подъем на Сент-Луисскую арку и потом сплав на лодке в Луизиану на рыбалку – добывать окуня в протоках. Он любил посещать исторические места. В рамки вставлялись наши фотографии из поездок в Монтичелло и Саратогу, к дому на Билз-Стрит в Бруклине, где родились братья Кеннеди.
Помню одно субботнее утро в Филадельфии, мне было восемь, и отец выговаривал мне за хныканье во время людной экскурсии по каким-то комнатам, как-то связанным с Конституцией. Когда она окончилась, мы взяли такси до знаменитых ступеней возле музея, и он устроил со мной гонку наверх – и дал мне выиграть! – в знак почтения к Рокки Бальбоа.
Любовь к Америке и твердая вера в ее превосходство – моральное и всякое прочее – была в нашем доме кредо, и моя мать знала, что его лучше не оспаривать, даже если она не до конца с ним соглашалась. Как и родители Мэри – это я потом узнал от нее самой, – моя мать никогда не находила в различных преимуществах своей новой родины ничего похожего на достаточную компенсацию за оставленное позади. Не думаю, что она когда-нибудь ощущала эту страну как родину. Она считала, что американцы материалистичны, и никогда не понимала, что такого святого в этой оргии покупок, которую они называют Рождеством. Ей неприятно было, что каждый ее спрашивает, откуда она, причем не смущаясь после ее ответа тем, что впервые слышит такое географическое название. Американцы были невежественны не только в географии, но и в истории. А более всего ее не устраивало «невнимание к важному», как она это называла. Конкретнее говоря – американское отрицание старения и смерти. Раздражение этим последним за долгие годы осело у нее в душе как тяжелый камень, внушающий ужас жупел, который не оставлял ее до самой могилы: мысль, что старение будет означать полную изоляцию и умирание в «доме», который никак не дом.
Взгляды моей матери – как бы редко ни были они произносимы вслух, – могли бы подготовить меня к пониманию диспептической точки зрения Мэри на ее собственную страну, но этого не случилось. Даже моя принадлежность к исламу не сподобила меня увидеть то, что видела Мэри, ни даже одиннадцатое сентября. Я помню ее письмо через несколько месяцев после того страшного сентябрьского дня, навеки изменившего жизнь мусульманина в Америке. Десятистраничное послание, в котором она меня ободряла, призывала иметь мужество, говорила о своей борьбе – борьбе женщины нестандартной ориентации в Америке, неослабевающую схватку за собственную целостность, о трудности своего пути к автономии и самоидентификации – и все это были лишь языки пламени, пробивающиеся из-под коры, провоцирующие творческую ярость, смиряющие сентиментальность, избавляющие ее от надежды в идеологии. «Встретилась трудность – используй ее, обрати в свою пользу», – таково было ее наставление. Трудность была тем оселком, на котором она острила свою аналитическую мощь – понимание тех «как», «почему» и «что», – которые она видела, а я даже пятнадцать лет спустя не мог по-настоящему увидеть сам: мои усугубляющиеся трудности мусульманина, живущего в этой стране несмотря ни на что. Нет. Мне не увидеть было того, что видела Мэри, пока я не стал свидетелем безвременного упадка поколения коллег, выжатых работой, которая никогда не приносила достаточно денег, тонущих в долгах ради ухода за детьми с расстройствами, не поддающимися излечению; пока не увидел родственников – и лучшего друга школьных лет, – кончивших приютами или улицей, вышвырнутых из домов, за которые они больше не могли платить, пока не случилось без малого дюжины суицидов и передозов сорока-с-чем-то-летних друзей детства всего за три года; пока друзья и родственники не стали лечиться от отчаяния, забот, эмоциональной тупости, бессонницы, сексуальной дисфункции и преждевременного рака из-за химических замен всего на свете – от еды, продвигающейся по раздраженному кишечнику, и до лосьонов, намазанных на отравленную солнцем кожу. Я не видел этого, пока наша собственная частная жизнь не была сожрана публичным пространством, где была кодифицирована, конфискована без права выкупа и выставлена на аукцион; пока устройства, порабощающие наш ум, не наполнили нас ядовитой пеной культуры, не стоящей более этого названия, пока блестящая податливость человеческого разума – само внимание – не стало самой ценной услугой в мире, самые движения нашего разума не оказались преобразованы в потоки нескончаемого дохода где-то для кого-то. Я не видел этого ясно, пока Американская Суть полностью не овладела процессом грабежа, не идеализировала и законодательно не оформила раздел трофеев и не подвела почти к завершению оптовый грабеж не только так называемой колонии – каким это кажется теперь провинциальным и диалектным! – но самого мира полностью. Короче говоря, я не видел того, что видела тогда Мэри, пока не провалились мои попытки видеть это иначе, пока я не оставил веру в ложь о собственном искуплении, пока страдания других не возбудили во мне плач, зазвучавший отчетливее и яснее гимна собственным желаниям. Уитмена я впервые прочел с Мэри и был им покорен. Зеленые листья и сухие листья, копья летней травы, поворот головы, ожидающей, что будет дальше. И мой язык тоже вырос на родине – каждый атом этой крови рожден этой почвой, этим воздухом. Но это многообразие не стало моим. И не будет здесь песен прославления.
Хронология событий
1964–68 Мои родители встречают друг друга в Лахоре, в Пакистане, женятся, иммигрируют в Соединенные Штаты
1972 Я рождаюсь на Стейтен-Айленде
1976 Мы переезжаем в Висконсин
1979 Кризис с заложниками в Иране; у матери впервые обнаружен рак (рецидивы в 1986, 1999 и 2010)
1982 Первая попытка отца завести частную практику
1991 Частная практика отца терпит крах, он объявляет себя банкротом и возвращается в академическую медицину
1993 Отец знакомится с Дональдом Трампом
1994 Ужин с тетей Асмой; чтение Рушди
1997 Последняя встреча отца с Трампом
1998 В Пакистане убит Латиф Аван
2001 Теракт 11 сентября
2008 Семейная поездка в Абботтабад, в Пакистан
2009 Поломка автомобиля в Скрэнтоне
2011 Убит Бен Ладен
2012 Премьера постановки в Нью-Йорке, знакомство с Риазом Риндом, смерть Кристины Лэнгфорд и ее нерожденного младенца
2013 Пулитцеровская премия по драматургии
2014 Вступление в совет «Фонда Риаз Ринд»; знакомство с Ашей
2015 Диагностирован сифилис; умирает мать; Трамп объявляет себя кандидатом в президенты
2016 Трамп избран президентом
2017 Продаю свою долю в «Тимур Капитал»; в Чикаго ставят «Торговца долгом»; отца судят за врачебную ошибку
2018 Я начинаю писать эти строки
Семейная политика
I. На первую годовщину пребывания Трампа в должности
Мой отец впервые встретился с Дональдом Трампом в начале девяностых, когда им обоим было за сорок – отцу на год больше, чем Трампу, – и каждый из них выбирался из-под виртуальных финансовых развалин. Неудержимая склонность Трампа влезать в долги и его проблемы с одолженными деньгами широко освещались бизнес-прессой того времени: к девяностому году организация, носящая имя Трампа, рушилась под тяжестью ссуд, которые он набрал, чтобы сохранить свою систему казино на плаву, отель «Плаза» открытым, а самолеты своей авиалинии – на лету. Эти деньги имели свою цену: он был вынужден частично их гарантировать, став персонально ответственным за более чем восемьсот миллионов долларов. Летом того же года «Вэнити фэр» в большой статье очертила тревожный портрет не только финансов этого человека, но и его психического состояния. Разведясь с женой, он переехал из семейного триплекса в маленькую квартирку на нижнем этаже башни «Трамп Тауэр». Днем он целыми часами лежал на кровати, глядя в потолок. Не выходил из здания ни для деловых встреч, ни для еды – существуя на диете из бургеров и картофельных чипсов, доставляемых из местного дели. Живот у Трампа вырос стремительно, как его долги, волосы отросли и, нечесаные, закручивались на концах. И дело было не только во внешнем виде. Он стал нехарактерно для себя тих. Ивана признавалась друзьям, что тревожится. Она никогда его таким не видела и не была уверена, что он выкарабкается.
Мой отец, как и Трамп, в восьмидесятых нахватал долгов и к концу десятилетия не был уверен в своем финансовом будущем. Будучи врачом, он ушел в частную практику, прервав карьеру в академической кардиологии, как раз когда начался кризис с заложниками. К тому времени, как Рейган вступил в должность, он начал, как сам это любил называть, чеканить деньги. (Пенджабский певучий акцент всегда придавал этим словам такое звучание, будто речь идет о вкусе этих новых денег, а не о деятельности по их добыванию). В 1983-м отец, имея столько денег, что не знал, куда их девать, принял участие в семинаре по инвестициям в недвижимость в Рэдисон-отеле в Уэст-Эллис, Висконсин. К вечеру воскресенья он выдвинул предложение на первую свою недвижимость – буклетом один из инструкторов «поделился» с участниками во время перерыва на ланч, – бензозаправку в Барабу всего в нескольких кварталах от того места, где начинали свой цирк братья Ринглинг. Что вообще ему нужно от какой-то бензозаправки – таков был совершенно разумный вопрос, прямо поставленный матерью, когда он на следующей неделе объявил ей эту новость. Чтобы отметить, он смешал кувшин ласси «рух афза» – шипучего напитка со вкусом розы, любимого питья матери. В ответ на ее вопрос он пожал плечами и протянул ей стакан. Но у нее не было настроения.
– Что ты знаешь о бензозаправках? – спросила она с некоторым раздражением.
– Мне не надо знать тонкости их работы. Дело солидное, хорошие денежные поступления.
– Денежные?
– Фатима, она приносит деньги.
– Если она приносит столько денег, какой смысл был ее продавать?
– У людей могут быть свои причины.
– Какие? Похоже, что ты говоришь о том, в чем не разбираешься. Ты пил?
– Нет, я не пил. Ты будешь ласси или нет?
Она резко мотнула головой. Он предложил стакан мне, но я тоже не хотел – я эту штуку терпеть не мог.
– Я не жду, что вы поймете. Не жду, что вы меня поддержите. Но через десять лет вы вспомните, оба вспомните, и увидите, что я сделал прекрасную инвестицию!
Я не очень понял, как я должен был на это реагировать.
– Инвестицию? – переспросила мать. – Это как когда ты идешь в магазин и каждый раз покупаешь новую пару темных очков?
– Я их все время теряю.
– Я тебе могу пятнадцать штук показать прямо сейчас.
– Не таких, как мне нравятся.
– Как я тебе сочувствую, – сказала она, и голос ее сочился сарказмом. Она направилась к двери.
– Вот увидите! – крикнул отец ей вслед. – Вот увидите!
Что нам предстояло «увидеть», – это последующие «инвестиции» в торговый центр в Джейнсвиле, еще один в Скоки, Иллинойс, в палаточный лагерь рядом с Уосо и ферму разведения форелей возле Фон-дю-Лак. Если вы не видите логики в этом инвестиционном портфеле – то вы не один такой. Оказалось, что все эти бессистемные покупки совершались по совету того же инструктора семинара, Чета, который ему продал его первую недвижимость. Все они финансировались за счет долга, каждый объект служил некоторой формой залога для другого в странной конструкции фирм-прокладок, созданных Четом – за что ему еще предстояло загреметь под суд после ссудно-сберегательного кризиса. Моему отцу посчастливилось не попасть под удар закона. И да, разумеется у нас на полке в гостиной был обязательный экземпляр «Искусства сделки» Трампа, но это еще через несколько лет.
Мой отец был всегда для меня загадкой. Сын имама, для которого единственными священными именами – «Харлан», «Фар ниенте» и «Опус уан» – были сорта калифорнийского каберне, которые он обожал. Который поклонялся Диане Росс и Сильвестру Сталлоне, а игре в ранг, оставшейся в Пакистане, предпочитал покер, освоенный в Америке. Человек непредсказуемых желаний и порывов, склонный отсчитывать чаевые от полной суммы счета без учета скидок (иногда и еще добавить); никогда не перестававший восхищаться американским оптимизмом и никогда не переставший укорять меня за подростковое отсутствие такового: да если бы ему повезло, как мне, родиться здесь? Так он бы не только никогда не стал врачом! Может быть, он бы на самом деле был счастлив! И правда, не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь был так доволен, как в несколько средних рейгановских лет, когда – при обещании бесконечных легких денег от системы, – он каждое утро видел в зеркале отражение успешного бизнесмена, человека, который сделал себя сам. Радость эта оказалась кратковременной: крах рынка в восемьдесят седьмом породил каскад неблагоприятных «кредитных событий», которые к началу девяностых обратили чистую стоимость его активов менее чем в ничто. У меня тогда только-только начался второй год в колледже, и он позвонил и мне сказал, что продает свою практику, чтобы избежать банкротства, и мне придется оставить учебу, если я не добьюсь для себя студенческого займа. (Я добился.)
Хоть и не совсем переродившись при этом обратном зигзаге удачи, отец все же на время устыдился и присмирел. Он вернулся на место профессора клинической кардиологии в университете и вновь занялся исследовательской работой – для которой, вопреки его собственному мнению, явно подходил. И действительно, через три года после возвращения в академический мир он снова вырвался вперед в своей области исследований и даже получил медаль за исследование малоизвестной патологии, называемой синдром Бругада. Таким образом он второй раз получил премию «Исследователь года Американского колледжа кардиологии» и стал третьим врачом в ее истории – и, вероятно, самым неплатежеспособным – награжденным этой премией дважды.
Именно работа отца над синдромом Бругада – редким и часто смертельным видом аритмии – привела его к первой встрече с Дональдом Трампом.
* * *
В девяносто третьем году неприятностей у Трампа был все еще легион. Он обратился к своим братьям и сестрам с просьбой одолжить денег из семейного траста, чтобы заплатить по счетам. (Через год с небольшим он попросил еще). Ему пришлось отказаться от яхты, от авиакомпании, от своей доли в отеле «Плаза». Банкиры, наблюдающие за реструктуризацией его вложений, поставили его на строгую ежемесячную выплату. Пресса тоже не давала ему спуску: его любовница Марла Мейплз снова была беременна, а его умеющая общаться с журналистами и наконец-то бывшая жена уничтожала его в глазах общественного мнения.
Короче, испытаний на его долю тогда выпало много, и появление тахикардии не стало слишком большим сюрпризом для Трампа или для его врачей. Как описывал Трамп моему отцу, впервые это тревожное ощущение он испытал, играя в гольф в необычайно жаркое утро в Палм-Бич: какое-то странное чувство в груди, будто колотят в далекий барабан, а потом накатила слабость. Когда он сел на тележку для гольфа передохнуть, стук приблизился, стал сильнее. «Такое чувство, будто сердце изнутри колотится в этот большой пустой барабан»[1].
Через несколько дней после этого приступа на поле для гольфа Трамп ужинал в «Брейкерз» – одном из самых роскошных тогда курортов в Палм-Бич. Ресторан этот он терпеть не мог – или так отец понял из его объяснений в процессе первого осмотра пациента, – но должен был туда пойти для деловой встречи с членом городского совета, который, как думал Трамп, зная, как он ненавидит «Брейкерз», специально устроил деловой ужин именно там. Ходатайство Трампа о превращении Мар-а-Лаго[2] в частный клуб все еще было на рассмотрении, и поддержкой от городского совета Палм-Бич он пренебрегать не мог. Поэтому пришлось идти в «Брейкерз», хотя, как он сказал, еда там отвратительная и неоправданно дорогая, а цены задраны до небес. («Вот подождите, заработает мой клуб, мы этот “Брейкерз” похороним»). Он заказал рибай на косточке («Хорошо прожаренный, док, только так. Потому что я не знаю эту кухню, не знаю, какая у них там грязь, и кто что готовит, кто трогает пищу. Нет, единственно надежно – стейк, рыбу – что угодно, но хорошо прожаренное. Если, конечно, это не моя кухня, а вот у нас будет классный ресторан в Мар-а-Лаго, потрясающий, но вот… пока что там надо брать только хорошо прожаренное, просто я думаю, что так оно безопаснее»), – и вот как только еду принесли к столу, Трамп сказал, что тут-то на него и навалилась слабость. Он встал и извинился, чтобы выйти в туалет, и не сразу узнал себя в зеркале – так он побледнел. И снова было то же ощущение, что на поле для гольфа: сердце колотится, будто внутри кожи пустого барабана. Он понял, что с ним что-то происходит и что надо домой.
До Мар-а-Лаго было недалеко – всего три мили, но как только машина отъехала от стоянки, ему начало становиться хуже. Проезжая бульвар Оушен, Трамп попросил водителя остановиться, и тут оно и случилось. Следующее, что он помнил, – как он лежит на тротуаре и слышит плеск волн. Водитель потом ему сказал, что он свалился лицом вниз, прямо на коврик под задним сиденьем. Водитель вышел, перевернул его и увидел, что глаза у Трампа закатились под лоб. Нащупать пульс на руке или на шее не удавалось, сердцебиение в груди не ощущалось. Водитель сильно его встряхнул, и Трамп так же моментально, как потерял сознание, пришел в себя. Кровь прилила к щекам, в жилах на лбу появился пульс. Дезориентированный Трамп вылез из машины и лег на тротуар возле пляжа. Ровный шум ритмично набегающих на берег волн, скажет впоследствии Трамп моему отцу, будто усмирял это странное колотье в сердце.
Врачебные осмотры последующих дней и недель указывали на какой-то непорядок в сердце, но сама сердечная мышца у Трампа была здоровой, коронарные артерии без сужения просвета. Ряд дальнейших анализов произвел на свет стопку кардиограмм, на которых иногда встречался рисунок, специалистом в Палм-Бич никогда ранее не виданный. Он смутно напоминал контур акульего плавника. Даже в конце девяносто третьего года мало кто из кардиологов знал, что так выглядит синдром Бругада.
Кардиограммы были переданы в больницу Маунт-Синай в Нью-Йорке, откуда штатный кардиолог направил их моему отцу в Милуоки.
Считающийся ведущим специалистом по Бругада в Штатах, а в мире уступающим только братьям Бругада, описавшим этот синдром в своей лаборатории в Бельгии, отец уже привык к пачкам кардиограмм и пациентам, прибывающим в его лабораторию со всей страны – а впоследствии и с Дальнего Востока. И Трамп точно не был первым достаточно известным человеком, чей случай ему пришлось рассматривать. В предыдущем году отец летал первым классом в Бруней, где обследовал самого султана – в лаборатории, к моменту приземления в Бандар-Сери-Бегаван уже оборудованной по спецификациям отца. Хотя Трамп монархом не был (по крайней мере, еще не был), но лететь в Милуоки он тоже не был согласен. Так что отец полетел – опять же первым классом – в Ньюарк, где его ждал вертолет Трампа. Вертолет привез его на площадку над Гудзоном, там его подобрала машина и привезла в Маунт-Синай. Оказавшись в кабинете, где имелось оборудование для целой серии анализов – обычная ЭКГ в двенадцати отведениях плюс оборудование для мониторинга под нагрузкой, и если ничего не спровоцирует аритмию синдрома Бругада, то была возможность ввести какой-нибудь алкалоид внутривенно, – отец стал ждать прихода пациента. Но Трамп так и не показался.
Ночью, в предоставленном ему номере отеля «Плаза», отец уже засыпал, когда на ночном столике зазвонил телефон. Это был лично Дональд. Далее следует моя аппроксимация этого разговора, составленная по воспоминаниям отца – и свидетельствующая прежде всего о невероятной внимательности этого человека:
– Доктор… кажется, никто не знает, как это правильно произносится.
– Я уже привык.
– А как вы это произносите?
– Ак-тар.
– Ак, как ак-кумулятор.
– Примерно.
– Но вы это именно так произносите? Вы откуда? (Вы вообще откуда?)
– Пакистан.
– Пакистан…
– И там это имя произносится иначе.
– Я способный, я смогу сказать правильно.
– Мы произносим Акхтар.
Отец восстановил исходный гуттуральный звук «кх», которым никогда ни один белый американец, согласно его опыту, овладеть не мог. На другом конце линии замолчали ненадолго.
– Хм. Звучит трудно. Даже не знаю, доктор…
– Актар сойдет, мистер Трамп.
И они оба рассмеялись.
– Ну, окей, пусть будет Ак-тар. А вы меня зовите Дональд, прошу вас.
И дальше Трамп пустился в извинения, что не пришел на прием.
Обезоруженный его теплотой, отец стал смягчаться. Трамп спросил, достаточно ли просторен номер:
– Это же Нью-Йорк. Здесь трудно хоть когда-нибудь почувствовать, что тебе хватает места. Но я велел вас поместить в хороший номер. Вам нравится? Мы эти номера переделали, когда я купил гостиницу…
– Мистер Трамп…
– Этот отель – шедевр, доктор. Это «Мона Лиза», вот это что.
– Мистер Трамп…
– Дональд, пожалуйста.
– Прошу меня извинить, Дональд, но я приехал в Нью-Йорк не затем, чтобы жить в прекрасном отеле. Я приехал вам помочь. Не уверен, что вы понимаете, насколько серьезны могут оказаться ваши проблемы с сердцем. Если у вас Бругада, то я не преувеличу, сказав, что вы ходячая бомба. И можете не дожить до завтра.
В ответ было молчание. Отец продолжал:
– Я польщен вашим королевским приемом, Дональд. Действительно польщен. Но я только что прилетел из Брунея, где лечил султана. Он монарх, и он пришел в оговоренное время. Потому что понимал, что если не займется этой проблемой, может уже завтра оказаться мертвым.
– Окей, доктор, – сказал Трамп спокойным голосом после короткой паузы. – Я буду. В какое время?
– В восемь утра.
– Я прошу прощения, что не пришел сегодня. Я очень виноват, доктор. Это было неуважение к вам, к вашему времени. Я приношу свои извинения. Искренние.
– Все в порядке, Дональд.
– Вы меня прощаете?
Отец рассмеялся.
– Ну, вот и хорошо, вы смеетесь, – сказал Трамп. – Простите меня за сегодня, но завтра я буду. Первым делом. Обещаю.
* * *
В начале предвыборной кампании 2016 года, когда тщательно анатомировали характер Трампа и его стиль (и строили предположения о его реальных шансах), часто повторялось одно утверждение: Трамп не умеет извиняться. Пока он катился от одной лжи и сделанных под влиянием дурных советов ложных шагов к следующим, конца не было замечаниям, что этот человек, похоже, не способен сказать, что он ошибся и сожалеет, – даже если это ему может быть на пользу. Признать, что ты был неправ, – значит показать слабость, а это, казалось, противоречит не только всем и каждому из его инстинктов бизнесмена, но еще и самому строю всей его жизни. Нескрываемое презрение к слабости – вот что я видел в каждом выпуске шоу «Кандидат»[3]. Неизменно конкурсант, оказавшийся на острие уничтожающей подписи Трампа, выплюнутый на Пятую Авеню, богооставленный, бывал увезен – на черном лимузине – подальше от олимпийского номера возле вершины башни «Трамп-Тауэр», где оставшиеся соискатели пили шампанское и славили мудрость выбора мистера Трампа. Неизменно сам этот конкурсант был тот, кто слишком хотел разделить вину, слишком хотел признать, что неудача команды именно такова, как есть, – неудача команды, а не отдельного человека. И недоумение Трампа при подобных проявлениях здравомыслия и товарищества меня поражало. Возможно ли, что он в самом деле верил, будто обвинение другого человека ради сохранения собственного лица – это легитимная бизнес-стратегия? Конечно, теперь мы знаем, что это было нечто больше, чем просто слова, что-то близкое к summum bonum[4] в мировоззрении (Weltanschauung) Трампа. Вполне может быть, что свою реальную роль он играл в том телефонном разговоре с отцом – и на следующее утро, когда он явился на прием вовремя с двумя чашками кофе и подарочной коробочкой со значком «Любите жизнь!» которую, как он надеялся, отец примет в знак его искреннего раскаяния. Отец это навсегда запомнил.
Для размышления: хватило всего-то дешевой побрякушки, которую Трамп, вероятно, прихватил в магазине сувениров в собственной башне, чтобы отец с полным убеждением через много лет отметал все разговоры о человеке, не умеющем извиняться. «Знали бы они его!» – плевался он на теледикторов, и обычно добавляя слова, иначе интерпретирующие девиз значка. «Знали бы они его, никогда бы такого не сказали. Знали бы с самого начала, что они не правы».
* * *
Предстояло потратить много лет, чтобы разобраться в болезни Трампа. Хотя отец все еще считал, что синдром Бругада возможен, уверенности у него не было. Пространства для маневра было весьма мало: без лечения синдром Бругада обычно фатален. Но единственное возможное лечение – это вживление дефибриллятора, чего Трамп не хотел, если у отца не будет полной уверенности, что это необходимо. Такого заверения отец дать не мог, потому что «акулий плавник», характерный для Бругада, не был найден ни на одном из протоколов холтеровского монитора и ни при одном из регулярных осмотров раз в два года, ради которых отец летал к Трампу в Нью-Йорк. Обмороков тоже больше не было, хотя Трамп постоянно сообщал об этом странном пустом стуке в груди. Вместе с этим ощущением возникала одышка, тогда Трамп садился и ждал, чтобы все прошло. Определенно это были приступы аритмии, но, возможно, не вариации Бругада. Отец назначил ему легкий бета-блокатор и установил ежедневную норму потребления жидкости. В течение четырех лет эти меры вроде бы сдерживали тревожные симптомы.
К 1997 году развитие генного тестирования дало возможность определенно сказать, что у Трампа нет того угрожающего жизни состояния, о котором говорили предыдущие кардиограммы. Когда диагноз синдрома Бругада был снят с повестки, у отца не осталось причин для поездок. Посещения прекратились. Трамп никогда больше не звонил. На самом деле отец никогда не проводил сколько-нибудь существенное время с этим человеком вне врачебного кабинета в «Маунт-Синай». Помимо утренних сердечных исследований иной раз случался обед или ужин, или номер с компьютером в «Плазе», а как-то раз – поездка в Атлантик-Сити, где отец сел за стол баккара и проиграл пять тысяч долларов за десять минут, пока Трамп заглядывал ему через плечо. У отца не было разумных оснований испытывать ту близость к Трампу, которую он ощущал, но такие вещи редко бывают разумными. Он чувствовал нечто вроде лишения – фактически, горя, траура. Простое упоминание имени Трампа – в вечерних новостях, в ежедневной газете, – могло погрузить его в мрачное молчание.
- Английский пациент
- Бегуны
- Осень
- Десятое декабря (сборник)
- Диковинные истории
- Зима
- Весна
- Последние истории
- Лягушки
- Бруклинские глупости
- Патруль джиннов на Фиолетовой ветке
- Небесные тела
- И дети их после них
- Сестры
- Синий билет
- Протокол для гувернантки
- Лето
- Кошкин стол
- Проглоченный
- Колибри
- Страна вина
- Когда Нина знала
- Нью-Йоркская трилогия
- На гребнях волн
- Элегии родины
- Стая