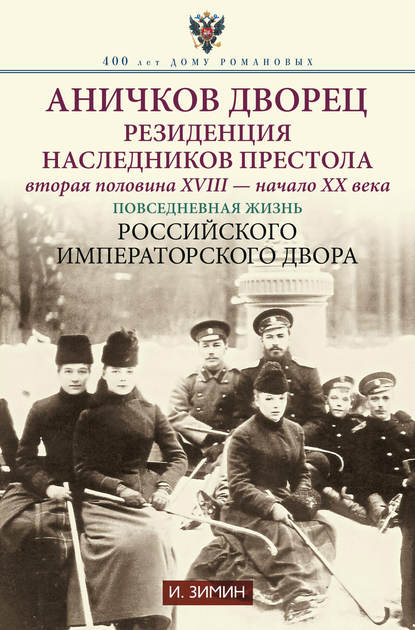Аничков дворец. Резиденция наследников престола. Вторая половина XVIII – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора
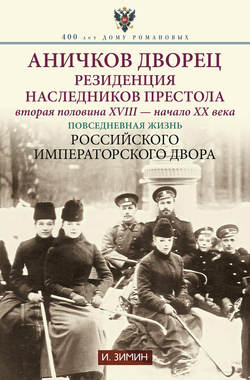
000
ОтложитьЧитал
Когда в Петербурге в 1824 г. произошло катастрофическое наводнение, великий князь находился в отъезде. Из депеш он узнал о том, что вода из Фонтанки докатилась до дворца. 12 ноября 1824 г. Николай записал в дневнике: «…узнал от Миллера[167], что надо проехать через Поцелуев[168] и перспективу, чтобы попасть к себе, прибыл к себе в 11 1/2, след от воды в вестибюле на 6 ступенях, все попорчено, к малышам, Мэри просыпается и узнает меня, Блок, поднялся к Саше, спит, у себя, говорил, узнал, что весь низ дома был затоплен, мои лошади в комнатах Блока и в коридоре, караул выбирался через окно и пр., написал Матушке, разделся, написал жене, ужинал, лег».
Относительно стабильная и спокойная жизнь семьи великого князя Николая Павловича в Аничковом дворце закончилась 22 ноября 1825 г., когда в Зимнем дворце получили известия о болезни Александра I. После этого Николай несколько дней провел в Зимнем дворце, отмечая, что «спал одетым» (26 ноября 1825 г.). Наконец, 27 ноября 1825 г. он записал в дневнике: «В библиотеке моего Отца, Милорадович, вижу по его лицу, что все пропало, все кончено, что нашего Ангела нет больше на этой земле! – конец моему счастливому существованию, что он для меня создал! Его службе, его памяти, его воле я посвящаю остаток моих дней, все мое существо, помоги мне Господь и дай мне его в Ангелы-хранители».
Фактически с этого дня Николай и Александрин переселились в Зимний дворец, но дети продолжали оставаться в Аничковом дворце. 3 декабря 1825 г. Александра Федоровна записала в дневнике: «Какие решающие дни! Я уже грущу при мысли о том, что мы больше не сможем жить в нашем доме, где мне придется покинуть мой милый кабинет, что наша прекрасная частная жизнь должна окончиться. Мы были так тесно связаны друг с другом, мы так неизменно делили друг с другом все наши горести, печали и заботы! Ах, это горе, эта боль в сердце – она все не прекращается, не прекращается также и тревога, ожидание этого неизбежного будущего!…Мой жребий все же прекрасен. Я буду и на троне только его подругой! И в этом для меня все!»[169].
К началу декабря Николай Павлович и Александра Федоровна фактически переехали на жительство в Зимний дворец, бывая у себя в Аничковом только наездами. Так, в воскресенье 6 декабря 1825 г. Александра Федоровна писала: «Сейчас 7 часов; мы вернулись из нашего дома, где мы спали в течение получаса в моем милом кабинете на старом…[неразб.]. Отдых Николая был, однако, скоро прерван. В дальнейшем это будет повторяться все чаще и чаще»[170].
12 декабря 1825 г. великая княгиня Александра Федоровна впервые ощутила себя императрицей. Она писала в дневнике: «Итак, впервые пишу в этом дневнике как императрица. Мой Николай возвратился и стал передо мною на колени, чтобы первым приветствовать меня как императрицу. Константин не хочет дать манифеста и остается при старом решении, так что манифест должен быть дан Николаем»[171]. В этот день после обеда императорская чета нашла несколько минут, чтобы съездить в Аничков дворец к детям. Там в маленьком кабинете Александра Федоровна, уже знавшая и судьбу Петра III, и судьбу Павла I, молилась за мужа…
Днем 13 декабря императорская чета вновь сумела заехать в Аничков дворец, для того чтобы повидать детей и пообедать с ними. Ночевали супруги одни, уже в Зимнем дворце, и там, ночью, когда императрица осталась одна, она «плакала в своем маленьком кабинете, ко мне вошел Николай, стал на колени, молился Богу и заклинал меня обещать ему мужественно перенести все, что может еще произойти. „Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, – умереть с честью“»[172]. Они прекрасно осознавали, что угроза насильственной смерти вполне реальна, что прежняя жизнь закончилась, но не знали, что их ждет на следующий день…
14 декабря 1825 г. Николай I отправил своего адъютанта А.А. Кавелина в Аничков для того, чтобы немедленно перевезти детей в Зимний дворец. Великая княгиня Ольга Николаевна, вспоминала: «14 декабря мы покинули Аничков дворец, чтобы переехать в Зимний, входы которого можно было лучше защищать в случае опасности. Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды, вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, Бабушку с сильно покрасневшими щеками»[173].
Примечательно, что сначала из Аничкова в Зимний дворец перевезли трех дочерей царя, проверяя безопасность маршрута. Только после этого в императорскую резиденцию, отдельно, в простой наемной карете, перевезли наследника – великого князя Александра Николаевича и его воспитателя К.К. Мердера. Этот шаг с наемной каретой должен был защитить наследника от возможного покушения. Подчеркну, что эти меры безопасности были совершенно оправданны, поскольку в ходе следствия над декабристами выяснилось их твердое намерение ликвидировать в ходе переворота всю императорскую семью, списав это на неизбежные «эксцессы исполнителей».
Добавлю, что в ходе противостояния на Сенатской площади Николай I думал и о семье. Поэтому он отправил в Зимний дворец своего адъютанта, друга с детских лет, В.Ф. Адлерберга, чтобы он подготовил выезд членов императорской семьи в Царское Село, в случае негативного развития ситуации.
Так 14 декабря 1825 г. закончилась жизнь семьи великого князя Николая Павловича в Аничковом дворце и началась жизнь семьи императора Николая I в Зимнем дворце. При этом с 1825 г. Аничков дворец официально стал именоваться «Собственным Его Императорского Величества Дворцом».
В последующие годы семья Николая I время от времени жила в Аничковом дворце, куда переезжала из Царскосельского Александровского дворца в октябре-ноябре, возвращаясь в Зимний дворец к Николину дню – 6 декабря – тезоименитству Николая I, начиная сезон больших зимних балов. Ольга Николаевна вспоминала, что: «Осенью мы жили в Аничковом, там мои Родители находили снова тихий покой своей молодости, который они так любили, вне всякого этикета. Часто, после утомительных дней приемов и маскарадов, они уезжали туда, чтобы быть вдвоем. Страстную Неделю они проводили всегда в Аничковом. Там и мы все готовились к исповеди и Причастию».
Мемуаристы оставили воспоминания о пребывании семьи Николая I в Аничковом дворце после 1826 г. Например, Долли Филькельмон записала в дневнике 10 ноября 1833 г.: «Позавчера была в Аничковом дворце в будуаре Императрицы. Я оставалась у нее долго, и мне просто не верилось, что предо мной Государыня, я постоянно поддавалась соблазну видеть в этом очаровательном создании только добрую, милую и обычную смертную женщину!»[174]. Этот порядок переездов из резиденции в резиденцию поддерживался вплоть до декабря 1837 г., т. е. до пожара, в котором Зимний дворец погиб, а семья Николая I на два года вернулась в свой Аничков дворец.
Хронология этой трагедии, когда погиб «старик», как назвал Зимний дворец император, восстанавливается по записям камер-фурьерского журнала[175]: «9 декабря 1837 г. семья выехала из Москвы по санному пути. 12 декабря в домовой церкви Царскосельского Екатерининского дворца слушали панихиду по Александру I». 14 декабря состоялся высочайший выход в Малую церковь Зимнего дворца «к слушанию молебна с коленопреклонением за прекращение бунта бывшего 14 декабря 1825 г.». В пятницу 17 декабря в 19.35 «выезд имел в Большой каменный театр, в ложе при представлении российскими актерами пьесы. В продолжении оной Государя Императора известили через дежурного флигель-адъютанта Лужина, что в Зимнем Дворце Фельдмаршальское зало начало 25 минут 9 часа гореть, по каковому случаю Его Величество прибыл из театра в 9 часов во Дворец и проходил к обозрению пожара»[176].

Пожар в Зимнем дворце. Худ. К.-Ж. Верне. 1838 г.
После начала пожара из Зимнего в Аничков вывезли семью императора. В камер-фурьерском журнале указано, что императрица Александра Федоровна «с великою княжною Мариею Николаевной отсутствовала из Зимнего Дворца в карете в Собственный, куда приехала в час пополуночи. А перед тем в разное время прибыли из Зимнего Дворца в Собственный Их Высочества великие князья Константин Николаевич, Николай Николаевич и Михаил Николаевич, великие княжны Ольга Николаевна и Александра Николаевна. Его Величество по обозрении в Зимнем Дворце пожара, изволил приехать в Собственный дворец в санях с государем наследником 30 минут 2 часа пополуночи».
После того как семья Николая I поздно ночью собралась в Аничковом дворце, никто не спал, и «За вечерним столом Их Величества кушали на своих половинах».
На следующий день, в субботу 18 декабря, уже в 7.30 Николай I «выезд имел один в санях к Зимнему Дворцу для обозрения в оном пожара и потом прибыл обратно в Собственный дворец». В 10 часов утра «в Собственный дворец изволила в карете прибыть Ея Высочество великая княгиня Елена Павловна». В 11.40 «утра Его Величество с Государем Наследником выезд имел вторично в санях к обозрению пожара в Зимнем Дворце и после того приехал обратно в Собственный дворец 55 мин 1 часа пополудни». Поздно вечером (21.30–22.05) Николай I еще раз съездил «к Зимнему Дворцу для обозрения не погасшего в оном пожара»
Так как Зимний дворец выгорел до обугленных стен, семья обустраивалась в Аничковом дворце надолго. В этот день Николай I в своем кабинете Аничкова дворца принимал доклады силовиков: военного министра А.И. Чернышова; начальника III Отделения СЕИВК А.Х. Бенкендорфа; военного генерал-губернатора графа П.К. Эссена и коменданта Петропавловской крепости П.П. Мартынова. Обедали в этот день Николай и Александра в Кабинете императрицы.
Об этих же события довольно подробно пишет дочь Николая I – великая княгиня Ольга Николаевна в своих воспоминаниях, названных ей «Сон юности…»: «В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, Папа неожиданно появился у нас с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. „Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков“, – сказал он поспешно. В то же время взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: „Горит!.. Горит!..“ Мы раздвинули портьеры и увидели, что как раз против нас клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала… С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи… Когда я поднялась утром в Аничковом наверх к Мэри, она сидела за кофе, перед ней в вазе, как обычно, благоухал ее воскресный букет: белая камелия, несколько ландышей и вереск. Россети, бывший камер-паж, теперь офицер Преображенского полка, принес эти цветы вместе с лорнеткой, бриллиантовыми брошками и другими мелочами, которые лежали на подзеркальнике ее туалетной. Он знал все ее привычки и трогательно позаботился о том, чтобы все было на месте при ее пробуждении. Папа всю ночь пробыл на пожаре. Утром нам сказали, что сгорел весь дворец. В обеденное время мы поехали туда и увидели, что огонь вырывается вдоль крыши, как раз над комнатами Папа. Окна лопнули, и посреди пламени виден был темный силуэт статуи Мама, единственной вещи, которую не смогли спасти, так как она придерживалась железной скобой, замурованной в стене».

Великая княжна Ольга Николаевна
Зимний дворец, конечно, любили, но не меньше любили и Аничков. Очень тепло и подробно об этом времени вспоминала Ольга Николаевна: «Мы опять оказались сбитыми в тесную кучу в любимом гнезде нашего детства Аничковом дворце. Это был счастливейший период моей юности. Мы жили как в русской поговорке: в тесноте, да не в обиде. Теснота делала совместную жизнь более интимной, чем в Зимнем дворце, где квартиры были разделены громадными коридорами. Там невозможно было между двумя уроками быстро пожелать друг другу доброго утра: следующий преподаватель уже ждал с уроком. И так было во всем.
Мэри выбрала себе единственную солнечную комнату, бывшую детскую столовую. Она так устроила ее, что она служила ей одновременно и кабинетом, и гостиной, и спальней. Низи и Миша, два неразлучных, получили нашу бывшую детскую, тогда как Адини и я получили разные комнаты, потому что я, как пятнадцатилетняя, теперь ложилась позднее. Моя рабочая комната имела окно на площадь, откуда было видно, как проезжал мимо весь Большой свет. Конечно, эта комната стала сборным пунктом для всей семьи. В обеденное время проезжали домой чиновники из своих управлений. Около двух часов выезжал цвет молодежи, мы любовались выездами и лошадьми и обсуждали всякую мелочь.
К Рождеству я получила свою первую обстановку: письменный стол с креслом (оно еще существует до сих пор; мой муж употребляет его в своей туалетной, и подобные ему он заказал для всех своих комнат). Драпировка отделяла мой кабинет от рабочей комнаты. Перед столом была стоячая лампа под розовым абажуром. В одном из углов висела картина, которую я получила тогда ко дню рождения: старик в белом одеянии с красным крестом крестоносца. Под этой картиной стоял аналой с крестом и Евангелием. Здесь мы все исповедовались, и Мэри не могла видеть головы старца, не вспомнив о всех грехах, в которых она каялась под пристальным взглядом с темной картины».

Великая княжна Мария Николаевна
Ольга Николаевна описывает комнаты родителей в бельэтаже Аничкова дворца, так как она их запомнила в 1837–1839 гг.: «Комнаты Родителей над нами остались теми же, что прежде… Может быть, будет небезынтересно для истории, если я дам краткое описание комнат наших Родителей в Аничковом, как они были обставлены во вкусе 1817 года.
Спальня была обита голубым голландским бархатом, вся мебель, в стиле ампир, позолочена. Туалетная – белая, без ковра, с лепными украшениями на стенах и потолке. Громадное зеркало на подставках из ляписа занимало целую стену. Оно было еще со времен Императрицы Екатерины Великой. Перед камином стоял туалетный стол. Широкий диван стоял рядом с опущенной в пол ванной. Кроме этого, только несколько шкафов красного дерева и на стенах картины маслом, изображавшие членов Прусского Дома.
Кабинет был обит зеленым, потолок представлял небо в звездах с двенадцатью женскими фигурами – символами месяцев года. Двойной письменный стол, носивший шутливое название „двуспального“, перед ним кресло, у камина второе, для Папа, и ширма, украшенная сценами из „Илиады“. На окнах решетки, увитые плющом. Громадная печь, похожая своей формой на саркофаг, уставленная вазами, лампами и статуэтками. Я не знаю, было ли это красиво, но нам все нравилось, и никогда я больше этого не видела. Затем еще рояль, этажерки, уставленные раскрашенными чашками (самый изысканный подарок того времени, маленькими античными вазочками и безделушками). Прекрасные старые и новые картины висели по стенам. Мою любимую картину „Святое Семейство“ Франчески, к моей большой радости, я увидела потом в салоне Минни, стоящей на мольберте. Я не помню, что стало с обеими картинами Грёза: девушкой, смотрящейся в зеркало, и другой – с девушкой, играющей на флейте.
Будуар был очень мал, в нем помещался один диван и письменный стол с альбомами. Вот и все. Сюда Мама приходила в часы, когда хотела быть одна перед Причастием, здесь велись Родителями интимные разговоры и здесь же, перед прекрасным бюстом Королевы Луизы [Рауха], нас благословляли перед свадьбой, 10 марта, в день рождения ее матери, Мама украшала этот бюст венком из свежих цветов. Над письменным столом висели два ангела Сикстинской Мадонны, голова Христа, написанная мадемуазель Вильдермет [швейцаркой, гувернанткой Мама], два портрета— Саши и Мэри, акварелью, затем рисунок солдата-гвардейца, написанный Папа на дереве, и кое-что священное по воспоминаниям, совершенно независимо от художественной ценности. Сидя на ковре, мы читали в этом маленьком будуаре, особенно в Великий пост, английскую детскую повесть об Анне Росс, маленькой верующей девочке, умершей ребенком, и каждый раз, как рассказ приближался к развязке, мы плакали горькими слезами.
Затем надо упомянуть библиотеку с простыми шкафами, затянутыми серой тафтой.
Туалетная Папа – такая крошечная, что в ней с трудом могли передвигаться три человека, стены увешаны военными сценами и английскими карикатурами. Библиотека Папа была устроена так же, как библиотека Мама, с той только разницей, что в ней над шкафами висели портреты генералов, с которыми он вместе служил. И, наконец, кабинет Папа – светлое, приветливое помещение с четырьмя окнами, два с видом на площадь, два – во двор. В нем стояли три стола: один – для работы с министрами, другой – для собственных работ, третий, с планами и моделями, служил для военных занятий. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянным колпаком лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта декабристов 14 декабря. Затем еще портрет принца Евгения Богарне, рыцарский характер которого нравился Папа, как пример верности, не пошатнувшейся даже в несчастий. Когда Папа страдал головной болью, в кабинете ставилась походная кровать, все шторы опускались, и он ложился, прикрытый только своей шинелью. Никто не смел тогда войти, покуда он не позвонит. Это длилось обычно двенадцать часов подряд. Когда он вновь появлялся, только по его бледности видно было, как он страдал, так как жаловаться было не в его характере. Если ему хотелось несколько рассеяться между работой, он вызывал к себе Орлова или Эдуарда Адлерберга, брата Жюли Барановой и товарища его детских игр». Так выглядели ключевые помещения Аничкова дворца по воспоминаниям Ольги Николаевны.

Будуар императрицы Александры Федоровны в Аничковом дворце. Худ. Л. Премацци. 1855 г.
Как упоминает Ольга Николаевна, зима 1837/38 г., проведенная в стенах Аничкова дворца, стала «последней светской зимой для моих Родителей». По ее воспоминаниям, в эту зиму прошло «примерно двадцать балов, в том числе и dejeuners dansaiils[177]». Большая часть этих балов прошли во дворцах петербургской аристократии, поскольку Аничков дворец был слишком мал для привычных масштабных зимний балов. Поэтому светская жизнь в 1838–1839 гг. переместилась из парадных залов анфилад Зимнего дворца в гостиные дворцов петербургских аристократов и огромный зал Дворянского собрания, построенного к 1839 г.
8 ноября 1839 г. семья Николая I вернулась из Аничкова в восстановленный Зимний дворец. С этого времени Аничков дворец начал постепенно запустевать. В нем, конечно, еще проводились аничковские балы, ставились домашние спектакли, но уже не было той атмосферы беззаботного веселья, которая царила в его стенах до 1837 г. Дети вырастали, родители начали болеть, и Аничков дворец вступил в «пору зрелости».
На очень короткое время Аничков дворец ожил в начале 1844 г., когда в конце Великого поста в него переехала вся семья Николая I, чтобы, по традиции, приготовиться к Причастию. В Аничков переехали и молодожены – великая княгиня Александра Николаевна и принц Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский. К этому времени у юной супруги принца начала развиваться скоротечная чахотка, которую просмотрели ее лечащие врачи. Поэтому молодожены остались в Аничковом и после Пасхи, а семья, по традиции, вернулась в Зимний дворец. Но через три недели постельного режима врачи разрешили Александре Николаевне вернуться в Зимний дворец, где она вновь «поселилась в своих мрачных комнатах, страдая по свету и зелени садов в Аничковом, которые там были под ее окнами»[178].
Постепенное «угасание жизни» в Аничковом дворце продолжалось вплоть до 1857 г., когда Александр II расформировал Придворную контору резиденции, сократив ее штат до минимума. Вновь Аничков дворец «помолодел» в середине 1860-х гг., когда опять стал домом для молодой семьи.
Следует отметить, что после смерти в феврале 1855 г. Николая I в Зимнем дворце его личные комнаты в Аничковом дворце довольно долгое время сохранялись как мемориальные, по образцу и подобию мемориальной половины императора в Зимнем дворце. Но время и обстоятельства брали свое, и комнаты дедушки-императора внуки постепенно вводили в повседневный оборот. Начало этому процессу было положено в 1864–1865 гг., когда дворец начали готовить для цесаревича Николая Александровича. Как писала дочь Николая I – великая княгиня Ольга Николаевна: «После, когда теперь покойный Цесаревич Никс получил Аничков, он все переделал, и это отсутствие уважения к традициям оскорбило меня. Сашка же и Минни [Император Александр III и Императрица Мария Федоровна], напротив, относились с уважением к Аничкову дворцу, что делает честь их уму и сердцу».
Тем не менее, процесс ликвидации мемориальных комнат постепенно шел и при цесаревиче Александре Александровиче. Например, мебель карельской березы, стоявшую в комнатах Николая I, распоряжением Александра II в мае 1876 г. передали в Зимний дворец. Судя по комплекту передаваемой мебели[179], речь, видимо, шла о ликвидации Кабинета Николая I.
В архивном документе среди перевозимой в Зимний дворец мебели упоминается «стол письменный на ножках большой (1 шт.)», один из трех столов, из кабинета Николая I. Этот стол оказался на третьем этаже Зимнего дворца, где во второй половине 1870-х гг. Александр II оборудовал себе неофициальный кабинет на половине поселившейся там Е.М. Долгоруковой. В дополнении к своему завещанию, написанному в Главной квартире в Плоешти 9 июня 1877 г., Александр II писал старшему сыну, что он передает ему этот стол, «бывшим прежде в кабинете Батюшки, в Аничковом дворце»[180]. Вероятно, после гибели Александра II 1 марта 1881 г. стол Николая I либо вновь оказался в Аничковом дворце, либо его перевезли в Гатчину.
Кроме того, в начале 1870 г. Александр II распределил среди родственников вещи своих родителей, хранившиеся в кладовых Аничкова дворца. Так, цесаревичу Александру Александровичу по описи передали различные личные мелочи, принадлежавшие его бабушке и дедушке[181]. В мае 1870 г., видимо, под впечатлением проведенного раздела, цесаревич поручил «Вольному Общиннику Императорской Академии художеств Петру Николаевичу Петрову[182] написать историю Аничкова дворца»[183]. По распоряжению цесаревича, Петрова допустили к источникам: камер-фурьерским журналам и протоколам, хранившимся в архиве министерства Императорского двора. Однако, по невыясненным причинам, история Аничкова дворца так и не была тогда написана.
- Ювелирные сокровища Российского императорского двора
- Императорская кухня. XIX – начало XX века. Повседневная жизнь Российского императорского двора
- Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора
- Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора
- Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью. Повседневная жизнь Российского императорского двора
- Александровский парк Царского Села. XVIII – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора
- Аничков дворец. Резиденция наследников престола. Вторая половина XVIII – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора