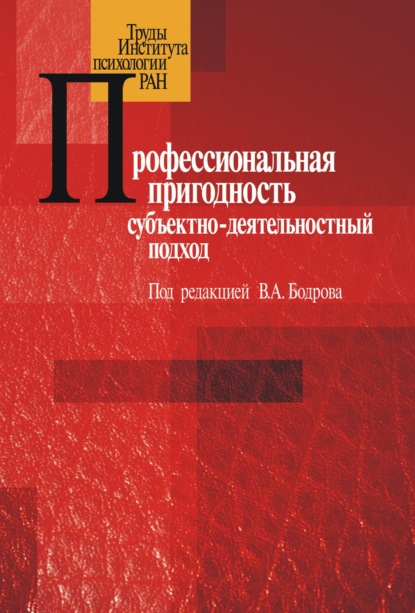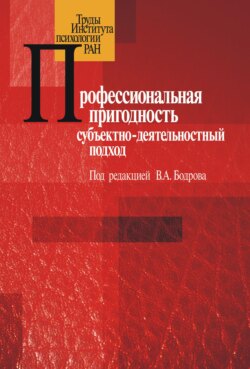
000
ОтложитьЧитал
Если на время абстрагироваться от теоретического контекста проблемы субъектности, то можно предложить модель, в которой профессионал как субъект ценностных ориентаций может соответствовать одному из следующих уровней субъектности: массовый профессиональный субъект, ориентированный на бесконфликтное следование ведущей социально-навязанной тенденции; прагматический, стремящийся действовать оптимально, исходя из «просчитанных» оценок наибольшего числа параметров реально складывающейся ситуации; творчески-рациональный, для психики которого характерно реагирование на изменение ситуации путем «творческого разрушения собственных стереотипов»; творчески-иррациональный, не подверженный разрушительному влиянию изменений среды на систему его ценностных ориентаций и способный удерживать высокий уровень профессионализма даже в самых неблагоприятных условиях; ригидно-иррациональный, неспособный к переоценке ценностей и оказавшийся в плену прежних стереотипов; агрессивно-рациональный, стремящийся к устранению факторов среды, не отвечающих его персональной модели «должного»; агрессивно-иррациональный, оказывающий активное сопротивление любым, даже очевидно-позитивным нововведениям.
В условиях затянувшихся реформ в системе человек – профессия – общество происходит социогенная инверсия ценностных ориентаций профессионала, представленная в трансформации массового профессионального субъекта как отражения наиболее выраженной тенденции профессиональной динамики. Это, во-первых, сдвиг иерархии ценностей и профессиональной этики от общественного к личному благу, во-вторых, снижение порога моральных запретов в сферах профессионального труда, подвергшихся коммерциализации, в-третьих, инверсия смысла профессии (качественная характеристика) вкупе со снижением социально-приемлемого уровня профессионализма (количественная характеристика). Иными словами, наблюдается системная трансформация социальной функции профессии, выразившаяся в тенденции отказа субъекта от безусловного выполнения профессиональных обязанностей и выполнения своих функций, обусловленных субъективным пониманием личной выгоды или безопасности, самозатрат, вознаграждения, и т. п.
В результате происходит разбалансирование индивидуальной и социальной моделей профессии. Типичным примером психолого-социального дисбаланса профессии является несоответствие психологической сложности и моральной нагрузки в высокотехнологичных и наукоемких областях (в науке, образовании, медицине, культуре) социальному статусу и материальному вознаграждению профессионалов.
В связи с этим возникает реальная коллизия между двумя системами профессиональных ценностей: номинальной и реально действующей. Произойдет ли их взаимная иннигиляция, поглощение одной системы ценностей другой или преобразование их приведет к новому пониманию смысла и функций профессии, – в любом случае общество примет новые правила лишь тогда, когда оно будет психологически готово их принять. Иначе даже вполне адекватные профессиональные действия в масштабах отдельной социальной группы, в конкретных, но довольно редких условиях, направленные на прогрессивные, но широко не принятые цели, вызовут психологическое отторжение общества, т. е. окажутся социально неадекватными.
В качестве параметров профессиональной идентичности мы выделили следующие психологические уровни субъектности. С компонентами системы «человек – профессия – общество» соотносятся такие аспекты субъектности, как: а) мотивационно-личностная субъектность профессионала, определяющая степень участия личности в собственном профессиональном выборе; б) функционально-деятельностная субъектность профессионала, обусловливающая качество выполнения профессиональных функций как решение профессиональных задач на следующих этапах: целеполагание, принятие решений, реализация решений; в) социально-нравственная субъектность профессионала, детерминирующая социальную значимость профессиональных поступков.
По параметру направленности активности субъекта (вектор действия) различаются:
А. Субъектность, направленная на преобразование внешнего мира: а) субъект деятельности; б) субъект принятия решения.
Б. Субъектность, направленная на преобразование себя:
а) физиологический субъект – субъект жизнеобеспечения;
б) функционально-психологическая субъектность – субъект самоактуализации; в) личностная субъектность – субъект самореализации (в профессии или других сферах бытия); г) социальная субъектность – субъект самоутверждения.
Особую форму социальной субъектности в сфере труда представляет «трудоголизм» как форма самоутверждения в профессии и через профессию. Это явление даже и самим названием квалифицируется не как норма, а как некое отклонение, перекос. С понятием профессиональной идентичности это явление не ассоциируется, скорее оно охватывает пограничные области: там, где кончается профессиональная идентичность, начинается трудоголизм, то есть когда личностная значимость труда становится самодовлеющей и отделяется от его социальной функции, а та, в свою очередь, – от инструментальной.
Внутренние мотивы такого явления очень широки и лежат в диапазоне, начинающемся с профессиональной «сверхмотивации», идущей от увлеченности профессиональной проблемой и стремления ее решить (т. е. когда профессиональная проблема становится личностно значимой), невзирая на внешнее окружение, затем включающем деятельность по вполне понятным мотивам самосохранения в труде, из-за стремления «укрыться» в нем от проблем реальной жизни, и кончающемся состояниями, граничащими с психопатологией, которые даже можно назвать «диагнозом». Последнее происходит при полном разрыве человека с реальностью, при отсутствии востребованности его труда, и даже в ущерб инстинкту самосохранения. Труд как бы становится одной из форм наркомании, то есть неконтролируемого сознанием пристрастного поведения. Возникает одержимость идеей, которая приобретает самодовлеющий характер и главенствующее положение в иерархии ценностей личности.
Трудоголическая личность – это личность негармоничная, ущербная в чем-то другом, объективно не менее жизненно важном, но на это «другое» у нее не остается ресурсов. Истинно идентичный профессионал отличается от трудоголика тем, что ему требуется сравнительно мало усилий для решения аналогичной проблемы.
Рассмотрение проблемы психологического соответствия уровней субъектности и профессиональной идентичности в динамике микросоциальных профессиональных отношений (социальных, личностных экономических) как отражения макросоциальных изменений, то есть в системе «человек – профессия – общество», позволило расширить и дифференцировать само понятие идентичности, выделив иные аспекты соответствия субъекта и профессии.
Один из аспектов – профессиональная аутентичность. Аутентичным является профессионал (от греческого «аудентикос»), чья профессиональная деятельность не может быть предметом личностного выбора. Примером тому является распределение трудовых функций как социальных ролей в первобытном обществе по признаку половой принадлежности, физической силы, по обстоятельствам рождения и воспитания; в наше время примером служит потомственный профессионал, «подлинный», социально и психологически тождественный своей профессии.
Исторически первичная реальная модель профессионально-трудовой специализации – это разделение функций в пределах первобытного стада, модель аутентичного профессионального соответствия «субъекта» и деятельности. Субъект здесь «в кавычках» не случайно, так как берется только одна, конечная ипостась этого понятия: тот, кто осуществляет «некий план поведения», выполняя определенные действия, хотя сам план поведения не им создан и не им сформулирован в виде профессиональных требований, а действия по его выполнению осуществляются таким субъектом по шаблону без элементов критики, коррекции, а зачастую – и без контроля сознания, автоматически.
На этом фоне профессиональная идентичность с привязкой к исторически характерным признакам, тенденциям и взаимосвязям личности, профессии и общества приобретает дополнительные качественные характеристики.
Профессиональная идентичность — это всегда результат личностного выбора в соответствии со своими способностями, склонностями, духовными потребностями, когда профессия выступает как способ самореализации, ментальное и функционально-психологическое соответствие личности внутренней сути своей профессии, оцененное по современным цивилизационным критериям. Идентичный профессионал соответствует профессии извне по всем признакам и требованиям, то есть имеется два ряда характеристик (в профессии и в личности), которые, не являясь (и не могущие быть в силу качественного различия профессии и человека) качественно тождественными, являются взаимно однозначно соответствующими.
В этом же ряду понятий могут рассматриваться иные (не идентичные) формы психологического соответствия: социальноприемлемое соответствие профессионала именно в данном культурно-цивилизационном пласте (обществе, регионе, социальной группе) и профессиональный маргинализм как имитация профессиональных функций без сохранения их внутреннего социально значимого содержания.
Занятие профессиональной деятельностью безотносительно к социальным потребностям в ней и наличию адекватного материального вознаграждения может квалифицироваться как профессиональная аутичность или аутичность профессионального самосознания: Понятие аутичного профессионала частично смыкается с понятиями квазипрофессионал, псевдопрофессионал.
Литература
1. Абульханова-Славская К. А. Субъект – символ российского самосознания // Сознание личности в кризисном обществе. М.: ИП РАН, 1995. С. 10–28.
2. Ермолаева Е. П. Человек-оператор как субъект в оперативной среде // Труды Института психологии РАН. Выпуск 2. М.: ИП РАН, 1997. С. 174–180.
3. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность как комплексная характеристика соответствия субъекта и деятельности / Психологическое обозрение. 1988, № 2. С. 35–46.
4. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность (статья первая) // Психологический журнал, 2001, № 4. С. 51–59.
5. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе. (К 110-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна). Тезисы докладов. М.: ИП РАН, 1999.
6. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1976. Ч. II. Человек и мир.
7. Bandura A. Social foundations of Thought and Action: A Social cognitive theory. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1986.
Модели профессионального развития человека
Д. Н. Завалишина
Анализ динамики психического обеспечения трудовой (в том числе профессиональной) деятельности является одним из важнейших направлений психологического исследования профессионального развития человека – его профессионализации, становления как профессионала и т. д. Е. А. Климов выделяет в профессиональном развитии человека (развитии субъекта труда) пять основных направлений, фактически репрезентирующих все основные компоненты психического содержания этого развития. Эти направления таковы: 1) «приобретение человеком все более точной и широкой ориентированности в окружающей среде (природной, технической, социальной, информационной)»; 2) «формирование направленности, в частности, трудовой, профессиональной (развитие интересов к миру труда, людям труда, его целям, орудиям, средствам, процессам, объектам. развитие потребности в продуктивной общественно ценной деятельности)»; 3) «усвоение (и совершенствование в качестве своих обретений) общественно выработанных способов действия и использования орудий, средств деятельности»; 4) «формирование системы устойчивых личных качеств, создающих возможность успешного выполнения деятельности… (способности)»; 5) «развитие знания о себе» [9, с. 101–102]. Данные направления и компоненты в той или иной степени и в разных сочетаниях представлены в большинстве моделей профессионального развития человека в зависимости от решаемых авторами практических задач и собственных научных интересов.
Наиболее распространены два типа таких моделей: онтогенетические (возрастные) и профессионал-генетические. Онтогенетические модели рассматривают профессиональное развитие человека в контексте возрастной периодизации его жизни в целом (от рождения до смерти), профессионал-генетические связывают это развитие с периодом реального выполнения субъектом определенной трудовой деятельности.
В онтогенетических моделях профессиональное развитие накладывается на возрастную ось жизнедеятельности человека и, по аналогии с периодами его жизни как биологического объекта (зрелость, старость и т. д.), в этих моделях выделяются «старт», «пик», «финиш» его функционирования как субъекта труда. Возраст человека, или возрастные периоды его жизни, выступают в онтогенетических моделях формально главным основанием периодизации его профессионального развития (выделения в последнем случае этапов, стадий). Но всегда явно или неявно «просматривается» и социальное содержание этих периодов в виде институтов социализации, через последовательность которых проходит любой человек (школа, вуз), притом соотносительно со сменой типа ведущей деятельности (учеба, труд).
В отечественной психологии исходной для многих последующих вариантов можно считать модель возрастного развития человека как субъекта труда, предложенную Е. А. Климовым, в которой этапы описываются, по выражению автора, «для удобства», в терминах, «имеющих отношение к ведущей деятельности» [9, с. 102]. Предтечей же онтогенетических моделей профессионализации явились, как известно, возрастная модель жизненного пути человека Ш. Бюлер и модель профессионального развития Д. Сьюпера.
Е. А. Климов выделяет шесть стадий развития субъекта труда:
1) стадия предъигры – «период раннего детства» – до 3-х лет; 2) стадия игры – «период дошкольного детства» – от 3-х до 7–8 лет; 3) стадия овладения учебной деятельностью – «период младшего школьного возраста» – от 7–8 до 11–12 лет; 4) стадия оптации – «эпоха подростничества» – от 11–12 до 14–18 лет; 5) стадия профессиональной подготовки – от 15–18 до 16–23 лет; 6) стадия развития профессионала – от 16–23 лет до пенсионного возраста.
Модель Е. А. Климова была уточнена В. А. Бодровым [6] в части, касающейся собственно профессионального труда. Единая стадия развития профессионала (шестая в модели Е. А. Климова) В. А. Бодровым представлена в виде четырех самостоятельных стадий: 6) стадия профессиональной адаптации – от 19–21 до 24–27 лет; 7) стадия развития профессионала— от 21–27 до 45–50 лет; 8) стадия реализации профессионала— от 45–50 до 60–65 лет; 9) стадия спада – от 61–65 лет до конца жизни. Стадия реализации профессионала (восьмая стадия) определяется автором в основном как стадия стабилизации: «отмечается полная или частичная реализация профессионального потенциала, стабилизируются основные операционные структуры, личностные черты носят устойчивый характер» [6, с. 23].
Характер изменения личностных, когнитивных, рефлексивных и прочих психических свойств человека в ходе его профессионального развития (в иных концепциях сводимых к двум блокам – мотивационно-смысловому и операциональному) в обеих рассмотренных моделях позволяет выделить два крупных этапа в этом развитии, вносящих в него разный детерминационный «вклад» [13]: 1) формирование общих предпосылок, в частности, в виде общей готовности к труду [2, 12], на стадиях дошкольного и школьного возраста; 2) собственно профессиональное развитие субъекта труда, начало которого большинство специалистов, занимающихся этими вопросами, относит к стадии профессионального обучения. Соответственно вводятся основные концепты, в которых описываются психические составляющие этого развития: «профессионально важные качества» (ПВК), «профессиональные способности», «профессиональные мотивы», «профессиональное самосознание». Что же касается качественной специфичности разных этапов профессионального развития человека как необходимого признака любого развития, то она «просматривается», с одной стороны, в «качественной определенности» (С. Л. Рубинштейн) разных типов ведущей деятельности, которые он выполняет последовательно в ходе профессионализации (игровая, учебная, трудовая), с другой, в «квантировании» общих тенденций психического развития субъекта труда (например, в виде стадий адаптации, реализации и т. д.). В целом же эти общие тенденции таковы: сначала речь идет о становлении, формировании ПВК, а затем – об их дальнейшем развитии, совершенствовании.
К описанным возрастным моделям профессионального развития близка и модель профессионального становления личности, разработанная Т. В. Кудрявцевым [12]. Для него основанием периодизации этого развития являются социальные институты, через которые проходит человек в ходе профессионализации, но за этим «формальным» основанием опять-таки «проглядывают» и возрастные периоды (старшеклассники, учащиеся ПТУ) и тип ведущей деятельности (общеобразовательное и профессиональное обучение, труд). Автор выделяет четыре стадии профессионального становления личности: «формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация и частичная или полная реализация личности в профессиональном труде» [12, с. 54].
В отличие от рассмотренных выше более общих онтогенетических моделей, в модели Т. В. Кудрявцева основной акцент сделан на динамике профессионального самоопределения субъекта, показателем которого являются изменения отношения личности к себе как профессионалу (или динамика «образа Я» профессионала), обуславливаемые изменением критериев этого отношения. Определенное завершение этот рефлексивный процесс представления личности о себе как субъекте своей профессиональной деятельности получает на стадиях выполнения реальной деятельности, реализуясь в устойчивом положительном отношении к себе как к «деятелю». Основаниями различных темпов развития профессионального самосознания являются изменения мотивационно-потребностных и операционных личностных образований.
Завершая анализ онтогенетических (возрастных) моделей профессионального развития человека (профессионализации, становления профессионала), мы остановимся еще на двух моделях, созданных в последнее десятилетие.
В модели А. К. Марковой [14] основаниями периодизации профессионального развития являются: с одной стороны, классификация видов труда, которые различаются по степени включенности в них активного творческого начала человека, с другой – динамика становления его профессионализма (или смена уровней последнего). А. К. Маркова выделяет следующие виды труда: 1) труд по самообслуживанию; 2) потребительный – работник трудится, чтобы «заработать себе на хлеб насущный» [14, с. 11]; 3) общественно-полезный; 4) исполнительный – производительный; 5) квалифицированный – производительный; 6) совместный – организованный – производительный; 7) свободный – самостоятельный – производительный; 8) профессиональный – производительный; 9) творческий – производительный. Хотя в данной классификации неочевидно ее единое основание, в ней можно уловить тенденцию восхождения не только от «простого к сложному», но и от низшего к высшему в качественной (и возрастной) спецификации труда человека. Ключевым выступает определение автором понятий «профессионала», «профессионализма». «Профессионалом можно считать человека, который овладел нормами профессиональной деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высоком уровне, добиваясь профессионального мастерства, соблюдая профессиональную этику, следуя профессиональным ценностным ориентациям; который изменяет и развивает свою личность и индивидуальность средствами профессии, который стремится внести творческий вклад в профессию, обогащая опыт профессии» [14, с. 254]. В соответствии с таким эталоном А. К. Маркова выделяет «вехи» или «уровни» профессионализма на пути становления профессионала, в свою очередь детализированные через последовательность этапов и ступеней. Эти уровни таковы: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, непрофессионализм, послепрофессионализм. Из этого ряда несколько выпадает непрофессионализм (или псевдопрофессионализм). По сути непрофессионализм объединяет те варианты профессионального развития человека, которые как бы отклоняются от линии «непрофессионализм-суперпрофессионализм». Содержанием этих вариантов развития могут быть различные «дефекты» и «деформации» психического и профессионального обеспечения становления профессионала: недостаточная профессиональная компетентность, отсутствие позитивной мотивации к труду, в том числе формальное, поверхностное отношение к нему, «зауженность» на собственные корыстные интересы и т. д.
Внутри уровней профессионализма и суперпрофессионализма А. К. Маркова выделяет следующие этапы. Профессионализм: 1) этап адаптации; 2) этап самоактуализации как начало саморазвития себя, средствами профессии; 3) этап свободного владения профессией, проявляющегося в форме мастерства, гармонизации человека с профессией. Суперпрофессионализм, основное содержание которого состоит в личном творческом вкладе субъекта в профессию («выход человека за пределы профессии» [14, с. 50]), представлен следующими этапами: 1) свободного владения профессией в форме творчества; 2) свободного владения несколькими профессиями; 3) творческого самопроектирования себя как личности и профессионала, то есть не просто доразвитие и совершенствование того, что было, но формирование новых, ранее отсутствующих личностных и профессиональных качеств.
Проецирование автором выделенных видов труда и уровней профессионализма на возрастную ось жизни человека дает следующую обобщенную картину их онтогенетической последовательности: 1) детство – до 11 лет: труд по самообслуживанию; 2) подростковый возраст – 11–15 лет: наряду с ведущей учебной деятельностью общественно-полезный труд;
3) младший юношеский возраст – 15–18 лет: учеба и эпизодический потребительский труд; 4) старший юношеский возраст – 18–23 года: завершение допрофессионального развития субъекта труда, продолжение учебы (уже профессиональной), а также вхождение в производительный труд (сначала исполнительный). Возраст зрелости человека представлен у А. К. Марковой тремя периодами: ранняя зрелость, расцвет, зрелость. Ранняя зрелость – молодость (23–35 лет): выход на уровень профессионализма (этап адаптации); расцвет (35–45 лет): этап мастерства и самоактуализации (начало развития себя средствами профессии), квалифицированный труд; зрелость (45–55 лет): возможный переход на уровень суперпрофессионализма (позиция творца). В возрасте поздней зрелости (55–65 лет) – завершение профессионального труда, но и возможность продолжения профессионального творчества. Этот путь восхождения субъекта труда к высокому профессионализму обеспечивается традиционно понимаемой автором динамикой ПВК (как «сближения» с требованиями профессии), объединенных ею в два блока – мотивационный и операциональный.
Однако, если в рассмотренных нами ранее онтогенетических моделях профессионализации человека возрастной контекст (в сочетании с также устойчиво привязанными к определенным возрастным периодам институтами социализации и типами ведущей деятельности) являлся в сущности основным, то в модели А. К. Марковой возрастная ось жизни представляет лишь одну из линий психологического анализа профессионального развития.
Наряду с возрастным контекстом, автор рассматривает становление профессионала еще в континууме «социализации-индивидуализации». Анализ соотношения и взаимодействия профессионализации человека с его социализацией в целом, осуществленный автором на примере динамики личностного и профессионального самоопределения и развития, позволил А. К. Марковой показать сложный и многовариативный характер взаимообусловливания жизненных (личных) и профессиональных событий и новообразований. В этой связи автор говорит, например, о таком «измерении» профессионализма, как «личностная компетентность» – «владение приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности» [14, с. 34], а также о взаимодействии разных видов самоопределения – личностного, социального, профессионального. «В одних случаях они предшествуют друг другу, например, личностное самоопределение может предшествовать и способствовать профессиональному, чаще всего они происходят одновременно, меняясь местами как причина и следствие» [14, с. 58]. Индивидуализация как необходимый атрибут реального бытия человека в социуме позволила А. К. Марковой включить в анализ профессионализма, наряду с традиционными параметрами «индивидуальных различий», «индивидуального стиля», такие «измерения», как «индивидуальная компетентность» («владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии», «способность к индивидуальному самосохранению» [14, с. 35]), атакже «индивидуальное профессиональное мировоззрение», нешаблонное понимание перспектив развития профессии и т. д.
Рассмотренная модель профессионального развития человека, предложенная А. К. Марковой, методологически может быть оценена как движение к полисистемной парадигме исследования сложных психических образований за счет включения их в широкий спектр отношений человека с миром. Как известно, полисистемная парадигма анализа все чаще начинает дополнять моносистемную, не выходящую за пределы «внутренних» закономерностей объекта как такового [13].
К выявлению разных «измерений» становления профессионала на основе полисистемного подхода обращается и Ю. П. Поваренков, также исследовавший этот процесс в разном концептуальном контексте [17]. Помимо имевших место и у А. К. Марковой контекстов социализации, индивидуализации, возрастного развития, Ю. П. Поваренков привлекает концепты «активности», «жизненного пути». Значение получаемых «измерений» состоит в спецификации и уточнении детерминационного вклада и функций разных объективных и субъективных факторов в профессиональном становления человека. Автор выделяет макро-и микросреду, в которой существует человек и которые обусловливают его профессиональный путь (сам профессиональный выбор, изменение профессиональных ценностей) в течение всей жизни. Вместе с тем позиция Ю. П. Поваренкова схожа с позицией других исследователей, непрекращающееся «переплетение» и взаимообусловливание жизненных и профессиональных событий и новообразований все же больше постулируется, чем прослеживается реально (за исключением анализа возрастных нормативных кризисов, зачастую имеющих профессиональное происхождение). В результате основной акцент делается на предпосылочной функции непрофессиональных образований в становлении профессионала, как будто дальнейшее развитие психических процессов человека (восприятия, мышления, памяти) и его личности как субъекта разных отношений с миром (экономических, политических, эстетических и т. д.) не является постоянным содержательным и потенциирующим основанием его профессиональной жизни, а просто внешне существующим фактором. В этой «предпосылочной» установке вполне закономерно положение Ю. П. Поваренкова, что «профессиональное развитие является продолжением общего развития человека, но в рамках новой специфической социальной ситуации развития, которая задается содержанием и условиями осваиваемой деятельности» [17, с. 35].
Анализ становления профессионала в контексте категории «активности» завершается определением концепта «профессиональная активность», который охватывает у Ю. П. Поваренкова все формы активности человека (учебная и профессиональная деятельность, познание, жизнедеятельность), «каждая из которых вносит свой вклад в формирование, развитие, реализацию личности профессионала, регуляцию его профессиональной деятельности» [17, с. 44].
Основными концептами, посредством которых осуществляется анализ динамического аспекта любых форм активности человека, являются у Ю. П. Поваренкова понятия «социальная ситуация развития» (Л. С. Выготский) и «общественная задача» (К. А. Абульханова-Славская). Центральным значением «социальной ситуации развития» (ССР) выступает у автора такая его конкретизация, как «социальная ситуация профессионального развития» (ССПР): «это система внешних (социально-профессиональных) и внутренних (индивидуальных) факторов, которые оказывают влияние на процесс и результат профессионального становления. В качестве внешних выступают требования к индивиду и социально-профессиональные возможности, условия, которые предъявляются ему в ходе профессионализации. К числу внутренних факторов относятся профессиональные притязания и возможности индивида, его встречные требования к условиям профессионализации» [17, с. 80–81]. ССПР фиксирует «базовое противоречие профессионализации» [17, с. 30].
Конкретизация ССР дифференцирует, согласно Ю. П. Поваренкову, «профессионализацию» и «профессиональное развитие», которые для многих авторов выступают как синонимы: «второе начинается значительно позже первого» [17, с. 30]. Начало профессионального развития автор связывает с моментом «принятия человеком профессии и включения в процесс ее освоения» [17, с. 30], то есть с периодом профессиональной подготовки. Опосредствование профессионального развития активностью самого субъекта постулируется автором как принятие (или непринятие) ССПР. «И только в случае принятия ССПР она преобразуется в задачу или в комплекс задач профессионального становления» [17, с. 81].
Периодизация профессионального развития человека, предлагаемая Ю. П. Поваренковым, представлена двумя вариантами, отражающими, в сущности, разные качественные аспекты развития.
Первый вариант связан с триадой «социализация-профес-сионализация-профессиональное развитие», в котором понимание ССПР и задачи (общественной задачи) как оснований периодизации, а также психологического содержания и механизмов самого развития, не выходят за пределы постулата специализации, то есть установки на предельное «сближение» человека с профессией как главный результат этого процесса. Данная триада является по сути линейной конструкцией. Отсюда принципиальная позиция автора: интегральные критерии профессионализации (и профессионального развития) должны быть едиными, «сквозными», их содержание лишь конкретизируется на разных стадиях становления профессионала. В качестве этих критериев автор выделяет: «профессиональную продуктивность» – объективный показатель эффективности; «профессиональную идентичность» – субъективный показатель удовлетворенности трудом и самореализации, основу которых составляет профессиональная направленность человека; «профессиональная зрелость» – показатель сформированности личностного контура регулирования процесса профессионального развития, основу которого составляет самосознание.
- Социальный интеллект. Теория, измерение, исследования
- Речь ребенка. Проблемы и решения
- Феномен и категория зрелости в психологии
- Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного российского общества
- Психологические исследования личности. История, современное состояние, перспективы
- Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание
- Психология дискурса: проблемы детерминации, воздействия, безопасности
- Профессиональная пригодность: субъектнодеятельностный подход
- Субъект, личность и психология человеческого бытия
- Идея системности в современной психологии
- Социальная психология труда. Теория и практика. Том 1
- Проблемы нравственной и этической психологии в современной России
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 2
- Методы исследования психологических структур. Выпуск 5. Субъективное качество жизни
- Дискурс в современном мире
- Психологическое воздействие. Механизмы, стратегии, возможности противодействия
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 3
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 4
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 5
- Психологические исследования проблем современного российского общества
- Личность профессионала в современном мире
- К. К. Платонов – выдающийся отечественный психолог ХХ века. Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 100‑летию со дня рождения К. К. Платонова (22 июня 2006 г.)
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 1
- Методы исследования психологических структур и их динамики. Выпуск 4
- Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности
- Методы исследования психологических структур и их динамики. Выпуск 3
- Психологические исследования личности
- Проблемы психологии дискурса
- Общение и познание
- Ситуационная и личностная детерминация дискурса
- Системная организация и детерминация психики
- Психология высших когнитивных процессов
- Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 6
- Ментальные ресурсы личности. Теоретические и прикладные исследования. Материалы третьего международного симпозиума (Москва, 20-21 октября 2016 г.)
- Психологическая безопасность личности. Имплицитная и эксплицитная концепции
- Социальная психология труда. Теория и практика. Том 2
- Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации
- Аннотированный указатель трудов сотрудников Института психологии Российской академии наук за 2016–2021 годы. Выпуск 3