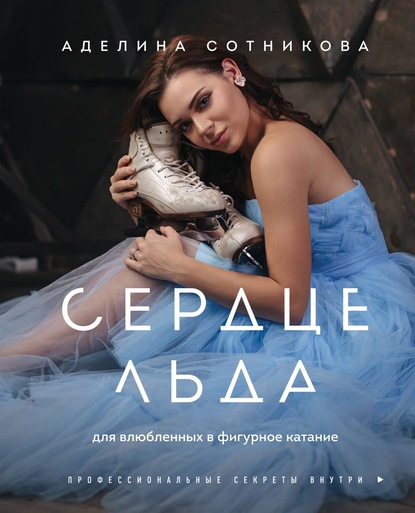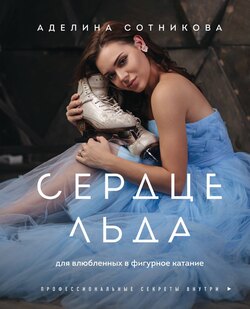
002
ОтложитьЧитал
Мы, конечно, согласились – такой шанс упускать нельзя, тем более, когда тебя заметил и оценил главный тренер. Значит, есть в тебе что-то, с чем можно работать и что нужно совершенствовать. Мы попрощались с Анной Евгеньевной и ее балетом на льду, с «Пингвинами». Мне было жаль уходить из группы, где было комфортно и весело, и от тренера, который мне очень нравился. Я не знала, что ждет меня на новом месте. Было боязно, как примет меня новый коллектив, какие отношения сложатся с новым тренером, какие будут нагрузки. Но жизнь идет, и если всего бояться, можно так и просидеть вечность на одном месте. Всегда есть что-то, что будет непривычно, будет пугать или вызывать нежелание работать. Главное – знать, куда идешь и к какой цели стремишься. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и пробовать новое.
С сентября я уже занималась на льду ЦСКА, но пока еще не у Елены Германовны. На год меня взяла к себе Инна Германовна Гончаренко. Она заметила меня на катке «Пингвинов», и она же согласилась помочь мне набрать форму. Нагрузка возросла многократно, наш с родителями график был сумасшедший, мне нужно было сильно прибавить в технике и выносливости. Целый год я занималась в ее группе, готовилась к соревнованиям, которые должны были стать решающими и определить, возьмет меня к себе Елена Германовна или нет. На тех соревнованиях я выступила хорошо, и в конце сезона меня позвали на еще один просмотр в группу Елены Германовны. Со следующего сезона я официально занималась у нее.
Расписание было очень насыщенным. Уйдя с катка «Пингвины», мне пришлось также попрощаться и с художественной гимнастикой, потому что времени на нее банально не оставалось. Да это и не нужно было – вместе с Еленой Германовной работала целая команда отличных тренеров, которые занимались с нами и на льду, и в зале. Это была полноценная спортивная школа, где все работало на то, чтобы организовать процесс максимально продуктивно. Помимо катка были специальные хореографические залы и залы для отработки прыжковых элементов на полу. Были занятия по ОФП – основной физической подготовке, где мы работали над выносливостью, растяжкой, развивали все группы мышц. Большое внимание уделялось прокачиванию мышц пресса и спины, укреплению связок. Мы делали упражнения на тренировку коленных суставов и бедренных мышц, так как они постоянно задействованы при катании. Работали над координацией, ведь после прыжков в несколько оборотов нужно устоять на льду и продолжить катать программу. Для этого часто отрабатывали элементы из акробатики и гимнастики.
Это была дверь в большой спорт, и сейчас она для меня открывалась. Но если я хотела в нее войти, надо было взять на себя колоссальные обязательства – усердно тренироваться, сконцентрироваться только на спорте, что бы ни случилось – слушать тренеров.
На занятиях по СФП – специальной физической подготовке – мы отрабатывали именно те специфические движения, которые используются в фигурном катании.
Например, чтобы выполнить прыжок в несколько оборотов, необходимо знать не только механику захода на него, но иметь хорошо натренированный пресс и мышцы спины, чтобы оставаться в строго вертикальном положении. Нужны хорошо проработанные мышцы-разгибатели бедра, тогда фигурист сможет подпрыгнуть на высоту от полуметра и выше. При вращениях, обязательном элементе в фигурном катании, задействуются мышцы корпуса и ног – вращения корпуса должны быть около трех оборотов в секунду. Развитием этих групп мышц и отработкой элементов мы занимались на СФП.

Тренеры следили за сбалансированным развитием всех мышц. Важно было иметь сильный мышечный каркас, при этом сохраняя небольшой вес. Перекачивание ног, рук или пресса могло привести к потере правильной техники выполнения элементов.
Много упражнений было направлено на увеличение выносливости. Мы прыгали со скакалкой, бегали, причем использовали самые разные вариации бега: и кроссовый, и интервальный, бег с утяжелением и многое другое. По тому, насколько спортсмен быстро утомляется во время бега или насколько быстро пробегает определенную дистанцию, можно судить о том, хватит ли у него сил откатать короткую и произвольную программу.
Во время тренировок бег на дистанцию в 500 метров приравнивался к выполнению короткой программы, а на 1000 – к произвольной. Сложность заключалась в том, что пробежать это расстояние надо было за определенное время. Например, выполнение произвольной программы хорошо подготовленного сильного фигуриста приравнивалось к бегу на 1000 метров примерно за 3,5 минуты. Если хватило сил пробежать за это время, значит, и на программу сил хватит.
В ЦСКА мы тренировались шесть раз в неделю. Воскресенье было официальным выходным днем, когда мы могли заниматься своими делами, не связанными со спортом. И два дня на неделе считались наполовину свободными – у нас была только утренняя тренировка, и освобождались мы намного раньше, чем обычно. В остальные дни мы тренировались дважды в день, утром и вечером.
Для того чтобы было проще учиться, я перешла в другую школу, недалеко от ЦСКА. Тогда это была школа № 1424, и там обучалось очень много спортсменов ЦСКА из разных видов спорта. Я обнаружила это намного позже, а пока даже и не подозревала об этом.
В школу меня возил папа, и, чтобы успеть добраться из Бирюлево к метро «Аэропорт» через постоянно загруженный Ленинградский проспект, из дома мы должны были выезжать в 6.30 утра. Вставала я в 6 утра, меня, сонную, кормила и одевала мама, и мы выезжали. Я приезжала в школу на первый и второй урок, а потом бежала на утреннюю тренировку. Ледовый каток ЦСКА находился практически напротив школы, нужно было только перейти Ленинградское шоссе по надземному переходу. На первой тренировке у нас всегда была работа в зале – разминка, общее укрепление мышц, отработка отдельных элементов, потом мы выходили на лед. Затем снова бежала в школу, на оставшиеся уроки, если успевала, или на дополнительные занятия – написать диктант или контрольную работу, которую пропустила, или сдать домашнее задание.
После этого я шла на вторую тренировку. Снова сначала зал – или ОФП, или подкачка, потом – лед. По средам были занятия по растяжке и хореография. Освобождалась я ближе к 7 вечера, за мной приезжал папа, и мы ехали домой. К 9 вечера обычно садилась за уроки, если не успевала сделать их в течение дня. Все вещи я старалась оставлять в ЦСКА – у нас были специальные шкафчики, поэтому таскать с собой огромные сумки с коньками и формой, к счастью, не приходилось.
Пока я училась в начальной школе, все успевать было сравнительно несложно. Но со временем нагрузки возрастали, как в спорте, так и в школе.
С Еленой Германовной я уже могла выступать на крупных соревнованиях, если проходила отбор на них. Для этого нужно было сдать все необходимые нормативы, иметь определенный разряд и тогда пробовать свои силы в чемпионате Москвы, а потом – в отборе на чемпионат России среди юниоров.
Ну, а для таких крупных, особенно по меркам совсем юной фигуристки, соревнований нужны уже полноценные программы, а не просто набор элементов.
Музыку обычно выбирает тренер. Пока ты маленький, ваши вкусы диаметрально противоположны, и та музыка, под которую хочешь кататься ты, обычно не получает одобрения. Позже, когда становишься старше, уже сама обычно понимаешь, какая музыка будет подходящей для программы, а какая – нет. Тогда можно принять в создании короткой или произвольной программы более деятельное участие. Например, если музыка совсем не чувствуется спортсменом, то он не может раскрыть себя, и она заменяется.
Елена Германовна работала с командой профессионалов, и каждый член команды отрабатывал с нами разные нюансы фигурного катания. Был тренер по физической подготовке, по скольжению, хореограф, часто приходила Татьяна Анатольевна Тарасова. Она могла дать дельный совет, посмотреть свежим взглядом на программу, помочь с выбором музыки.
Спортсмену на юниорском уровне нужно было представить короткую и произвольную программу. Для каждой из них в правилах четко обозначено количество элементов – сколько должно быть прыжков и каких, сколько вращений, какие дорожки шагов нужно делать, чтобы получить высокие баллы. В короткой программе обязательно должны были быть три прыжка, спираль и каскад.
Прыжки тренер выбирает, исходя из их базовой «стоимости» и сложности для спортсмена. Кому-то не дается аксель – его выполняют с захода спиной, и для чистого исполнения надо сделать на полоборота больше. Кто-то испытывает сложности с лутцем, вторым по сложности прыжком после акселя. Его нужно исполнять строго с внешнего ребра конька. Тренер смотрит, что фигуристу по силам, и включает в программу. Но ежегодно объявляется один обязательный прыжок, который фигурист должен включить в программу. Это может быть риттбергер, лутц или тулуп. Каждый год прыжок меняется (двойной аксель, к слову, был обязательным всегда). Так уравниваются возможности фигуристов на соревнованиях. Мало кому одинаково хорошо даются все виды прыжков, и если бы фигурист включал в программу только то, что он делает отлично, было бы неинтересно. А так всегда присутствует элемент состязательности.
Спираль – очень красивый элемент, когда фигурист катится по льду, стоя на одной ноге, а вторую поднимает в воздух. Разновидностей спирали множество, главное – четко ехать на одном ребре конька. Можно сделать ласточку, когда корпус и свободная нога находятся параллельно льду, можно соединить спираль с бильманом, наверное, самым узнаваемым элементом в фигурном катании после прыжков – когда нога поднимается за спиной и удерживается руками надо головой. Это очень красиво и очень сложно. Многое зависит от природных данных фигуриста, его гибкости и растяжки, от состояния его позвоночника. Не все взрослые спортсмены, к сожалению, могут позволить себе сделать бильман из-за прошлых травм спины.
Каскад – это соединение прыжков. Например, лутц-тулуп или лутц-риттбергер. Сложность их выполнения в том, что второй прыжок делается из той позиции, в которую спортсмен приземляется с первого. А значит, второй прыжок в каскаде должен быть удобным и относительно несложным, не требующим длинного захода. Чаще всего вторыми прыжками исполняются тулуп или риттбергер. Их проще всего прикрепить к первому прыжку.
Когда тренер подобрал для программы спортсмена необходимый набор элементов и схематично расставил их, программу прогоняют на льду. Тренер обозначает, в какой части катка ты должен исполнять тот или иной прыжок, следит, чтобы элементы сочетались с музыкой. А фигурист пробует свои силы и прокатывает всю программу. На данном этапе работают только над технической частью – смотрят, чтобы спортсмен успевал делать элемент в нужный момент, с нужной скоростью и в той части катка, которую определил тренер. Как только тренер и фигурист понимают, что основные элементы хорошо ложатся на музыку, начинается работа спортсмена с хореографом.
У нас им была замечательная Ирина Анваровна Тагаева. Раньше она танцевала в Большом театре, поэтому все наши программы были пронизаны духом балета. Я любила балет, и мне было интересно работать с настоящей балериной. Ирина Анваровна ставила нам хореографию для программы, наполняла ее артистизмом и выразительностью. Мы смотрели вместе балетные постановки, она объясняла нам значение движений, какую эмоцию хотел передать танцор на сцене. Учила выражать свое «я» на льду. Кататься так, чтобы программа и спортсмен были одним целым, неотделимым друг от друга и ярким. Анализировала музыку для программы, помогала понять ее и прочувствовать эмоциональные акценты – где подъем, а где спад настроения. Мы обсуждали, как это изобразить на льду, и работали в хореографическом зале.

Только после того, как фигурист прочувствовал музыку, понял, какие эмоции хочет донести до зрителя, можно переходить к тренировке на льду и соединять обе части – техническую и хореографическую.
Для того чтобы уверенно чувствовать себя в новом образе и стабильно выполнять все элементы, требовалось около трех месяцев – примерно столько занимает обкатка новых программ. Каждый день на льду и в зале программа отрабатывалась и многократно повторялась. Не целиком, а маленькими частями. Так как мы тогда были еще юными спортсменами, не всегда хватало выносливости много раз повторять всю программу целиком. Поэтому тренер делил ее на кусочки, которые мы и отрабатывали. Когда выучивался новый отрывок, он повторялся вместе с предыдущим. Так постепенно доходили до четверти программы. Потом до половины и так далее. Один раз в неделю перед тренерами мы показывали свою программу целиком. Перед нами стояла задача откатать все чисто и с учетом замечаний. Но каждый раз находилось то, над чем предстояло работать.
Мои первые выступления за школу ЦСКА проходили с переменным успехом. В сезоне 2005–2006 года я стала четвертой в младшей возрастной группе на «Мемориале Станислава Жука», который проходил в Санкт-Петербурге. Это первенство России среди детей среднего и младшего возраста, организуемое с 2000 года в память о великом тренере. Его именем, кстати, назван и наш ледовый дворец ЦСКА.
В следующих сезонах я улучшила свой результат на этих соревнованиях – была третьей в 2007 и второй в 2008 годах. А выступления на кубке России не удавались. В 2006 году в младшей группе я стала двенадцатой – у меня было выступление под музыку из мюзикла «Chicago». А в 2007-м заняла 10-е место. Я в тот год выступала под «Herdnando’s Hideaway», танго из мюзикла «Dance with me», но уже среди детей старшего возраста.

Не знаю, почему мне не удавалось на таких крупных соревнованиях подняться выше. Я старалась, много работала, делала все, что говорил мне тренер. Но, выходя на лед на соревнованиях, программа начинала осыпаться. Я падала, показывала слабые дорожки шагов. Могла за программу не выполнить четыре элемента. Естественно, я оказывалась почти внизу турнирной таблицы. Не могу сказать, что я относилась несерьезно, это не в моем характере. Наверное, просто не находила внутри себя достаточных эмоций, которые помогали бы мне на стартах. У меня пока не было опыта побед, я не знала, каково это – быть первой среди сильнейших.
- IQ в футболе. Как играют умные футболисты
- Математика покера от профессионала
- Книга тренеров NBA. Техники, тактики и тренерские стратегии от гениев баскетбола
- Сердце льда: для влюбленных в фигурное катание
- Правило № 2 – нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте
- Быть победителем