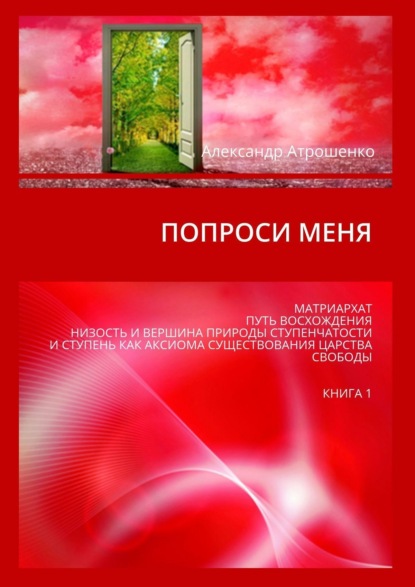Попроси меня. Матриархат, путь восхождения, низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 1

000
ОтложитьЧитал
Мировоззрение достижения совершенной чистоты в единении всего существующего природы противоположностей неизменно должно было вначале привести амазонок на путь единения с природой, где видимым образом для человеческого общества лучше всего подходит типаж животного стада, с доминированием воинственно настроенных самок, для добывания средств состоянию своей свободы, и необходимости самца только для размножения, поддержки и увеличения стада в численном состоянии. (Это что-то вроде женского казачества, в дополнение принявшую крайнюю форму. Видимо, мировоззрение свободы, а здесь следует понимать и приобщение к богу Свобода, и к «Его» благословению как в этом, так и в ином мире, в южных частях России было общим резко культовым явлением). Но мир людей сложнее мира животных, и мужчина в племени мог рассматриваться как лазутчик недоброго, с позиции Люцифера нечистым творительно-преобразовательном фактором в отображении Бога-Творца, выстраивать свои отношения, свою политику, т.е. то, что с точки зрения амазонок отягощает, сковывает, загрязняет. Поэтому в искании абсолютного единения со всем бытием логическим выходом из ситуации стал полный отказ от мужчин, а для беременности подыскивались случайные совершенно посторонние сообщества мужчин. Такое устройство племени только лучше отображало мировоззрение чистоты, достоинства и свободы целостности бытия, и, таким образом, амазонство стало пиковой формой мировоззрения гармонии мира, ее сектальным проявлением.
В истории человечества пиково-дикое проявление амазонства, конечно, исчезло, но остался её скрытый фундамент, который продолжает существовать в изменившемся виде образом достижения женской независимости и независимости вообще. Сюда относится, к примеру, установленные в СССР такие символы, как праздник «8 марта» – бренд движению женщины-воительницы в пути восхождения достижения равноправия, памятник «Родина-мать зовёт!» – бренд воинствующей защитницы своего свободного состояния (матриархальным логическим продолжением чего служит праздник 9 мая «День Победы»), и общим международным феминистическим движением за права женщин (а также скрытым оттеночным проявлением матриархальных настроений в самой христианской церкви является культ Деве Марии).
Если непосредственно обожествление женщины породило такую крайнюю степень совершенства (чистоты, достоинства, справедливости, свободы способом отгораживанием себя от полноты мира), как амазонство, то другая форма искания духовной чистоты, достоинства, справедливости и свободы, т.е. совершенства вообще, направило древних людей на единение с природой в форме копирования ими половых взаимоотношений, а именно замеченные стадные гомосексуальные проявления. Причем в данном случае речь идет не о похоти как таковой, хотя она присутствующим фактором способствовала расцвету подобных отношений, но в большей степени как культ, как символ мировоззрения достижения чистоты, мировоззрения достоинства, процветания и независимости, что ниспосылается благословением при достижении высот вселенского единения. Рассматривая ситуацию с подобной точки зрения намного понятнее становится, например, Библейская история с вполне процветающими, но конкурирующие за политический доминант в своем уголке света, городами Содомы и Гоморры, где жители, собравшись у дома Лота, хотели совершить не удовлетворение похоти, а символическое единение, духовный акт слияния с природой, где, надо заметить, вовсе не обязательна конкретная связь, но символическое прикосновение (отголосок подобного представления высокой культуры родильного принципа мира древности в настоящее время существует в среде тюремных взаимоотношений деления на достоинство и недостоинство), дающее повышенную чистоту, а за этим подкрепление и расширение силы, чтобы в идеале снялась всякая угроза военного характера из вне. Кроме этого, также следует вспомнить историю Древней Греции, где, продолжением древней традиции мировоззрения поддержания-достижения духовной чистоты, т.с. высокий эллинизм, выражением культа единения в природе целостности, с ростками возведения человека в положение совершенства, слаженной красоты тела, определение его в степень вершины природы, полного всемогущества, был одновременно наполнен эротической атмосферой гомосексуализма с оттенками гермафродитизма через мифологию (Афродита – гармония), в свою очередь, приведшее к таким общественно-культурным проявлениям, как Олимпийские игры и многочисленные скульптурные изваяния, олицетворявшие связку полового органа с силой всего организма, с обновлением рода-племени, молодостью, свободой, соответственно, культурой достоинства и справедливости.

Проявление гомосексуализма отображает животные наклонности человека, но все же не вводит в абсолютно животное состояние, чистоты справедливого равенства гармонии. Поэтому мистика говорит о беспорочном, целомудренном стремлении и необходимости достижения абсолютного единения, которое в таком случае, в общем процессе мистического конструирования, является «джентельменским» набором высоты полета творческой фантазии состояния свободы – промискуитетом, групповым, зоофильством, некрофильством, всевозможные би, гомо, лесби, где зарождается фантастика, необычайно новое существования, новое явление, новая форма, новизна экстаза состояния идеалистической чистоты и необъёмности достоинства бытия…

Мировоззрение целостности мира породило еще и другую практику искривления созданного Богом-Творцом, а именно провода на тот свет, осуществляемое в состоянии т.н. единения противоположностей – как правило, захоронение жен с умершими мужьями, а знатных особ – с прислугой, поскольку знатность уравновешивает многочисленное ничтожество. Кроме этого, положение постоянного рождения и обновления-омоложения в своем законченном виде у южных народностей, с одной стороны, приняло форму сакральной проституции, что внутренним смыслом означает чистоту с достоинством и справедливостью и природой эволюционизма, а с другой, взгляду противоположности рождения – смерти, и необходимой борьбы за ее отдаление, в мифологиях оформившееся в виде рождения добрых и злых богов, от них Вселенной в структуре пары – земли и неба, и вечной борьбы добра со злом, как на небе, так и на земле, причем, чем более религиозное мировоззрение общества находится в закрытости (целостности) от Бога-Творца, тем мировоззренческий дуализм проявляется сильнее, превращая борьбу в бесконечный процесс доминант силы, тем сильнее действует мировоззрение справедливости и сильнее происходит разграничение в самом народе между высшим и низшим классами, своей дуалистической природой целостности продолжая удерживать общество в мировоззрении дуализма.
Во имя культа рождения (чистоты бытия) приносились самые дорогие платы – человеческие жертвоприношения, т.е. за самое дорогое давалось самое дорогое, или, иначе говоря, равноценный обмен – ты мне, я тебе (марксизм уже проглядывает). Например, уже отголоском древнего мировоззрения единения, в мифах античной Греции о Дионисии Загреи был распространен сюжет растерзания и поедания человека, отказавшегося чтить бога. Также существует предание, что во время справлявшегося зимой раз в два года праздника служительницы бога с факелами в руках отправлялись в горы, где устраивали экстатические пляски и оргии в его честь. Одурманенные вином и наркотиками толпы людей во главе женщин-менад растерзывали в лесах и горах диких животных, пили их кровь, а также вели беспорядочные половые акты (празднично-ритуальный промискуитет), тем как бы приобщаясь к телу и крови растерзанного титанами бога-младенца Дионисия Загрея, а через него, прекрасного плода «Небес», к процессу рождения, обновления-воскрешения и, в целом, уже скрытой под толщиной сказаний и мифов, к целостности Бытия – «Высокой Чистоте». Таким образом, матриархат – это духовный путь постижения мира, где человечеству было представлено «Небесами» картина чистоты Бытия, ее лестничное состояние достоинства, которое воплощается в картине дуализма справедливости и ее итогом во всеобщем единении низшего с высшим, а уже на основе фундаментального мировоззрения человеком выстраивался способ своего существования. Это путь ухода от Бога в скрытый материализм посредству общения с мистическими сущностями, – потусторонний мир не отрицался, но тщательно замалчивался факт Бога-Творца. Это первый вид масштабного идолопоклонства, где женщина представляет собой символ чистоты, достоинства и справедливости вселенной, и наилучший способ общения с «Небесами», с обожествлением человеческого естества и кульминационным возвеличиванием женского начала в высший ранг – Великой Богини.
Мировоззрение гармонии Вселенной показалась людям настолько истинной и фундаментальной, высшим знанием, мудростью, не имеющей времени, что сохранилось в сознании народностей на тысячелетия, лишь проявляясь на пути исторического движения с символикой других традиций, от религий единобожия до всевозможной мистики, суевериями и религиями, не признававшие Бога-Творца, а само понятие «справедливость» фактически превратилось в синоним «хорошо», «честно», «правильно», и в мире восточных славян стало неотъемлемой частью их лексикона, употребляя его где надо и не надо. Люцифер стал подменять мировоззрение гармонии видами различных богов, эгоистичностью величины создавать иллюзию множества духовных путей познания «истины», разделяя на религии и конфессии, создавая мираж обилия разного и возможности выбора, чтобы в неминуемой конкурентной борьбе внешнего внутреннее оставалось никогда не тронутым.
Помимо Великой Богини другим символом мировоззрения целостности мира, единения сил и явлений, в этом первобытном обществе стал культ солнца, возвеличенная степень которого постепенно переходит непосредственно в поклонение как божеству. Используя элементарную практичность для людей того времени солнце несло отображение взгляда «единения противоположностей» поскольку целостность лучше всего проявлено в симметрии, а круг – наилучшая форма симметрии. Кроме того, уже считалось, что солнце освещает два мира, верхний и нижний (соответственно была вера в загробную жизнь), где оно перемещается из одного в другое при помощи солнечной ладьи. Поэтому как само солнце было символом соединения частей в абсолютную симметрию, причем, в масштабном представлении всего космоса, так и его путь по небу стал символом соединения противоположностей, в чередовании дня и ночи, в освещении этого мира и загробного. Поэтому уже здесь в древней Месопотамии появились первые группы людей, которые стали звать себя сынами солнца. Этот культ, также как и культ Великой Богини, распространился по всей земле, приобретая в каждом случае свою отдельную интерпретацию и степень поклонения, трансформированное порой с виду кажущимся нечто иным, как, например, с уроборосом – змеиное кольцо, – вечное пребывание цикличности и в этом всеобщее единение.

Параллельно культу солнца мировоззрение гармонии мира не могло не затронуть т.н. ночное солнце – луну. В древнем мире луна в представлении людей была царицей ночи, времени проведения магических ритуалов жрецами, женщинами-жрецами (в каждую фазу луны определенной направленности ритуала, соразмерно основы мира – правилу). Исходя из положения, что мир является целостностью, в которой все рождается, древние рассматривали луну, как уравновешивающее солнце, а женщина – мужчину. Постепенно уравновешивающие факторы, которые были причиной появления нового, соединялись, и луна стала олицетворять женщину, символом рождения и потому гармонии бытия. Наличие женщин-жрецов способствовал этому еще больше (а в средние века женщина воспринималась как темная сторона человечества, наподобие луны по отношению к солнцу, т.е. по-своему, но опять же соединялась с луной). Так луна во всемирной истории стала символом рождения, рождения мира, обновления мира через рождение, целостностью-гармонией, а уже впоследствии всевозможных дев, бессмертия, соответственно, верховной власти и т. д. т.п.
Закреплением за луной мировоззрения гармонии (а, соответственно, и женской природы) способствовало явление реальной обозримости периодов цикличности, поскольку солнечный путь был слишком длинный, а лунный, да притом фазовый, – появление – нарастание – полная сила – убывание – исчезновение – новое появление и т.д., – идеально подходил для разделения года на периоды, а периоды, в свою очередь, еще на меньшие периоды. Поэтому лунный календарь стал аксиомой всего древнего мира, не только инструментом практичности, но символом, как им казалось, всеобщей цикличности, где всегда выделялся акт рождения. Замеченные явления влияния луны на рост растений, на приливы и отливы, на изменения в человеке, только сильнее подтверждало в их глазах правильность ее обожествление и необходимости ей поклонение.


С течением времени символ луны трансформируется, входит в связку с другими символами, но остается самим собой, несет все туже, старую смысловую модель. Например, именно луна в древнем мире превратилась в солнечную ладью, гулявшая по мирам противоположностей, поскольку луна-ладья, и в связке с солнцем (часто изображавшееся в виде крылатого диска), и сама по себе, представлялась соединением этих противоположностей, целым, гармонией, т.е. то, что, в их представлении, вечно и не меняется, является неисчислимостью и сама собою несет обновление всему.
Символ всеобщего обновления (справедливости) был повсеместно распространен в мире. Его использовали кельты, праславяне, а в настоящее время он откровенной атрибутикой присутствует в таких известных мировых религиях, как буддизм, даосизм, индуизм, зороастризм, ислам, синтоизм. Но, что удивительно, этот символ, как отражение старого мировоззрения фундаментальности и следствием его мирового распространения, вошел даже в иудаизм (гексаграммой; прямо сказать, евреи сошли с ума) и христианство, особенно, в восточную эллинистическую православную ветвь, хотя и в католицизме имеется его отпечаток, поэтому полумесяц стал неотъемлемой частью православно-католической атрибутики. Он присутствует на православных крестах, и эта картина фактически копирует кельтский знак обновления (полумесяц и свастицизм), им украшаются иконы, как откровенно полумесяцем, так и трансформировано в виде цаты, копии луны-ладьи, и головного венца, как бы озаряющего лик изображавшегося, который также может являться и кругом – целостностью. Этот символ присутствовал на шлемах крестоносцев в виде рогов. Для противника он должен был служить устрашением, для непосредственно крестоносцев символом обновления мира мистического уклона, получая, таким образом, обновление через Христа-гармонию, поэтому-то вся затея с крестоносцами, в целом, так и не увенчалась успехом – дух достоинства, требующий себе достоинства еще больше и выше, шел захватнической войной, перечеркивая тем дух милости и спасения, с которым война никак не ассоциируется, но с проповедью благовествования.

Традиционный взгляд объясняет переход от матриархата к патриархату (точнее сказать, к внешнему патриархату) тем, что мужчина стал пасти большие стада и земледетельствовать, т.е. понадобилась бо́льшая сила, ловкость и доблесть. Большая сила, ловкость и доблесть, в самом деле, потребовались, но только не для того, чтобы пасти большие стада. Сам матриархат имел развитие в оседлом обществе, где доминировал домашний быт, который не может играть значимой роли в устройстве этого общества. Первый толчок к изменению политического устройства произвел Вавилонский исход, в походной жизни все племя становилось полностью зависимо от мужчин. Первопроходцу по незнакомым местам походила больше мужская сила, ловкость, доблесть. Однако женская жреческая власть смогла приспособиться к походной жизни и играть роль если не прямого лидера, то мудрого советчика в племенном устройстве, конкурируя с самым весомым мнением племени, мнением мужчин. Таким образом, державшийся на духовном мировоззрении матриархат под воздействием внешних факторов (т.е. дисгармоничности бытия) лишь внешне стал постепенно терять свои позиции. Когда возникла необходимость мужской походной властной инициативы, то он начал проявлять её пока как дополнение к женской власти. Это положение вещей, взаимного сотрудничества, продержалось ещё довольно длительное время, – даже внешне матриархат уходил не спеша, древнее общество колебалось в выборе наиболее полезного пути их существования, то ли относительно более практичный мужской, то ли более мистический женский, но в целом оставаясь в традиционных рамках гармонии, дошедшее из глубины веко до нашего времени. В целом эпоха матриархата, первого духовного пути человечества, имевшая слабость идти на поводу искусителя, строившая ложные философские взгляды, мировоззренческое представление положения высшей чистоты, которое в таком случае есть абсолютное достоинство, свобода, благополучие, совершенство-развитие, закамуфлированное в поклонение различным богам-идолам, в достижении идеализма оставила после себя свидетельства крайней распущенности и пролитием огромного количества жертвенной крови, в том числе человеческой, в том числе детской мальчишечьей, как ненужного элемента отягощающего природу.

За относительно мирным оседлым Месопотамским и пошатнувшимся в походной жизни матриархатом наступала новая эра – племенного разъединения, когда уже были позабыты общие корни, вырабатывался собственный акцент, собственные взгляды, собственная божественная генеалогия, т.е. собственный этнос – наступала эра чистоты достоинства поколебнувшегося процессом нечистоты дисгармонии, и потому, испытывая ущемление, жаждавшая подыскать себе «тёпленькое» местечко под солнцем, эра межплеменных территориальных войн. Каждое племя всё больше начинает нуждаться в вожде-воине, где женщина, будучи даже самым искусным жрецом, уже не может сильно конкурировать с мужчиной. Военный уклад племени, его практическая безопасность, всё больше и чётче доминирует в сознании, и женщина как лидер уходит на 2-е и 3-и роли, так, что уже через небольшой промежуток времени после первых территориальных конфликтов всю судьбу племени начинают решать только мужчины, но, которые по-прежнему опирались на сложившиеся традиционные нормы, представления о мире. Наступила эра внешнего патриархата внутренне пронизанного матриархатом, оттого приобредшая вид воинственного патриархата – половых органов, достоинства, справедливости, лени и трудящихся с повышенным «азартком»: именно сражаться и умереть в бою стало наивысшей точкой достижения демонстрации своей справедливости и высокого достоинства (на юге этому больше способствовал южный темперамент, на севере приглушался умиротворением).
Первая цивилизация зародилось в районе благодатного полумесяца – Месопотамии. Вавилон, Ур, Урук, Ниневия, Ашур, Эриду, Лагаш, Киш. Это были города-государства, т.е. метрополии, объединенные в одну культуру. После Вавилонского исхода вскоре образовалось другая цивилизация – Египет на реке Нил. В Египте была иероглифическая письменность, их цари стали известны как фараоны, а их власть была больше или царей Месопотамии. Сам Египет стал политическим центром этой культуры. В древнем Египте женщина имела права мужчин. Они могли обладать имуществом, наследовать, торговать, отстаивать свои права в суде, но не могли быть учеными, художниками, писателями.
В египетской цивилизации поклонение солнцу первоначально не было развито. Египетские цари стали именоваться «сынами солнца» лишь в первом правлении V династии, обосновавшись в городе Гелиополе – «город солнца». Здесь, бог солнца – Ра начал прославляться как Великий Отец, который создал Вселенную, всех богов и богинь и от которого произошли люди и животные, рыбы и рептилии. Но монотеистическая религия солнечного культа была принята лишь фараонами и высшими классами египетского общества, (например, имя фараона «Рамсес» – означает «сын солнца»), основная же масса людей продолжала больше поклоняться богам луны, земли и атмосферы. Этот культ монотеистического свойства смог развиться из зачатого состояния лишь при его большой импортированности из Азии (зороастризм), вследствие торговых отношений, и влиянием настроенных на монотеизм переселившихся к ним евреев.
По исследованию библиографов после вавилонского смешения часть иафетитов отправилась на восток вплоть до реки Инд, часть – на северо-запад в Малую Азию и Балканский полуостров, а еще другая, отправилась на Северный Кавказ и Северное Причерноморье. Далее специалисты не пришли к единому мнению, как происходило заселение иафетитами, т.н. индоевропейцами, Европейского материка. Можно лишь с уверенностью сказать, что часть их, вероятно, с Северного Причерноморья стала продвигаться дальше на север. С другой стороны Каспия, между ними и Уральскими горами поднималось племя, изначально носитель праиндоевропейского наречия. Люди этого племени имели хорошо выраженные монголоидные черты, которые они приобрели в процессе метисации в зоне первичных контактов. Через некоторое время одна часть этого племени откочевала на восток, образовав алтайскую языковую группу, объединявшую тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую языковые семьи. Другая часть обосновалась в Приуралье и дала начало уральской ветви, которая разъединилась на финно-угорскую и самодийскую группы языков. Из-за дальнейшего исторического соседства с индоевропейцами у финно-угров происходил процесс обратной метисации и их монголоидные черты со временем начали исчезать.
Племенной союз иафетитов-индоевропейцев двигался в северном направлении и достиг пределов приполярного круга, самых северных пределов материка, Кольского полуострова. На северной родине индоевропейцы стали называть себя ариями, что для них являлось обозначением духовной чистоты, истинности и приближения к богу. На новом месте обитания они занимались всем тем, что давно умели делать – охотились, рыбачили, земледетельствовали (но непосредственно земледелие у них было развито слабо), разводили скот. В это время, они знали такие металлы как медь, золото, серебро. Имели домашних животных: собаку, рогатый скот, овец, лошадей, коз, свиней, уток и гусей. Они научились делать лодки и плавания по Белому морю. В общем, северные индоевропейцы работали и творили, заботились о своем благосостоянии и жили достаточно хорошо. Сама жизнь была спокойной, размеренной, в меру сытой, никто никогда им не угрожал. Устройство общины их было переходным от матриархата к внешнему патриархату, поэтому матриархальные взгляды у них еще были очень сильно выражены. Это подтверждает открытие исследовательской группы под руководством В. Дёмина в 1998 г., когда в Лапландии на дне Сейдозера (Сейдъявр) была обнаружена огромная фигура из трех крестообразно соединенных треугольников. Эту фигуру можно увидеть только с вершины противоположной горы при хорошем солнечном освещении, её размеры составляют 200 на 100 метров. Как известно, в древности треугольник и ромб это символы женских половых органов. Таким образом, перед нами предстает поклонение женскому началу, в почитании нерукотворных женских феноменов (дно озера для древних представлялось в виде формы отверстия и складки), т.е. выражение древнего общества мировоззрения гармонии мира.
Древнеримский ученый Плиний Старший (известный под именем Гай Плиний Секунд 23—79 гг.), в своей «Естественной истории» писал уже легенду, конечно, в приукрашенном виде: «Затем идут Рипейские горы и область, которая называется Птерофором, потому что там постоянно выпадает снег, похожий на перья. Эта часть света осуждена природой и погружена в густой туман; там может рождаться только холод и хранится ледяной [ветер] Аквилон. / Позади этих гор и по ту сторону Аквилона живет, если можно верить, с незапамятных времен счастливый народ, который называется гиперборейцами; про него рассказывают сказочные чудеса. Там, говорят, находятся полюса и крайние точки звездных путей; полгода там светло, и солнце прячется всего на один день [длиною в полгода], а не на время между весенним и осенним равноденствием, как полагают несведущие люди. Один раз в году, в день летнего солнцестояния, солнце у них восходит и один раз, в день зимнего солнцестояния, садится. Эта солнечная страна с умеренным климатом не подвержена вредным ветрам. Гиперборейцы живут в рощах и лесах, почитают богов порознь и сообща, им не знакомы раздоры и недуги. / Умирают они только тогда, когда устают жить: старики, отпировав и насладившись роскошью, прыгают с какой-нибудь скалы в море. Это самый лучший похоронный обряд… / Нельзя усомниться в существовании этого народа»3.
Согласно картам Птолемея (ок. 100 – ок. 170 гг.) на территории Русской равнины должна была находиться целая горная система – Алаунские, Гиперборейские или Рипейские горы. Многие горы в ракурсе неточных сведений и загадочных представлений были слишком преувеличены, внося тем сумятицу в поисках территории Гипербореи (хотя, как указывают геологи, 6—8 тыс. до н. э. каньоны были несколько глубже, а возвышенности, соответственно, выше), но исследователи стали исходить из известного факта, что Гиперборея упирается в холодный океан и там по полгода день и ночь. Самое правдоподобное предположение выдвинул этнограф и искусствовед С. В. Жарникова, указав, что Рипейские горы это Северные Увалы. Они находятся в центре европейской части России, идут с запада на восток, являясь водоразделом бассейн Волги и Западной Двины, длиной 600 км, высотой 293 м. Причем Птолемей недалеко от Рипейских поместил Алаунские горы4. Поэтому, вероятнее всего, все они являются одной грядой.
На севере-западе Русской равнины расположена всхолмленная территория, которая сейчас называется Валдайской возвышенностью. Если говорить точнее, речь идет о Валдайской гряде, которая на старых картах именуется Ревеницкими горами (по названию деревни Рвеницы, которая находится на границе Новгородской и Тверской губерний). Валдайская гряда образует северо-западный край Валдайской возвышенности. Она не высока, да и не велика по своим размерам, характерная черта ландшафта – длинные, вытянутые холмы. Скромная Валдайская возвышенность на античных картах изображалась в виде солидных горных цепей, которые, возможно в более древних мифологических представлениях, соединялась с Северными Увалами. Такое положение вещей подтверждает описание ландшафта Вологодской губернии, сделанному в 1890 г. Н. А. Иваницким: «По южной границе губернии тянется так называемая Урало-Алаунская гряда, захватывающая уезды Усть-Сысольский, Никольский, Тотемский, Вологодский и Грязовецкий. Это не горы, а отлогие холмы или плоские возвышенности, служащие водоразделом двинской и волжской систем»5. По мнению Жарниковой, – «Соединяясь с Тиманским кряжем и Приполярным Уралом на востоке и горами Финляндии и Кольского полуострова на западе, именно Северные Увалы создают ту дугу возвышенностей, похожую на изогнутый к югу лук, о котором рассказывали древнеарийские предания. Именно эту дугу возвышенностей поморы, жители Урала и финны называют до сих пор одним название – Земной Пояс»6. Таким образом, относительно сплошной горный щит опоясывал территорию северных земель Гипербореи, в которую входили земли Кольского полуострова, Карелии, Архангельской, Вологодской области и Республики Коми.
Специфичная смена дня и ночи, вид северного сияния всё вместе это и завораживало людей и настраивало их на некоторые философские размышления. Это было место как бы иного состояния бытия природы, для пришедших сюда с юга людей преддверием в переходе в иное состояние жизни, и эти территории перевоплощения были восприняты ими как сакральное место обитания вселенского бога.
На новом месте обитания индоевропейцев летом день наблюдался круглые сутки, т.е. были белые ночи, зато зимой он становился очень коротким, с закрытой облачностью небом практически не выходил из сумеречного состояния, и в этот период жизнь замирала. Всё это было связано с путём солнца по небу, и у людей возникал закономерный интерес к самому солнцу и его движению, от которого слишком контрастно зависело и меняло их жизнь в течение года. Этот солнечный путь восхождения, а затем и нисхождения обратно как бы во тьму, с повторением всего цикла из года в год, стал зваться у них солнечным путеворотом или, в дальнейшей трансформации, солнцеворот (коловорот). Теперь в приполярном круге старому культу был дан новый философский толчок, еще более направленный в сторону гармонии Вселенной. Само солнце, как символ гармонии, у них стало зваться Коло (т.е. диск, круг), где одна часть этого состояния переходит в другую, нет ни начала, ни конца, и, в то же время, в любой точке существует и начало, и конец. Символом движения солнца по небу стало перекрещение двух линий, символизирующие два периода солнцестояния (лето, зима) и два периода равноденствия (весна, осень), вместе с тем символа подвластных ему четырех сторон света и четырех сторон времен года, в единении чередующиеся друг за другом. Путь-движение солнца показывался полукруглыми отрезками отходящие все в одну сторону от четырех концов линий символизирующие части света. Схема напоминала колесо с четырьмя спицами и разомкнутое после каждой спицы. Количество спиц не привязывалось жестко к четырем сторонам света, их количество могла меняться. В дальнейшем этот символ движения солнца, символ вселенской гармонии, превратился в символ колеса сансары, колеса воплощений, переселения душ – гармонию сансары. В то же время сам солнечный культ, на северной родине, параллельно трансформировался в собственный культ круга, подразумевающий, что круг это символ бесконечности, гармонии, т.е., с их точки зрения, то, что хорошо, и далее в суеверчестве принявшее вид спасающего элемента. Священно-мистическим стало все, что напоминало форму круга – колесо, звенья цепи, калачи, венки и просто очертание кругом, все это служило символом целостности, могущественности, величины окружавшего мира.
Основной философией этого общества оказалось старое, ещё южное поверье, что солнце гуляет по разным мирам – днем освещает этот мир, а ночью на солнечной ладье спускается в иной и там уже освещает бытие умершим людям, их душам. Движение солнца в этом и ином мире стало выражаться у них в лабиринте, как непознанное мистическое движение его пути. Вскоре лабиринт стал символизировать вообще все существующие Бытие – движение-переход всего из одного в другое, до непознанности, т.е. смысла его движения, ни самой цели жизни, ни самой цели смерти и перехода от одного к другому. Лабиринт стал символом гармонии мира и переход его в вечность.