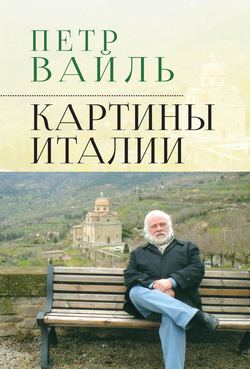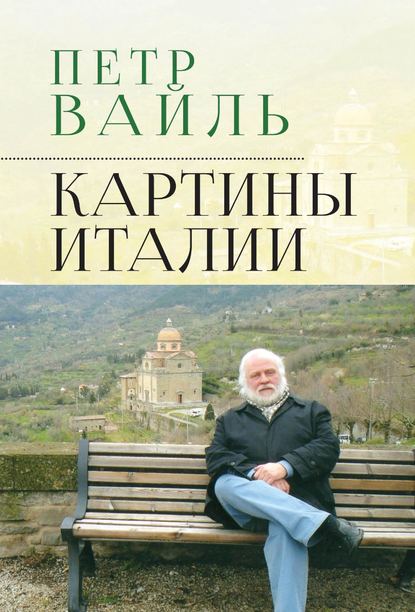<Письмо Максиму Вайлю от 24 марта 1978 г.>
Привет! Мы пишем, надеемся, что пишете и вы все, но есть некоторые основания предполагать, что это грязные происки, возможно, связанные с моей работой. Потому избираем такой способ передачи информации – к сожалению, разовый. Сразу: письмо не для родителей, им обо всем знать не обязательно. Полезные сведения сообщи им устно, дескать, окольно дошло. Дай для ознакомления Кацам, Вовке. Мы из Союза ничего не получаем уже два месяца – только твоя открытка и одно твое же письмо.
I. Работа. Как вы знаете, я работаю в «Новом русском слове». Это единственная в Зарубежье ежедневная газета, самая старая русская газета в мире (старше «Правды» – выходит с 1910 г.), единственное самоокупаемое русское издание. 4 полосы, в воскресенье – 8. Я там литсекретарь, работа в основном редакторская – с рукописями. Кроме того, веду ежедневно хронику и еженедельно – спортивное обозрение. Пишу сам в охотку: за два месяца штатно и две недели нештатных опубликовался раз десять – это при том, что чисто журналистских ставок в газете нет вообще, писание – по желанию. Слава Богу, хватает авторов со стороны – со всего мира. Писал про Венецианское биеннале диссидентской культуры, делал интервью с Турчиным и Алексеевой, про Любу Симанскую, про 5-летний юбилей издательства Чалидзе «Хроника», про русский музей в изгнании в Париже, про демонстрацию в защиту Григоренко, Ростроповича и Вишневской и т.п. Кайф непередаваемый. Темы одни чего стоят! А писать, себя не одергивая, – душа поет. Работаю с 9 до 5, суббота и воскресенье – выходные. Кладут мне 200 в неделю и еще по 10 за спорт. За статьи – отдельно, мало – по 15, но, к сожалению, здесь (то есть, везде в Зарубежье) прилично платят только на радио. На гонорарах не разживешься, большинство изданий не платит вообще – одно реноме, и только. Кстати, сейчас готовим с Сашкой большую журнальную статью «Советская литература между Самиздатом и Союзом писателей» – о всяких там Аксеновых, Трифоновых, Искандерах, Поповых, Битовых. Тема интереснейшая и здесь совсем неизвестная: либо ругают Маркова, либо хвалят Войновича – середина темна и неведома, думаем послать в «Континент» или, что лучше, в отличный израильский журнал «Время и мы». Туда, правда, страшно – у них блестящий отдел критики.
Сашка, кстати, работает помощником метранпажа у нас уже две недели. Пашет, как бобик.
2. Общение. Оно есть, и довольно активное. Начали серию интереснейших знакомств еще в Риме – на Сахаровских слушаниях и в Венеции – на биеннале. Бродский, Синявский, Эткинд, увы, покойный Галич, Максимов, Томас Венцлова, Мальцев (автор единственного исследования «Вольная русская литература 1956–1976»). Давид Маркиш (сын Переца) и Эмма Сотникова из Израиля. В Венеции посещали все четыре дня литсеминары, были на худ. выставках, выставке Самиздата, куролесили с одним из лучших современных художников – Олегом Целковым, прямо по-рижски: с пением неаполитанских песен по ночам, падениями в канал и пр.
Здесь довольно тесно сошлись с Турчиным, ходим друг к другу в гости. На нашем новосельи были Генисы, Катька с Филиппом, Турчины – сам, жена и два сына, Шрагины – Борис Шрагин, искусствовед и здесь профессор Хантер-колледжа, жена Наташа – антрополог. Они все – люди, с которыми разговаривать колоссальное удовольствие. Я провел как-то день у Павла Литвинова за беседами. Очень хорошее и приятное знакомство с Людмилой Алексеевой – той, что представитель Хельсинкских групп за рубежом. Был уже тут на разных диссидентских симпозиумах и пресс-конференциях, позавчера (22.03) – на демонстрации протеста против лишения гражданства этих троих. Не скучно, в общем.
24.03.78.
<Письмо родителям из Нью-Йорка от 11 октября 1982 г.>
Здравствуйте, дорогие!
Почему долго не писал, объяснить не могу, сам не знаю. Во всяком случае, ни о какой враждебности не может идти и речи. Отчасти, наверное, дело в том, что мои личные обстоятельства изрядно запутались в последнее время, в самое последнее время прояснились, а писание писем домой требует (как мне кажется) некоторой определенности. Кроме того, общение с друзьями и знакомыми убедило меня в том, что адекватно передать свои ощущения и реалии здешней жизни не удается – в результате образуется недоумение, непонимание, недоговоренность. Беда, что мне известны обе стороны моей жизни – до и после, – а вам только одна. И это проблема отнюдь не только информации, как хотелось бы думать, а целого комплекса представлений о жизни, которые, естественно, и есть жизнь.
Сначала о личных обстоятельствах. С Райкой мы живем врозь два с половиной года. Видимся довольно часто. Я остался в нашей прежней квартире, Райка обреталась в разных местах – у матери, у подруг, но несколько месяцев назад сняла квартиру в Джерси-Сити. Это город рядышком с Нью-Йорком, как бы город-спутник. Она работает на Радио и учится на курсах медсестер.
Я работаю все там же, в газете [«Новый американец». – Э. В.]. Ситуация стабилизировалась. Наше предприятие взяли в свои руки американские бизнесмены, и теперь беспокоиться о будущем вроде бы не приходится. (Я и раньше-то никогда не беспокоился о будущем, но здесь как-то принято делать на этом акцент, стиль жизни, что ли, такой – даже миллионеры волнуются.)
Мы с Сашкой по-прежнему довольно много пишем, печатаемся – все больше о литературе. Через месяца три-четыре выйдет наша книга «Современная русская проза» – то, над чем мы, в разных формах и способах, работали последние три года. Книга страниц на 200, со справочным аппаратом – то есть, достаточно солидная.
В сугубо личном плане у меня тоже изменения. Уже месяц я живу почти забытой семейной жизнью. Понимаю, что для вас наши выходки – удары, но что же делать? Мою жену зовут Эля, она из Москвы, в Штатах с 1979 года. Работает у нас на фотоэлектронной машине (наборной). В Москве закончила журфак, работала во Внешторге.
В связи со сменой матримониальных условий, изменились условия и бытовые. Никогда у меня не было такой великолепной квартиры. Появилась – впервые в жизни – спальня, какие-то занавески, абажуры, портреты прекрасных дам. Короче, даже закаленные Генисы завидуют. Может быть, я старею (без иронии), но покой и уют вдруг оказались достаточно существенными для меня. Я уж не говорю о том, что у меня теперь есть кабинет: роскошный двухтумбовый стол, картотека, книжные полки под боком, машинка (подарок Эли), шрифт которой вы можете оценить. Поскольку я не рассчитываю на создание бессмертных произведений, то канцелярские атрибуты значат очень много. Ведь на службу я хожу два раза в неделю (так уж мы с Сашкой устроились), так что деловая обстановка дома – вещь первостепенная.
То же – с обстановкой эмоциональной. Интересы у нас с Элей – общие, образовательный уровень – одинаковый, запросы – совпадающие. Плюс к этому, она мне очень нравится во всех прочих аспектах. А что, собственно, может быть еще?
Целую вас,Петя
Русский Талант
Племянница патриарха Алексия Люба Симанская в Риме
Впечатление было ошеломляющее. Перед глазами – собор Св. Петра в Ватикане, колоннада Бернини, охватывающая площадь, и классические швейцарские гвардейцы в желто-сине-красном, удивленно пялящиеся на разухабистый русский хоровод. Румяные парни и длиннокосые девицы плясали на площади Св. Петра!
Были еще и другие картины. Здесь, в центре Рима, дрались на снегу ярые петухи; под синим итальянским небом танцевали медведи, неслись тройки, всадники брали штурмом снежные города.
…На Виа Маргутта не протолкнуться. На этой знаменитой (каждая вторая дверь – вход в картинную галерею) улице два раза в году выставляются лучшие художники Рима. Здесь я и увидел прекрасные сказки Любы Симанской. Она – высокая, крупная, уверенная – была тут же. Никак не входило на место полотно, на котором молодецкий конь под робким пареньком кланялся красавице. Я предложил помочь, и мы познакомились.
На Виа Маргутта – отборные силы в эти 8 дней в году (четыре в ноябре и четыре в апреле). Томные, «северянинские» дамы Роберты Паолетти, замысловатые композиции сюрреалиста Родольфо Фраттайоли, очень домашние портреты Новеллы Париджини, элегантные римские виды Аурелио Сальватти, и несть им числа – точнее есть: ровно сотня отличных художников.
И все же – картины Любы Симанской выделяются и здесь. И меня подкупила не тема. «Русскость» ее полотен поражает сразу – своей необычностью среди других. Но после понимаешь и чувствуешь главное: сочный колорит; композиционную стройность; точную меру вкуса, так необходимую для стиля naif; и, наконец, – снова «русскость». Но уже не ту, первоначальную, на контрасте – хоровод у собора Св. Петра. А подлинную, корнями уходящую в любовь к России, ее природе, людям и искусству. «У всего должны быть свои корни», – говорит Люба Симанская. И размышляет о них, ищет, вспоминает.
Она родилась в Польше. Отец ее – Лев Федорович Плесцов командовал еще в той, российской Польше, стоявшим в Плоцке 15-м Его Императорского Величества Александра III полком переяславских драгун. В Польше, в Варшаве, семья осталась после 17-го. «Очень была патриархальная семья», – говорит Люба. Дети, она и старший брат Георгий получили добротное русское воспитание. Да еще была няня – Маша Румянцева. Люба смеется: «Моя Арина Родионовна». Маша знала тысячи сказок и песен и была человеком образованным: под ее руководством дети разыгрывали спектакли. Ставили даже «Евгения Онегина», и, конечно, Люба была Татьяной. А пушкинские сказки знала все наизусть. У всего должны быть свои корни.
В 1939 году, когда началась война, Люба, бывшая замужем за английским дипломатом, должна была покинуть Польшу вместе с дипкорпусом. Отца и брата она больше не видела. В конце войны наступавшие советские войска арестовали обоих, и следы Льва и Георгия Плесцовых потерялись в лагерях.
Поездить Любе пришлось: Румыния, Турция, Египет. И, наконец, Иордания – уже со вторым мужем, Николаем Павловичем Симанским. Он был начальником строительства канала в Аммане. Здесь Любе жилось вольготно и праздно: рауты, приемы, прогулки, бридж. Но все это рухнуло, когда в 1965 году умерла мать. Год Люба не могла прийти в себя. «Я сейчас даже не могу вспомнить, что делала в тот год – кажется, действительно только плакала».
В 1966 они с мужем поехали в Лондон. И тут это произошло. До тех пор у Любы Симанской отношение к живописи было нормальным отношением культурного человека. Она очень любила Шагала, да и теперь считает его своим любимым художником. Интересовалась современной живописью. По совершенно русской своей натуре любила Васнецова, Билибина, Маврину. Даже из русских поэтов выделяла самого, по ее мнению, «картинного» – Есенина. Она с детства писала стихи. Но мать, сама немного рисовавшая, – пейзажи, натюрморты – тщетно пыталась заставить Любу взять кисть. Той это было неинтересно. Да вроде и не умела.
В Лондоне Люба вспомнила об увлечении матери и пошла к хорошему знакомому их семьи, известному художнику Борису Пастухову: «Как научиться писать маслом?» Тот развеселился: «Купи кило сливочного и приходи – поговорим». Любе Симанской было тогда за сорок и скепсис Пастухова не удивляет. И все же она пошла и купила масло, не сливочное, кистей, холста, и в тот же вечер, усевшись на ковре, начала свою великолепную карьеру. Утром и муж, и знакомая художница-англичанка долго не верили, глядя на измазанную Любу, на холст, где девчушки-матрешки несли пасху-куличи, а лихие утята волокли корзинки с крашенками. Потом не верил никто и в Аммане – подруги, коллеги мужа, партнеры по бриджу. Она до сих пор считает это чудом. «Бог осушил мне слезы кисточкой».
Первая выставка состоялась 15 апреля 1967 года. Открыла ее принцесса Муна. Она еще прежде обещала дебютантке покровительство, и Симанская советовалась с ней об организации выставки. Люба вспоминает: когда она принесла пачку уже готовых программок во дворец, то от волнения перед дебютом выронила ее, и тогда они трое – Люба и два коронованные особы, король и принцесса, на четвереньках стали подбирать бумаги.
Успех выставки был неожиданным – из 36 картин в первый же вечер купили 18. И уже через месяц по приглашению последнего арабского губернатора Иерусалима Анвара Катиба Люба выставлялась в священном городе.
Квартира Любы Симанской – музей. И не только картинная галерея. Вот великолепный кубок – первый приз на «Фестивале двух миров» в Сполето в 1976 году за «Русскую зиму». Она очень часто пишет зиму. Она, последние тридцать лет живущая в странах, где не знают или почти не знают снега. И потому она не тоскует по зиме, что сама творит ее. И в Риме, возле Стадио Фламинио, по лиловым снегам скачет тройка, и кони храпят на черных зеленоглазых волков.
Вот послание от папы римского с благодарностью за присланную к его 80-летию работу. Вот целая пачка книг премьера Андреотти – с дарственными надписями. Вот красивый приз «Рим-76» за ту самую, с хороводом у собора Св. Петра. И целая коллекция писем, фотографий, вырезок из газет о выдающемся деятеле русской православной церкви патриархе Алексии.
Когда Люба вышла замуж за Николая Павловича Симанского, патриарх поздравил своего родного племянника и его молодую жену. Вышло так, что ответила ему Люба. И с тех пор именно она, а не муж, вела переписку – более 20 лет. Именно ей, Любе Симанской, продиктовал за день до смерти свое последнее письмо патриарх. Теперь оно, как реликвия, хранится в Троице-Сергиевской лавре. Отношения их были удивительно теплыми. Патриарх полюбил всю семью Симанских, и не зря младший сын Любы – тоже Алексей. (На стене – большая фотография: два Алексея в лондонской православной церкви. Все английские газеты во время визита патриарха в Лондон в 1964 году обошел другой снимок: Алеша рядом со своим прославленным тезкой.)
Первосвятитель был внимателен к ним даже в мелочах. Когда он получил фото матери с сыном с выставки в Иерусалиме, незамедлительно ответил и, среди прочего, выговорил: хороша мать, у сына на пиджаке пуговицы не хватает. Ему было тогда 88 лет, но, впрочем, патриарх Алексий скончался в 92 года, и до последнего дня рассудок его, память и наблюдательность были поразительно ясными.
После лондонской встречи они увиделись через пять лет в России. Москва, Загорск, Киев, Ленинград, Одесса. Люба смотрела, смотрела, смотрела. А вернувшись – с ворохом альбомов, репродукций, набросков – бросилась работать. (У Алеши – воспоминания свои. О заступничестве. В Одессе, в Успенском монастыре – летней резиденции патриарха – мать пожаловалась, что сын носит слишком длинные волосы, мол, повлияйте. Алексей усмехнулся: «Тебе нравится? Ну, и носи. Я в молодости тоже был этим грешен».)
И в 1972 году, когда уже новый патриарх Пимен пригласил Симанскую в гости, встречали их с почетом. В Печорах, где фамильные гробницы Симанских, под звон колоколов к ним выходил псковский владыка Иоанн. Трезвонили при встрече и в Суздале и во Владимире.
И – новый всплеск. Василий Блаженный; базар – мед, яйца, яблоки, живность; сказочные жар-птицы; «Зимняя свадьба», получившая премию в Париже. Выставки в Испании, Бельгии, Англии, Португалии (там Любу помнят хорошо, там осталась ее Богоматерь Фатимская, написанная для экуменического конгресса).
Эта женщина избывает талантами. Я уже говорил о том, что много лет она писала стихи, и только живопись вытеснила их – причем совершенно.
Фамильные таланты переходят и к сыну. «Лентяй» (это говорит мама) Алеша, 20-летним начав серьезные занятия живописью в 1974 году, сразу, в том же году «отхватил» премию Марка Аврелия. Ее же через два года, а в 1977 – премию Данте. Одно слово – «лентяй». В его живописи русских мотивов куда меньше. Что и понятно. Но жаль.
А Люба Симанская продолжает работать, возрождая и сохраняя в Италии Россию. И хоровод кружится в Ватикане, и на площади Испании ходят очень русские (хоть и в джинсах) парни, и гармоника пришлась бы им очень кстати.
В нынешнем году группа художников объединения «Галерея-КБ Комо» собирается с вернисажем в Нью-Йорк. В их составе будет и Люба Симанская.
«Новое Русское Слово», 29 января 1978 г.
Прим. ред. Любовь Львовна Симанская, урожд. Плесцова, скончалась в Риме 13 января 2002 г. и похоронена на некатолическом кладбище Тестаччо. В 2007 г. по почину ее сына Алексея при русском храме св. Екатерины прошла ее выставка.
Заметки с Венецианского Биеннале – «культура диссидентов»
Но я отвечу, не робея:
– Даме нельзя без чичисбея.
Ходят по Венеции фашисты,
К дамам они пристают.
На редкость дурацкая песня. Но вот пока ехал из Рима в Венецию, да и в самой Венеции все она крутилась – со своими бессмысленными словами и незатейливой мелодией. И ведь об этом городе написано столько, что хватит на небольшую библиотеку. А что до стихов – то одного Блока, наверное, вполне достаточно. А тут – фашисты почему-то пристают к дамам, и слово такое безобразное: чичисбей.
Дело было в Александре Галиче. Организаторы Венецианского биеннале, посвященного культуре диссидентов (15 ноября – 15 декабря 1977 года), выпустили книжку – песни бардов: Галича, немца Вольфа Бирмана и чеха Карела Крыла. И галичевский раздел почему-то открывала эта песня про Венецию. Галич к песне никакого отношения не имел и должен был всем объяснять это – вышла путаница. Но тем не менее – пел ее. Пел и объяснял, что слышал такую в ранней юности и запомнил даже. Запомнил, в основном, потому, что впервые получил представление, кто же такие фашисты – это те, кто пристают к женщинам. А поскольку он знал, что коммунисты против фашистов, то вполне логично заключил, что коммунисты – это как раз те, кто к женщинам не пристают.
Все это он говорил в последний день Сахаровских слушаний в Риме, после их закрытия – на своем концерте в русской библиотеке им. Гоголя. Он был страшно доволен: в библиотеке нас было человек тридцать, весьма камерно. И главное – не надо переводить песни, делать длинные, изматывающие интервалы, нужные для перевода. Все, кто был, русский язык, слава богу, знали.
В Венеции же народу было полно, зал Атенео Венето – битком. Сидели на полу, в проходах. Популярность Галича поразительна, и концерт этот – последний в его жизни концерт – проходил триумфально. Сейчас мне уже кажется, что и пел он как-то по-особенному, не как всегда. Хотя, конечно, это не так. Он чувствовал себя очень плохо. В тот день мы случайно встретились у моста Академии, гуляли по улицам и он говорил, что совсем расклеился, замучила простуда, что надо ехать домой, в Париж, отлеживаться. Это было 3 декабря. 15-го его не стало.
Сейчас я просматриваю свои записи, сделанные во время биеннале, и нахожу странную вещь. В Ca’ Giustinian проходила пресс-конференция Галича. Народу набралось изрядно, вопросов была масса. И первый: как ему пишется за границей, не отрезана ли для него Россия? Галич сказал, что прежде высылка писателя из России могла быть равна его смерти. Теперь – не так. Он, да и другие (Галич так и сказал: мы), не считают себя умершими для своего народа. Сегодня мир довольно мал: в нем сейчас удивительная степень взаимопроникновения, информация проходит, как бы ее не задерживали. Прежде всего, есть радио. И тут он заговорил о радио, о том, что обожает всякую электронную технику, что это увлечение просто переходит в психоз, что нет большего удовольствия для него, чем возня с магнитофоном, проигрывателем, приемником.
Черт знает что: знал он, что ли? Будто тогда, за 12 дней, с поразительной точностью предсказал, как и какая настигнет его смерть. Но вот что совершенно точно – умершим для своего народа Галич не будет никогда.
Галич рассказал, как летом 1977 года выступал в Пистойе. В день его приезда организатору концерта разворотили разрывными пулями оба бедра. Это были коммунисты из так называемой Лиги активного действия. А организатор был – рабочий.
Вообще политическая активность Галича удивительна. 5 декабря он пришел на посвященное защите прав человека небольшое заседание, оно даже не было объявлено в программе биеннале. Пришел уже совершенно больной, обиделся, что не пригласили (а там из Советского Союза были только двое), сказал, что хочет выступить. Говорил, как всегда, горячо.
Он был из тех, кто «высовывается». Это его слово. В первый раз Галич был в Италии в мае 77-го. Его пригласили во Флоренцию на конгресс «О свободе творчества». А когда приехал, то организаторы попросили во время конгресса не петь – чтобы не было неприятностей и конфликтов. Галич выступил на этом конгрессе и сказал, что он впервые в Италии, что итальянского не знает, но уже выучил несколько слов, пока ехал в поезде. Эти слова: «Опасно высовываться!» Он сказал, что он не министр и не политический деятель, что ему нельзя не высовываться. Даже, если это опасно.
У Галича есть песня, после которой ему запретили выступать в СССР. Песня – про вторжение войск в Чехословакию, про самосожжение Палаха, а точнее – про тех, кто отворачивается, затыкает уши, кому не ест глаза дым палаховского костра и спокойно спится под грохот советских танков. Песня называется «Я умываю руки». Это упражнение по грамматике: я умываю руки, ты умываешь руки, мы умываем руки… Галич эту пилатовскую формулу не признавал.
Пел он, конечно, в частных квартирах, в которые набивалось иногда по сотне человек, и большинство – с магнитофонами. И все, кто жил в конце 60-х – начале 70-х в России знают, что такое были песни Галича для нас.
Сам он говорит, что именно с тех пор, как запретили выступать, началась его счастливая жизнь. Ничего не боялся и говорил то, что думал.
И пою, что хочу, и кричу,
что хочу,
И хожу в благодати, как
нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом
платье неловки –
Я себе его сам выбирал
по плечу!
Здесь, на Западе, трудно представить, что такое состояние можно назвать счастьем. Всего-то – говорить, что думаешь. Да, только и всего.
В Восточной Европе для многих лучший подарок из-за границы – дощечка, на которой все написанное тут же, при желании, исчезает. Это похоже на идиотскую пантомиму: нормальные, не глухонемые люди переписываются, сидя в сантиметрах друг от друга. А говорить нельзя – квартира прослушивается. Не все квартиры, разумеется, но тех, кто высовывается и не умывает руки, – все.
Галич рассказывал, что ему ко дню рождения такую дощечку подарил Андрей Дмитриевич Сахаров, что это был королевский подарок. Дощечки эти буквально символ такой вот двойной жизни. И даже те, кто не боится за себя, боятся подвести другого и пишут, и стирают, пишут и стирают. Запад не знает о дощечках. Запад знает достаточно из книг – прежде всего, книг Солженицына – об ужасах лагерей, тюрем, арестов. Но вот как представить – что такое обыкновенная советская жизнь?
Об этом непонимании говорили и на биеннале. Оказывается, что диалог диссидентов с Западом нужно прояснять с самых азов. Ну, скажем, с самого слова «диссидент». Мы используем слова, понимая их по-разному. Об этом говорил Ефим Григорьевич Эткинд. И в самом деле: в СССР диссидентством, инакомыслием считается уже чисто эстетическое расхождение с установленной нормой. Длинные волосы, широкие брюки (а раньше – узкие брюки, а позже – женские брюки), верлибр вместо рифмованного стиха и т.д.
Бывшие кумиры блекнут: Евтушенко пропадает с утра до ночи на КамАЗе, Рождественский ведет на телевидении почему-то передачу «Документальный экран». Но лучшие-то – ушли к полной правде. Галич, популярный советский драматург и сценарист; Некрасов, чья книга «В окопах Сталинграда» есть у каждого фронтовика; опубликовавшийся – хоть и не слишком – Войнович. Другие. Их меньше, чем тех, кто свернул к светлому будущему и спецраспределителям. Но они – лучшие.
Да и плюс ко всему надо же решиться – так, как Солженицын, Войнович, Владимов. Это не для всех. (Бродский, когда на биеннале шел об этом всем – полуправде и полной правде – разговор, меланхолически заметил: «На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник…» Ну да, на всех стихиях).
Виктор Некрасов назвал новый вид литературы – тех, кто решился – литературой пощечин. Лидия Чуковская – открытыми письмами – пощечина. Владимир Войнович – «Иванькиадой» – пощечина. Георгий Владимов – выходом из Союза писателей – пощечина. Гелий Снегирев – отказом от советского гражданства – пощечина.
Вообще, выступление Некрасова в Венеции было самым коротким и живым на литературном семинаре. Итальянские студенты-слависты, собравшиеся в зале, смотрели во все глаза. А Некрасов – обаятельный, неотразимый – читал вслух газету «Правда». Он просил присутствующих читать ее ежедневно и помнить, что огромная страна на Востоке получает этот набор каждый день и в гигантском количестве. Он зачитывал фантастические фразы, вроде: «Свобода творчества наших художников состоит не в том, что они могут творить свободнее, чем их коллеги на Западе…», и умолял объяснить ему, что это может означать.
Ему, Некрасову, было нелегко уезжать. Как нелегко было многим из тех, кто сидел теперь в Ala Napoleonica в великолепной Венеции: бывшему ссыльному Иосифу Бродскому, бывшему лагернику Андрею Синявскому, бывшему пациенту психушки Юрию Мальцеву.
Но они привезли с собой литературу. Русская литература живет и там, и тут. И современная литература Зарубежья, и придавленная самиздатская, и литература пощечин, и подцензурные эзоповы писания.
Все это невероятное сплетение героизма, взлетов, падений, компромиссов, трагедий, успехов именуется вполне академично – современная русская литература…
«Новое Русское Слово», 8 февраля 1978 г.
- Возрождение
- Картины Италии
- Путешествие с Панаевой
- Палаццо Волкофф. Мемуары художника
- Мои современницы
- Николай Бенуа. Из Петербурга в Милан с театром в сердце
- Графы Бобринские
- Меж двух мундиров. Италоязычные подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену
- Россия – Италия: академический диалог XVIII–XXI веков
- Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода
- Религиозные мотивы в русской поэзии
- Хранитель истории династии. Жизнь и время князя Николая Романова
- Один в Африке. Путешествие на мотороллере через 15 стран вглубь черного континента
- Близнецы святого Николая
- Сказания о Сицилии. Подвижники, паломники, путешественники
- Вольная русская литература
- Очерки русского благочестия. Строители духа на родине и чужбине