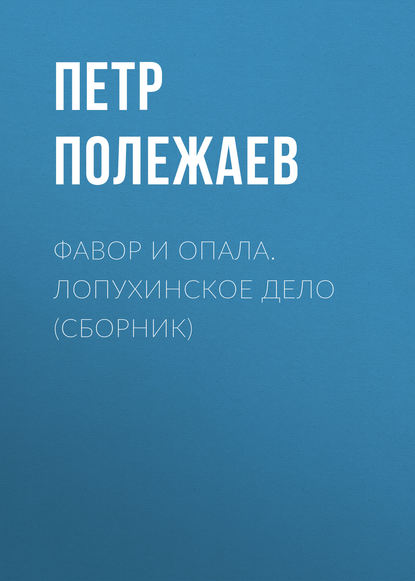000
ОтложитьЧитал
Фавор и опала
Часть первая
Фавор
I
– Затеял ты, брат Алексей Григорьевич, высоко взлететь, только, смотри, не спуститься бы где-нибудь в сибирских палестинах! – говорил своим обычным мягким голосом князь Василий Лукич Долгоруков
двоюродному брату своему, князю Алексею Григорьевичу Долгорукову, на другой день после коронации Петра II Алексеевича, внука Петра Великого, в дружеской беседе в кабинете последнего один на один.
– Кому спуститься? Мне? Нет, брат Василий Лукич, не знаешь еще ты меня, – самодовольно отзывался Алексей Григорьевич. – Кто, по-твоему, низвергнул нерушимого статуя Данилыча? Кто, по-твоему?
Василий Лукич тонко улыбнулся:
– Нерушимый статуй Меншиков, братец Алексей Григорьевич, рухнул от того, что грузен очень стал, пьедестал не выдержал. Рухнул бы он и сам собою, да только после, а теперь сронить его постарались многие персоны, только не ты, брат Алексей.
– Кто же, по-твоему? Кто? – горячился Алексей Григорьевич.
– Кто? Хочешь знать? Так я скажу тебе: подкопался под статуя барон Андрей Иванович Остерман, которому, сами того не ведая, дружно помогали сестрица государева Наталья Алексеевна, тетка-цесаревна Елизавета да твой сынок Иван.
– Андрей Иваныч! Ха, ха, ха! Барон Андрей Иваныч! – захлебывался от смеха Алексей Григорьевич. – Насмешил же ты меня, брат Василий. Вот и видно, что господином посланником состоял – видишь там, где ничего нет. Андрей Иваныч, брат, человек хворый; хоть и немец, а простой, даром что воспитателем считается государевым, а из моей воли никогда не выйдет. Захотел бы я, так завтра же его не было бы, да не хочу: человек он нужный, работник без устали, смирный и послушливый. Андрей Иваныч, что ль, посадил нас, меня и тебя, в Верховный совет? Я, Василий, сам сел и тебя посадил. Хорош воротила, хороши и помощники! – И Алексей Григорьевич снова захохотал до слез.
Князь Василий Лукич не возражал; он только по привычке едва заметно повел правым плечом да досадливо забарабанил по столу тонкими, длинными, точно выточенными пальцами, на которых блестели перстни с драгоценными камнями.
– Хороши помощники, нечего сказать! – продолжал князь Алексей Григорьевич, лукаво прищуривая на брата зеленоватые глаза. – Девочка несмышленая и хворая, да ветреница, у которой на уме только пляски да песни. А что ж касается до сынка моего, то всем известно, какой он отпетый идол.
– Ивана хулить тебе не след, брат, через него и вы все пошли, – заметил Василий Лукич. – Любит его государь чуть ли не больше себя.
– Любит, правда, да какая же Долгоруковым-то от этого польза? Иван не токмо что порадеть семейству своему, а, напротив, норовит, как бы насолить ему. Кутежами только единако в мыслях своих преисполнен.
– Молод еще, выработается, – оправдывал племянника Василий Лукич.
– Нет, братец любезный, не в молодости тут сила. Вот другой мой сын, Николай, и моложе его, а понимает, что он князь Долгоруков. Задумал я отвести государя от Ивана и поставить в фавориты Николая, а если не удастся Николая, то кого-нибудь из чужих сподручного.
– Напрасно. Алексей Григорьевич, напрасно ты это задумал. Отведешь Ивана, так и сам останешься ни при чем. Поддержки-то, как я знаю, у тебя нет.
– Какой же мне еще поддержки, окромя государя?
– Государь государем – это главное, а не худо бы заручиться и разными альянсами с другими фамилиями.
– А где же ты, милостивый мой князь, отыскал другие фамилии, кроме нашей? – с хвастливостью возразил Алексей Григорьевич. – Всех таких фамилий покойный государь либо разогнал, либо поравнял с подлым народом.
– Ну нет, есть еще, – задумчиво заметил Василий Лукич.
– Ну скажи, где они такие фамилии?
– Ну Головкины, например.
– Канцлер Гаврило Иваныч? Ну уж выбрал кого! Головкин, братец мой, не из больно знатных персон, да и сам Гаврило Иваныч ни то ни се, ни рыба ни мясо. Нешто сделался силен, как выдал дочку замуж за жидка Ягужинского? Славная поддержка!
– Ну, есть кроме Головкиных и другие фамилии, Голицыны, например.
– Голицыны, не спорю, древнего рода, Гедиминовичи, да только они теперь не в силе. Государь их не любит.
– Государь молод, на привязанность или неприязнь его рассчитывать много не след, – с задумчивостью проговорил Василий Лукич. – Да и где же проявилась неприязнь к Голицыным?
– Об этом не беспокойся – дело сделано. Как только отослали нерушимого статуя, я, зная, что со стороны Голицыных, особенно со стороны Михайлы Михайловича, будет какая-нибудь вспышка в пользу Данилыча – были они, ты знаешь, хороши между собою, служили вместе покойному, – я тогда же шепнул о дружбе фельдмаршала Михайлы с Меншиковым, предупредил, значит, как следует. Вот когда Михайла Михайлович явился из Украйны в Петербург и, получив аудиенцию, начал укорять государя, что ссылать людей заслуженных без суда неподходящее дело, так государь обернулся к нему спиною и явную показал немилость. С тех пор нам Голицыны не опасны. Где их сила? Знаешь сам, какие у них, у Дмитрия Михайловича и Михайлы Михайловича, упрямые характеры, а такие характеры Петр Алексеевич не любит.
Василий Лукич, по обыкновению, не показал ни одобрения, ни осуждения, только после небольшого раздумья он спросил брата:
– Заметил я, что цесаревна Елизавета в последнее время стала к Голицыным особливо благосклонна. Не было бы тут чего!
– А чему быть? – вопросом ответил Алексей Григорьевич. – Цесаревне понравился племянник фельдмаршала Михайлы, молодой Бутурлин, – вот и все тут. Боишься ты, брат Василий, влияния на государя цесаревны, больно он уж ее любит, а, по-моему, это ничего. Цесаревне не ребенок нужен, ведь это только немцу Андрею Иванычу могла прийти такая шальная мысль: женить племянника на цесаревне для совокупления-де воедино двух царственных ветвей! Цесаревну мы отведем, выдадим ее замуж за границу, Иван постарается… Да и самого государя можно отвлечь: иной раз и служанка покажется не хуже госпожи…
И Алексей Григорьевич, вплоть наклонившись к уху Василия Лукича, начал шептать:
– Заметил государь камеристку у цесаревны, смазливенькую такую, как будто схожую с цесаревною, вот Иван и уладил… Не пожалел заплатить и пятидесяти тысяч рублей… Проводил девушку к государю… Слюбились… С той поры государь не по-прежнему дорожит и сестрою своею Натальею Алексеевною.
– Неужто? – удивился Василий Лукич. – Да как же это? Ведь государю только двенадцать лет минуло с прошлого октября.
Алексей Григорьевич самодовольно хихикнул и утвердительно мотнул головою.
Как ни был свободен от предрассудков относительно служения Эроту князь Василий Лукич, видевший разные виды при иностранных дворах, но и он заметно смутился от рассказа брата. «А впрочем, – тотчас же мелькнуло в его голове, – оно, может быть, и к лучшему…» В изобретательном уме дипломата моментально обрисовались картины перенесения и на русскую почву тех порядков, какие он видел за границею, в Швеции и Польше, картины, вполне удовлетворявшие олигархическому духу, в которых все было: и власть, и слава, и почести, не было только одного – мысли о подлом народе.
Беседа братьев протянулась до полночи; об всем, казалось, было переговорено и условлено, но через несколько часов случилось обстоятельство, которое все-таки не предвиделось.
На другой день после совещания, утром, весь придворный круг облетело известие о каком-то подметном письме, поднятом у Спасских ворот близ Кремля и тотчас же представленном господину обер-камергеру Алексею Григорьевичу. В письме содержалось прошение за павшего статуя Александра Даниловича Меншикова. Гневом вскипел Алексей Григорьевич, прочитав это письмо, и по первому побуждению предположил было скрыть его от всех, уничтожить без следа, но потом, обдумав хладнокровно, решил, напротив, показать его государю и прочитать, разумеется, с приличными пояснениями. Письмо, написанное, как видно, неопытным человеком и притом поясненное ядовитыми примечаниями, не могло не раздражить государя, не могло не оскорбить его самолюбия и гордости. В нем, после упоминания о заслугах Данилыча, высказывался извет о низких замыслах окружающих теперь государя любимцев, ведущих его к образу жизни, недостойному царского сана. «Кто мог быть автором этого письма? – задавался вопросом Алексей Григорьевич. – Где отыскать его?» Ясно, что автор должен быть кто-нибудь из сторонников Меншикова, но после падения статуя этих сторонников вовсе не оказывалось: все тогда отшатнулись от опального семейства. Одни только Голицыны в то время не лягнули упавшего – не их ли дело и подметное письмо? Однако же как ни казалось с первого взгляда подобное объяснение естественным, но оно до того противоречило всем известному характеру обоих Голицыных, что не представлялось никакой возможности к назначению над ними инквизиции. Да и к чему бы повела против Голицыных инквизиция? Только к возбуждению против себя фамилии сильной, всеми уважаемой, ссориться с которою, при неутвердившемся еще собственном положении, было не совсем безопасно. И Голицыных оставили в покое, направив в иные сферы все тайные силы к разысканию виновного автора. Кроме легиона шпионов составили и обнародовали манифест, в котором обещалось прощение автору, если он сознается добровольно сам, назначалась награда тому, кто донесет о виновном, и жестокая кара тому, кто, зная виновного, укроет его.
Долго не отыскивалось никаких следов, но наконец по каким-то темным слухам, ходившим между монахинями Новодевичьего монастыря, где проживала бабушка государя, царица Евдокия Федоровна – инокиня Елена, – подозрение остановилось на духовнике ее, монахе Клеонике.
Постельницы и послушницы, прислуживавшие у бабки-государыни, большие охотницы, как и во всех обителях, подслушивать и подсматривать, стали сначала только между собою, а потом и с другими смиренными сестрами – монахинями Новодевичьего монастыря, шушукать о том, что монах Клеоник, духовник старой царицы, стал в последнее время особенно частенько навещать свою духовную дочь и о чем-то толковать шепотом, выслав предварительно всех докучных свидетелей. Как ни тихо шептал отец Клеоник, но острое ухо смиренных сестер подслушало, что он уговаривает царицу похлопотать перед государем о помиловании родной сестры Дарьи Михайловны Меншиковой, Варвары Михайловны Арсеньевой, самой приближенной к опальному семейству и сосланной в Александровскую слободу. Сплетни об этих переговорах, перелетая от одной к другой, перешли за монастырскую ограду к дворцовой челяди, а потом и к самим господам, княгине Прасковье Юрьевне и к мужу ее, самому князю Алексею Григорьевичу.
Монаха Клеоника притянули к розыску.
На первом же допросе духовный старец чистосердечно сознался в своих хлопотах перед царицею в пользу Арсеньевой, сославшись на просьбы Ксении Михайловны Колычевой, тоже сестры Меншиковой и Арсеньевой, жившей постоянно в Москве, и к которой привел его знакомый монах, отец Евфимий. Привели к розыску Колычеву. Ксения Михайловна сначала заперлась было, но потом, под пыткою хомутом и ремнем1, во всем повинилась, добавив еще то обстоятельство, что отец Клеоник, рекомендованный ей через знакомую Бердяеву, взял с нее за свои хлопоты взятку тысячу рублей. Притянули отца Евфимия, Бердяеву и всех, кто сколько-нибудь соприкасался к этому делу, допытывались, не было ли участия в подкупе Меншиковых и не было ли подброшенное к Спасским воротам анонимное письмо сочинением самого Александра Даниловича. Но как ни пытали, как ни разыскивали, но автор письма не открылся.
Отцов Клеоника и Евфимия, Колычеву и Бердяеву разослали по разным отдаленным местам, но этими наказаниями не удовольствовались. Алексею Григорьевичу все мерещилось непосредственное участие Меншикова в подметном письме, все чудилось, что до тех пор, пока Данилыч не погребен в сибирские снега, а живет в своем Ораниенбурге и пользуется громадным богатством, подобные попытки постоянно будут возобновляться и наконец могут сделаться небезопасными. Под давлением таких опасений Алексей Григорьевич сумел возбудить в государе заснувшее раздражение, представить участие Меншикова в сочинении письма делом доказанным и достигнуть совершенной гибели всего опального семейства. Александра Даниловича с женою, сыном и дочерями отправили в Березов в простой рогожной кибитке и в двух простых телегах, лишив решительно всего имущества, а Варвару Михайловну Арсеньеву сослали в Белозерский Сорский женский монастырь под строгий присмотр и на нищенское содержание.
II
Розыск производился негласно, и во все продолжение его инокиня Елена, бывшая царица, оставалась совершенно безучастною. Никто ее не беспокоил. Тихо, уединенно текла ее жизнь в монастырских стенах, среди полного обилия царского содержания, назначенного ей тотчас же по вступлении на престол внука. Но внешняя безмятежность не есть еще безмятежность внутреннего мира. Правда, ее государственная честь была восстановлена – на другой же месяц по воцарении Петра II Верховный тайный совет сделал распоряжение об уничтожении повсеместно манифеста о преступлениях царевича Алексея Петровича и о скандальных отношениях ее с майором Глебовым, – правда, ее освободили из тюремного заточения, назначили большую сумму, ежегодно до шестидесяти тысяч рублей, отписали ей несколько деревень, образовали ей особый придворный штат, но все это далеко не удовлетворяло ее честолюбия. Почти двадцатилетняя монастырская жизнь, кончившаяся разгромом всех ее тайных надежд, потом почти десятилетнее строгое тюремное заключение в Шлиссельбурге, полное лишение самых первых удобств, убелили некогда роскошные волосы, провели глубокие морщины на пожелтевшем лице, высушили барскую полноту, согнули прямой стан, но не сломили родовитой гордости и лопухинского упрямства.
Не мир и спокойствие внесли новые почести в душу старой царицы, а самую едкую и самую жгучую скорбь. И в монастыре, и в крепости она надеялась, не отдавая себе ясного отчета, на поворот своей судьбы, на возвращение к старому после зловредных и небывалых затей покойного мужа-тирана. Но вот этот поворот как будто и совершился: на престоле ее родной внук, а не дети ненавистной немки; все почти сподвижники гонителя-мужа, не исключая и злодея Меншикова, исчезли, а лично для нее этот поворот не принес именно того, чего так жаждала ее душа. Сначала счастье как будто бы улыбнулось: вскоре по приезде ее в Москву из Шлиссельбургской крепости все высокопоставленные влиятельные персоны – вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Остерман, бывший вице-канцлер Шафиров, Голицыны и Долгоруковы домогались ее внимания раболепными искательствами, кто письменно, кто лично, все ожидали, как и она сама, что ребенок, родной внук, из власти ее не выйдет, как бывало по родительскому старинному уважению, но на деле вышло иное. Родной внук оказался чужим, показал ей все наружные знаки почтения, но не только не открыл ей своего сердца, а, напротив, совершенно бесповоротно и видимо для всех отшатнулся. Родной внук не пригласил ее жить с собою в царском дворце, выслушал равнодушно, если не с досадою, ее советы о бережении здоровья, придал своему свиданию какой-то официальный характер, взяв с собою на это свидание кроме сестры Натальи Алексеевны и цесаревну Елизавету, которую как дочь ненавистной немки старухе царице видеть было в высшей степени неприятно. По примеру государя отшатнулись от нее и все высокие персоны, увидев, что нечего в ней искать, что без силы и значения она, как развалина прошлого. Только и раболепствовали перед нею монахини, послушницы, приживалки, церковные чины да свой штат, получающие от нее хлебные даяния.
В душе вдовствующей царицы началась тяжелая борьба, более тяжелая, чем во все пережитое время в монастыре и крепости. Там хотя и было много лишений, но там было и своего рода спокойствие безмолвной покорности перед силою, но теперь, в каждую минуту, обман самого напряженного ожидания. Не слышала она в церкви молитв, не слышала дома в келье обращенных к себе вопросов послушниц, все прислушиваясь как будто к отдаленным шагам высоких персон, присланных раболепно умолять ее занять подобающее место власти, место полной безотчетной царицы и руководительницы государя, но – все кругом тихо, с утра до позднего вечера утомительно тихо. Ни внука и никаких высоких персон не появлялось. И сознает она порою свое положение, силится усмирить мятежные помыслы, побороть их молитвою, постится, как постились самые строгие подвижники, по целым дням ничего не ела, а все не может переломить себя, а все желчь накипает, поднимается, душит и обрушивается на прислужниц, ни в чем не повинных.
Забыли старуху бабку государь-внук, государыня-внучка и весь придворный чин; у них у всех свои интересы, свои заботы – удовлетворить жажде молодых сил, ничем не сдерживаемых.
Двенадцатилетний государь въехал в Москву за три недели до коронации и занял с сестрою своею, старше его годом, Натальею Алексеевною, с теткою Елизаветою и приближенными придворными Лефортовский дворец в Немецкой слободе. Москва ликовала, а с нею ликовал и весь русский народ. Массы народу провожали государя по всему пути из Петербурга до Москвы и еще большими несчетными толпами теснились с утра и до вечера около дворца, желая хоть только взглянуть на своего надежу-царя, о котором ходили такие добрые и хорошие слухи. Истомился народ от тяжелых войн покойного деда-государя за какое-то тухлое болото, от которого он в душе открещивался, которого и даром не желал бы взять и в котором погибал тысячами в пригнанных туда серых работниках, истерзался народ от новшеств, ненавистных русскому сердцу, и охотно верил, что тяжкие времена миновали, что новый юный царь не пойдет по следам деда, а по пути православных исконных царей. Мил был русской душе юный царь по печальной судьбе отца. Все: богатый и бедный, горожанин и крестьянин, – все передавали друг другу, что царевич Алексей Петрович был замучен отцом за любовь к русской старине, что по злобе своей старый дед хотел передать престол детям от немки, для этого им и коронованной, но вот Бог не попустил неправды и все-таки возвел на державство законную отрасль.
Коронование императора Петра II совершилось по обыкновенному церемониалу и с обычными празднествами, милостями и увеселениями. Целую неделю, изо дня в день, продолжались торжества, целую неделю оглушал весь город звучный трезвон всех московских колоколов, а по вечерам зажигались потешные огни. Для увеселения народного были пущены в Кремле и в других частях Москвы хитро устроенные фонтаны, выбрасывавшие водку и вино.
Не успели еще кончиться коронационные забавы, как получено было известие, которое тоже должно было отпраздновать особым торжеством: в Киле у Анны Петровны, герцогини Голштинской, родился сын, будущий император Петр III. Казалось бы, что сыну царевича Алексея Петровича не было особого повода радоваться рождению двоюродного брата, сына Анны Петровны, но радовалась Елизавета Петровна, глубоко и нежно любившая сестру, а что радовало тетку Елизавету, то радовало столько же, если не больше, и племянника. Предположено было отпраздновать семейную радость великолепным балом.
К ярко освещенному подъезду Лефортовского дворца нескончаемою вереницею тянутся всевозможных видов кареты, колымаги и возки, из которых выпархивают или вываливаются важные персоны того времени. Гости в парадных кафтанах, вышитых золотом, и гостьи в легких богатых робах наполняют обширные залы, то величаво прохаживаясь, то собираясь кружками. Давно ли требовалась вся мощная сила Петра Великого, чтобы вывести русскую женщину из запертого терема на учрежденные им зловредительные ассамблеи, а вот через два года после смерти Петра эта самая женщина не только совершенно освоилась со своим новым положением, не только усвоила западные манеры, но и пошла в уровень, если не дальше, по легкости отношений к мужской половине. Конечно, бывали исключения, встречались еще женщины, не смевшие поднять глаз на мужчин, не отвечавшие на их вопросы или отвечавшие только односложными «да» и «нет», считавшие чуть ли не позором подать кавалеру свою руку, да вдобавок еще обнаженную, но зато нередко можно было видеть и дам, которые по костюму и манерам не уступали самым элегантным версальским богиням. Давно ли, три-четыре года назад, при деде Петре ассамблейные костюмы отличались крайнею простотою, такою простотою, что на самом государе, с которого, разумеется, брали пример и другие, не в редкость бывали чуйки и кафтан, заштопанные заботливою рукою Екатеринушки, а теперь бальные робы стали поражать иностранцев изумительною роскошью по изысканности тканей и по дорогим отделкам из драгоценных камней.
Трудно представить такую разнообразность общества, какая была на Руси в начале второй четверти XVIII столетия вообще и в особенности на придворном бале, данном по случаю рождения голштинского принца, на котором толпились все официальные и неофициальные представители Петербурга и Москвы. Приехал весь дипломатический корпус, присутствовавший на коронации: имперский посланник граф Вратиславский, испанский – герцог де Лирия, датский – Вестфален, польский – Лефорт и другие с семействами и свитами, придворные, министры, сенаторы, президенты и некоторые приехавшие провинциальные административные чины. Женский персонал представлял собою роскошный букет, из которого особенно выделялись замечательные красавицы того времени: цесаревна Елизавета Петровна; замужние дочери канцлера Головкина, графиня Ягужинская и княгиня Трубецкая; княжна Катерина Долгорукова, дочь Алексея Григорьевича; Наталья Федоровна Лопухина и только что в первый раз выехавшая пятнадцатилетняя графиня Наталья Борисовна Шереметева.
В ожидании выхода государя все приехавшие разделялись на отдельные две группы, мужскую и женскую, состоявшие из групп более мелких. Не было только сестры государя, царевны Натальи Алексеевны, и ее отсутствие удивляло всех, так как все знали, как дружны между собою брат и сестра. О причинах этого отсутствия все обращались с вопросами к ее придворному штату и получали в ответ, что царевна нездорова, но этот ответ никого не удовлетворял.
– Как же нездорова, когда она вчера вечером навещала тетку, герцогиню Курляндскую? – с недоумением спрашивали друг друга придворные.
Спросили Анну Иоанновну, но та не дала никакого положительного ответа.
Заиграла музыка, и из внутренних покоев показался недавно пожалованный обер-камергер Иван Алексеевич Долгоруков, за которым шел юный государь в сопровождении двух своих воспитателей, барона Андрея Ивановича Остермана и князя Алексея Григорьевича Долгорукова. Для открытия бала Петр Алексеевич пригласил тетку, цесаревну Елизавету, с которою и начал первый контрданс. Император и цесаревна бесспорно составляли самую красивую пару. Государь в последние месяцы заметно изменился, вырос, похудел, все черты сделались резче, и он, вкусивши от прелестей мира сего, казался гораздо старше двенадцати лет. В его больших голубых глазах, постоянно смотревших на свою даму, блестел далеко не детский огонек, а на побледневших щеках горел густой румянец, вспыхивавший яркою краскою каждый раз, когда голова его наклонялась к тетке. Для Елизаветы Петровны, которой в то время только что минуло двадцать лет, наступил тот возраст, в котором женская красота владеет полным очарованием. И невольно, смотря на эту парочку, приходила мысль, что, пожалуй, шальной Андрей Иванович едва ли не был прав в прожекте совокупления двух царственных ветвей.
Тетка и племянник танцевали естественно, с изумительною привлекательною грациею, хотя, отдавшись оживленному разговору, по-видимому, нисколько не заботились о выделывании па.
– Отчего, государь, Наташи нет? – спрашивала тетка.
– Вчера и сегодня я ее не видал. Андрей Иванович говорит, будто больна, да я думаю, совсем не от болезни.
– А отчего же?
– Ревнует, Лиза, к тебе.
– Ко мне? – удивилась тетка. – С какой стати? Ты так ее любишь!
– Люблю ее, а тебя больше, много больше… Тебя очень, очень люблю… Как никогда не любил и никогда не буду.
– Полно, Петруша, ты молод очень, не понимаешь еще, что такое любовь, – с улыбкою, но наставительно заметила цесаревна.
– Что ты, Лиза, меня все коришь, молод да молод… Не ребенок я и понимаю, все понимаю, – с грустью и слезами в голосе порывисто шептал государь.
– Что же ты понимаешь, Петя?
– А то, что ты меня никогда не любила и не любишь.
– Вот и совсем неправда… Хочешь докажу тебе?
– Докажи, Лиза, – умолял племянник.
Цесаревна приняла серьезный вид и с комическою важностью стала декламировать слова, написанные государем сестре своей на другой день после восшествия своего на престол, а потом, через несколько недель, высказанные им лично в заседании Верховного тайного совета:
«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобресть славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желаю оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих; выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и по примеру римского императора Веспасиана никого не отпускать от себя с печальным лицом».
– Видишь, как люблю тебя, выучила наизусть… Какие хорошие мысли у тебя, Петруша!
– Не мои они, Лиза, Андрей Иванович написал и дал мне выучить, – уныло сознался государь, но потом быстро добавил: – Но не думай, Лиза, я и сам могу написать не хуже.
– Верю, государь, твои воспитатели с отменною похвалою отзываются о твоих способностях. Все говорят, что ты развит не по летам.
– Опять, Лиза, годы, – упрекнул племянник.
– Что же делать, Петруша, не виновата же я, что родилась твоею теткою и за столько лет прежде тебя.
– А я не хочу иметь тебя теткою!
– А чем же, Петруша?
– Моею женою, – решительно высказал государь.
Лицо цесаревны сделалось серьезно, как будто какое-то облачко не то нерешительности, не то сожаления пробежало по нему; но это мелькнуло моментально, и тотчас же с прежнею ласковою улыбкою она обратилась к своему влюбленному кавалеру:
– Какой ты упрямец, Петруша, сколько раз я тебя просила не говорить мне об этом… Я тебя люблю как племянника, как брата, как дорогого друга, но не могу любить как мужа… Вспомни, что тебе только двенадцать лет, а мне за двадцать, чуть не старуха! Какая же пара! Посмотри, сколько хорошеньких молоденьких девушек! – уговаривала цесаревна, указывая на танцующих дам.
– Мне никого не нужно, кроме тебя! – упрямо настаивал племянник. – А я знаю, Лиза, почему ты не хочешь быть моею женою.
– Отчего же, по-твоему, государь?
– Ты любишь кого-нибудь, и я подозреваю кого…
– Ну говори, а я сама не знаю.
– Бутурлина Александра Борисовича. Вчера я застал его у тебя… Ты была так ласкова, так счастлива.
От неожиданности замечания и от пытливого взгляда ребенка-государя цесаревна смутилась, немного покраснела, но до того немного, что это укрылось даже от ревнивого взгляда влюбленного.
– Александр Борисович хороший человек, такой добрый, веселый, с ним приятно иной раз поговорить, но я его не люблю, да и никого не люблю, – серьезно оправдывалась тетка.
– Спасибо за это, Лиза. Так решительно никого не любишь?
– Никого.
– И если за меня не пойдешь, так и за другого ни за кого не выйдешь, никогда? Обещай мне это!
– Охотно. Петруша. Я и сама хотела просить тебя запретить Андрею Ивановичу заниматься моею судьбою и сватать за кого бы то ни было. Ни за кого не пойду. Просватана была раз, полюбила жениха… умер… Значит, не судил Господь мне счастья!
Во второй паре, по желанию государя, требовавшего всегда подле себя присутствия любимца, танцевал Иван Алексеевич Долгоруков с Натальей Борисовной Шереметевой. Молодой человек увидал свою даму на этом балу в первый раз, и какое-то новое, еще никогда не испытанное им чувство произвел на него этот только что распускающийся цветок. Ему, известному женскому сердцееду, менявшему любовниц едва ли не чаще своего белья, бесстыдному в клятвах и обольщениях, вдруг стало неловко, как будто стыдно встречать эти тихие глубокие глаза, в которых так ясно и полно отражалась вся чистота девственных чувств. Ни один из обычных приемов ловеласничества теперь не приходил ему в голову; он не знает, как и о чем ему говорить, так все прежние волокитства кажутся ему грязными и пошлыми.
– Вы знаете, графиня, что государь назначил охоту на будущей неделе? – наконец придумал он начать разговор.
– Слышала, князь, – коротко и спокойно отозвалась молодая девушка.
– С нами едут цесаревна, княжна Наталья Алексеевна и мои сестры. Не присоединитесь ли и вы, графиня?
– Я не понимаю удовольствий охоты, князь, никогда не бывала… да если бы и понимала, то теперь не могла бы. Бабушка так слаба, что едва в состоянии выезжать со мною в город.
На этом разговор и оборвался. Первый контрданс кончился; кавалеры, расшаркиваясь, целовали ручки у дам по моде того времени; государь поцеловал у цесаревны щеку.
– Второй контрданс со мною, Лиза? – спрашивал он у тетки.
– Как прикажешь, государь.
– Не приказываю, Лиза, а прошу.
– С удовольствием. Мне так с тобою приятно, Петруша.
Антракт продолжался недолго; по приказанию государя музыка заиграла второй контрданс, в продолжение которого все заметили те же оживленные разговоры у государя с цесаревною. Ребенок не сдерживал своих чувств, не хотел знать ни о каких пересудах и сплетнях.
Вслед за вторым контрдансом следовал третий. Государь опять танцевал с красавицею теткою, но на этот раз придворные подметили какую-то ссору в царственной паре. По окончании танца государь не поцеловал тетку, не остался около нее, а, напротив, быстро, даже не поблагодарив, как бы следовало по законам этикета, убежал в соседнюю комнату, где и уселся в углу. Все заметили, не показав, впрочем, виду, как крупные слезы нависали на его длинных ресницах и как падали они, уступая место другим. Попытался было подойти к государю барон Андрей Иванович, но тот с ожесточением отмахнулся рукою.
Между тем танцы продолжались. Из залы доносилось под звуки музыки шуршание платьев и глухой неопределенный говор. Успокоившись несколько, государь встал и подошел к дверям, откуда можно было видеть всех танцующих. Глаза его быстро окинули все группы и остановились на тетке, танцевавшей четвертый контрданс с его задушевным другом Иваном Алексеевичем. Болезненно сжалось от ревности юное сердце. «Вот я мучаюсь, страдаю, – шепчет он, – а она по-прежнему весела, даже веселее… С какою неприличною ласкою она смотрит на своего кавалера… Отвечает… Да и какой же дерзкий этот Иван, как нахально наклоняется к ней, любуется, что-то шепчет, чуть не на ухо?» И, не выдержав более, государь порывисто подходит к паре и делает строгий выговор своему обер-камергеру за неисполнение его обязанностей, а каких – неизвестно. Не привыкший к выговорам фаворит с изумлением смотрит на государя, не зная, чем заслужил немилость, но у государя жгучая ревность прошла, и он по-прежнему ласково смотрит на любимца.
- Ричард Львиное Сердце
- Тень великого человека. Дядя Бернак (сборник)
- Звезды Эгера. Т. 1
- Иезуит
- Пленный лев
- Под развалинами Помпеи. Т. 1
- Агония
- На пути к плахе
- Золотой саркофаг
- Флибустьеры
- На троне Великого деда. Жизнь и смерть Петра III
- Авантюристы
- Тайны народа
- Замок Монбрён
- Кадис
- Георг Енач
- Король без трона. Кадеты императрицы (сборник)
- Смерть консулу!
- Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
- Царь-девица
- От тьмы к свету
- Люцифер. Том 1
- Люцифер. Том 2
- Жребий брошен
- Девяносто третий год
- Аттила
- Последние римляне
- На изломе
- Под развалинами Помпеи. Т. 2
- Регенство Бирона. Осада Углича. Русский Икар (сборник)
- Царь-колокол, или Антихрист XVII века
- Гладиаторы
- Кубок орла
- Гвардеец Барлаш
- Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
- Дьявол
- Розы и тернии
- Звезды Эгера. Т. 2
- Ганзейцы
- Под небом Эллады
- Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник)
- Спартак. Том 1
- Спартак. Том 2