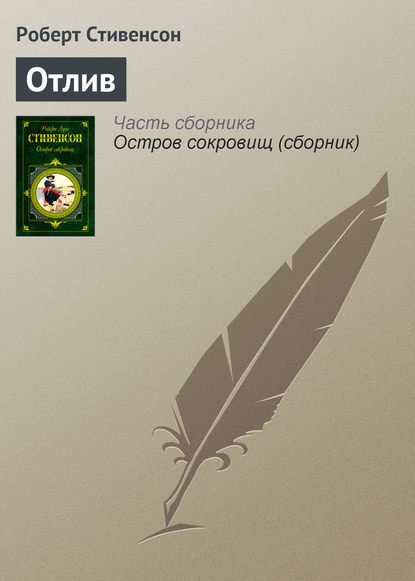Часть первая
Трио
Глава 1
Ночь на берегу
По всем островам Тихого океана раскиданы люди самых разных европейских наций и почти всех слоев общества. Люди эти занимаются своими делами и сеют болезни. Одни преуспевают, другие прозябают. Одни взошли на троны и владеют островами и флотом. Другие вынуждены жениться, чтобы не умереть с голоду, – веселые, стройные, шоколадного цвета особы содержат их, давая возможность пребывать в полной праздности. Одетые по-местному, но сохранившие что-то чужестранное в осанке или в походке, иногда какую-нибудь реликвию, скажем, монокль, отличающий джентльмена и офицера, они проводят дни, растянувшись на верандах, крытых пальмовыми листьями, и развлекают туземных слушателей воспоминаниями о мюзик-холле. Есть и еще один тип европейцев, менее ловких, менее гибких, менее удачливых, быть может, менее бесчестных, которые даже на этих островах изобилия нуждаются в куске хлеба.
На краю города Папеэте, на берегу, под деревом пурау сидели трое таких людей.
Было поздно. Давно уже музыканты, не переставая наигрывать, отправились по домам, а за ними, обхватив друг друга за талии и приплясывая, последовала пестрая толпа мужчин и женщин, торговых клерков и морских офицеров, увенчанных гирляндами. Давно уже темнота и тишина обошли все дома игрушечного языческого городка. Лишь уличные фонари все горели на темных улицах, словно светлячки, образуя расплывчатые венчики света или отбрасывая зыбкие отражения на поверхность воды в порту. От штабелей досок, наваленных у правительственного пирса, раздавался храп. Храп этот доносился с изящных шхун типа клипера, стоявших на якоре борт о борт, как ялики. Матросы спали прямо на палубе под открытым небом или набившись под навес посреди нагроможденных товаров.
Но люди под деревом пурау и не помышляли о сне. Такая погода летом в Англии казалась бы нормальной, но для южных морей она была зверски холодной. Неодушевленная природа знала это, и кокосовое масло в бутылках, имеющихся в каждой хижине острова, застыло. Трое людей тоже это знали и дрожали от холода. На них была та же одежда из тонкой бумажной материи, в которой днем они обливались потом или мокли под тропическими ливнями. И, к довершению всех бед, в этот день они почти не завтракали, еще в меньшей степени обедали и совсем не ужинали.
По выражению, столь распространенному в южных морях, эти трое сидели на мели. Общее несчастье свело их вместе – самых жалких существ на Таити, говорящих по-английски; помимо того что они были несчастны, они, собственно, почти ничего не знали друг о друге – даже настоящих имен друг друга. Ибо каждый проделал долгий путь вниз, и каждого на какой-то стадии падения стыд вынудил принять вымышленное имя. И все-таки до сих пор ни один из них еще не привлекался к суду: двое были умеренно порядочными людьми, а у третьего сидящего под деревом пурау в кармане хранился потрепанный Вергилий.
Нечего скрывать: если бы за книгу можно было выручить деньги, Роберт Геррик давно бы отказался от этой последней собственности, но при всем спросе на литературу на некоторых участках южных морей, он не распространяется на мертвые языки, и Вергилий, на которого Геррик не мог выменять пищу, часто утешал его в голодные дни. Потуже затянув пояс, Геррик перечитывал книгу, лежа на полу в заброшенной тюрьме, выискивая излюбленные места и открывая новые, менее прекрасные лишь оттого, что они не были освящены долгим знакомством. То, бывало, он замедлял шаг на загородной глухой тропе, садился на ее краю, над морем, любовался видневшимися на горизонте горами Эймео и затем погружался в «Энеиду», гадая по книге, что ему предстоит. И даже если оракул (как и полагается оракулам) вещал не очень уверенным и ободряющим голосом, то изгнанника, по крайней мере, посещали видения Англии: деловая, строгая классная комната, зеленые спортивные площадки, каникулы, проведенные дома, вечный лондонский шум, домашний очаг и седая голова отца. Таков удел серьезных, сдержанных классических авторов, школьное знакомство с которыми бывает зачастую мучительным: они проникают в нашу кровь и становятся неотделимы от памяти, и потому фраза из Вергилия говорит не столько о Мантуе или Августе[2], сколько об английских родных местах и собственной безвозвратно ушедшей юности.
Роберт Геррик был сыном умного, энергичного и честолюбивого человека, младшего компаньона в лондонском крупном торговом доме. На мальчика возлагались надежды, его послали в отличную школу, он окончил ее с правом поступить в Оксфорд, что затем и сделал. При всей одаренности и хорошем вкусе (а он, бесспорно, обладал и тем и другим) Роберту недоставало настойчивости и умственной зрелости; он блуждал окольными путями науки, занимался музыкой или метафизикой, тогда как должен был трудиться над греческим, и получил в конце концов самую ничтожную степень. Почти одновременно лондонский торговый дом терпит крах, мистер Геррик-старший вынужден заново начать жизнь клерком в чужой конторе, а Роберт, отказавшись от честолюбивых замыслов, с благодарностью принимает карьеру, которая для него ненавистна и презренна. Он ничего не смыслил в цифрах, не интересовался делами, ненавидел нудные часы отсиживаний на службе и презирал стремления и удачи коммерсантов. Он не мечтал о том, чтобы разбогатеть, – лишь бы прожить безбедно. Молодой человек, более недостойный или более решительный, вероятно, отверг бы навязанный ему удел – быть может, взялся бы за перо или поступил бы на военную службу. Роберт же, более благоразумный, а может быть, более робкий, согласился на эту профессию, благодаря которой ему было проще помогать семье. Но душа его осталась мучительно раздвоенной; он чуждался общества бывших товарищей и из нескольких представленных на выбор мест выбрал должность клерка где-то в Нью-Йорке.
С этого времени жизнь для него стала сплошным позорищем. Он не пил, был абсолютно честен, никогда не дерзил нанимателям, но тем не менее его отовсюду увольняли. Не проявляя ни малейшего интереса к своим обязанностям, он не проявлял и усердия; его рабочий день был сплетением дел, которые он выполнял плохо или вовсе забывал выполнить. И с места на место, из города в город он таскал за собой репутацию человека, начисто ни к чему не пригодного. Никто не может без краски стыда носить подобный ярлык, ибо поистине никакой другой ярлык не лишает столь безжалостно самоуважения. А для Геррика, знавшего цену своим способностям и знаниям и относившегося с презрением к тем пустячным обязанностям, к которым его считали неспособным, стыд был особенно уничижительным. Рано начав катиться по наклонной плоскости, он не мог уже посылать домой деньги, а вскоре перестал писать и письма, так как не мог сообщить ни о чем, кроме неудач.
Примерно за год до начала повествования он без работы очутился на улицах Сан-Франциско, и тут он окончательно потерял самоуважение, внезапно сменил имя и на последний доллар купил место на почтовой бригантине «Город Папеэте». На что надеялся Геррик, когда направился в южные моря, он едва ли знал сам. Правда, там можно было разбогатеть на жемчугах и копре[3]; правда, другие, не более одаренные, чем он, достигли на островах положения принцев-консортов и королевских министров. Но если бы Геррик отправился туда, преследуя какую-либо достойную цель, он сохранил бы отцовскую фамилию, – чужое имя свидетельствовало о его нравственном крахе. Он опустил свой флаг, он не питал больше надежд на то, что восстановит свою честь или будет помогать своей бедствовавшей семье, и он явился на остров (где, как он знал, климат мягок, хлеб дешев, а нравы просты) как дезертир, сбежавший от жизненной битвы и от своего прямого долга.
Неудача, решил он, его удел; так пусть она будет приятной.
К счастью, сказать «хочу быть подлецом» недостаточно, чтобы стать им. Его карьера неудачника продолжалась, но и в новой обстановке, под новым именем он испытывал не меньшие страдания. Он получил место – и потерял его прежним образом; от благотворительности рестораторов он перешел на откровенную милостыню, но мало-помалу добросердечие окружающих иссякло, и после первых же отпоров Геррик сделался робким. Конечно, вокруг было достаточно женщин, которые охотно согласились бы содержать куда более нестоящего и некрасивого мужчину. Но либо Геррик таких женщин не встречал, либо не распознал, а если и знал их, то, видимо, в нем заговорило мужское самолюбие, и он предпочел голодать. Он мок под дождем; изнывал от жары днем, дрожал от холода ночью в полуразрушенной бывшей тюрьме, выклянчивал пищу или вытаскивал ее из помоек, и товарищами его были двое таких же, как он, отщепенцев. Так многие месяцы осушал он чашу унижения. Он узнал, что значит смириться, что значит вдруг взбунтоваться в порыве ребячьей ярости против судьбы, а потом впасть в оцепенелое отчаяние. Время переделало его. Он больше не тешил себя баснями о легком и даже приятном падении, он лучше изучил свой характер, он оказался не способен подняться на поверхность, но на опыте убедился, что не может сделать и последнего шага, чтобы окончательно пасть. Что-то – вряд ли гордость или сила воли, скорее всего, просто воспитание – удерживало его от полной капитуляции. Но он с возрастающим гневом принимал свои несчастья и порой удивлялся собственному терпению.
Уже четвертый месяц подошел к концу, а все не было никаких перемен и даже предвестий перемен. Луна, несущаяся через царство летящих облаков всех размеров, форм и плотности, то черных, как чернильные кляксы, то нежных, как молоденькая лужайка, бросала свой по-южному волшебный яркий свет на одну и ту же прелестную и ненавистную картину: остров и горы, увенчанные неизменным облаком, затаившийся город в редких точках огней, мачты в гавани, гладкое зеркало лагуны и стена барьерного рифа, где белели буруны. Луна, прорываясь сквозь облака, моментами, словно раскачивающийся фонарь, освещала и его товарищей: дюжую фигуру американца, капитана торгового судна, разжалованного за какую-то провинность и называвшего себя Брауном, и малорослую фигуру, бледные глаза и беззубую улыбку пошлого и подленького клерка-кокни[4]. Недурное общество для Роберта Геррика! Янки, по крайней мере, был мужчиной; он обладал полновесными качествами – нежностью и твердостью характера, его руку можно было пожать, не краснея. Но никакой привлекательной черты нельзя было найти у другого, который именовал себя когда Томкинсом, когда Хэем и только смеялся над этой несообразностью; он переслужил во всех лавках Папеэте, ибо это ничтожество все же не было лишено способностей, но его выгоняли поочередно отовсюду, так как он был испорчен до мозга костей.
Он оттолкнул от себя всех прежних нанимателей, так что они проходили мимо него по улице, как мимо паршивой собаки, а все прежние товарищи шарахались от него, как от кредитора.
Не так давно судно из Перу завезло инфлюэнцу[5], и теперь она свирепствовала на всем острове, и особенно в Папеэте. Со всех сторон вокруг пурау зловеще раздавался, то громко, то утихая, удушающий кашель. Больные туземцы, не умеющие, как и все островитяне, терпеливо переносить приступы лихорадки, выползли из своих жилищ в поисках прохлады и теперь, присев прямо на песок или на вытащенные из воды каноэ, со страхом ожидали наступления нового дня. Подобно тому как крики петухов разносятся в ночи от фермы к ферме, так приступы кашля возникали, затихали и возникали снова. Дрожащий мученик подхватывал знак, поданный соседом, несколько минут корчился в жестоком пароксизме и, когда приступ проходил, оставался лежать в изнеможении, утратив голос или мужество.
Если кто-нибудь обладал неизрасходованным запасом жалости, то израсходовать его следовало именно на Папеэте в эту холодную ночь и в этот сезон свирепствовавшей болезни. И из всех страдальцев, вероятно, наименее достойным, но, несомненно, наиболее жалким был лондонский клерк. Он привык к другой жизни, к городским домам, постелям, к уходу и всем мелким удобствам, окружающим больного, а тут он лежал на холоде, под открытым небом, ничем не защищенный от сильного ветра и вдобавок с пустым желудком. К тому же он совсем ослаб, болезнь высосала из него все жизненные соки, и товарищи его с изумлением наблюдали, как он сопротивлялся. Ими овладевало глубокое сочувствие, оно боролось с отвращением к нему и побеждало. Их неприязнь усугублялась брезгливостью, вызванной созерцанием болезни, но в то же время, как бы в компенсацию за такие бесчеловечные чувства, стыд с удвоенной силой заставлял их еще неотступнее ухаживать за ним. И даже то дурное, что они знали о нем, усиливало их заботливость, ибо мысль о смерти наиболее невыносима тогда, когда смерть приближается к натурам чисто плотским и эгоистичным. Порой они подпирали его с двух сторон, иной раз с неуместной услужливостью колотили по спине, а когда бедняга откидывался на спину, мертвенно-бледный и обессилевший от злейшего приступа кашля, они со страхом вглядывались в его лицо, отыскивая признаки жизни. Нет такого человека, который не обладал бы хотя бы одним достоинством: у клерка это было мужество, и он спешил успокоить их какой-нибудь шуткой, не всегда пристойного свойства.
– Я в порядке, братцы, – задыхаясь, выдавил он однажды, – ничто лучше частого кашля не укрепляет мышцы глотки.
– Ну, вы и молодчага! – воскликнул капитан.
– Да уж, храбрости мне не занимать, – продолжал мученик прерывающимся голосом. – Только чертовски обидно, что на меня одного свалилась такая напасть, и я же еще должен отдуваться и развлекать честную публику. По-моему, кому-то из вас двоих не грех взбодриться. Рассказали бы мне чего-нибудь.
– Беда в том, что нечего нам рассказать, сынок, – отвечал капитан.
– Если хотите, я расскажу, о чем сейчас думал, – проговорил Геррик.
– Рассказывайте что угодно, – сказал клерк. – Мне бы только не забыть, что я еще не помер.
Геррик, лежа лицом вниз, начал свою притчу медленно и еле слышно, как человек, который не знает, что скажет дальше, и хочет оттянуть время.
– Хорошо. Вот о чем я думал, – начал он. – Я думал, что лежу я как-то ночью на берегу Папеэте, кругом лунный свет да резкий ветер и кашель, а мне холодно и голодно, и я совсем упал духом, и мне лет девятьсот, и двести двадцать из них я провел, лежа на берегу Папеэте. И мне захотелось иметь кольцо, которое надо потереть, или волшебницу крестную, или же знать, как вызвать дьявола. И я старался вспомнить, как это делается. Я знал, что надо сделать круг из черепов, я видел это в «Волшебном стрелке»[6], и надо снять сюртук и засучить рукава – так делал Формес в роли Каспара[7], и по его виду сразу можно было определить, что он изучил это дело досконально. И еще надо из чего-то состряпать дым и мерзкий запах – сигара, пожалуй, подошла бы, – и при этом надо прочитать «Отче наш» от конца к началу. Ну, тут я задумался, смогу ли я это сделать, как-никак в некотором роде это немалый подвиг. Меня охватило сомнение: помню ли я «Отче наш» в настоящем-то порядке? И решил, что помню. И вот, не успел я добраться до слов «ибо твое есть царствие небесное», как увидел человека с ковриком под мышкой. Он брел вдоль берега со стороны города. Это был довольно безобразный старикашка, он хромал и ковылял и не переставая кашлял. Сперва мне его наружность пришлась не по вкусу, но потом стало жаль старикана – уж очень он сильно кашлял. Я вспомнил, что у нас еще оставалась микстура от кашля, которую американский консул дал капитану для Хэя. Правда, Хэю она ни на грош не помогла, но я подумал, что вдруг она поможет старику, и встал. «Иорана!»[8] – говорю я. «Иорана!» – отвечает он. «Послушайте, – говорю я, – у меня тут в пузырьке преотличное лекарство, оно вылечит ваш кашель, понятно? Идите сюда, я вам отолью лекарства в мою ладонь, а то все наше столовое серебро находится в банке». Старикашка направился ко мне. И чем ближе он подходил, тем меньше он мне нравился. Но что делать, я уже подозвал его…
– Что это за чушь несусветная? – прервал его клерк. – Прямо белиберда какая-то из книжонок.
– Это сказка, я любил рассказывать дома сказки ребятишкам, – ответил Геррик. – Если вам неинтересно, я перестану.
– Да нет, валяйте дальше! – раздраженно возразил больной. – Лучше уж это, чем ничего.
– Хорошо, – продолжал Геррик. – Только я дал ему микстуры, как он вдруг выпрямился и весь изменился, и я увидел, что вовсе он не таитянин, а араб с длинной бородой. «Услуга за услугу, – говорит он. – Я волшебник из «Арабских ночей»[9], а этот коврик у меня под мышкой принадлежит Магомету бен-Такому-то. Прикажи – и сможешь отправиться на нем в путешествие». – «Не хотите ли вы сказать, что это ковер-самолет?» – воскликнул я. «А то нет!» – ответил он. «Я вижу, вы побывали в Америке с тех пор, как я в последний раз читал “Арабские ночи”», – сказал я с некоторым сомнением. «Еще бы, – сказал он. – Везде побывал. Не сидеть же сиднем с этаким ковром в загородном доме на две семьи». Что ж, мне это показалось разумным. «Ладно, – сказал я, – значит, вы утверждаете, что я могу сесть на ковер и отправиться прямиком в Англию, в Лондон?» Я сказал «в Англию, в Лондон», капитан, потому что он, видно, давно уже обретался в вашей части света. «В мгновение ока», – ответил он. Я рассчитал время. Какова разница во времени между Лондоном и Папеэте, капитан?
– Если взять Гринвич и мыс Венеры, то девять часов с какими-то минутами и секундами, – ответил моряк.
– Ну вот, и у меня получилось примерно столько же, – подхватил Геррик, – около девяти часов. Если тогда, как сейчас, было три часа ночи, по моим расчетам вышло, что я окажусь в Лондоне к полудню, и я ужасно обрадовался. «Загвоздка только вот в чем, – сказал я, – у меня нет ни гроша. Обидно было бы побывать в Лондоне и не купить утренний выпуск «Стэндарда». – «О! – сказал он. – Ты не представляешь себе всех преимуществ этого ковра. Видишь тот карман? Стоит только сунуть туда руку – и вытащишь полную пригоршню соверенов»[10].
– Американских, не так ли? – спросил капитан.
– Вы угадали! То-то они мне показались необычно тяжелыми. Я теперь вспоминаю, что мне пришлось пойти на Черинг-кросс к менялам и получить у них английское серебро.
– Ну? Значит, отправились в Лондон? – спросил клерк. – Что вы там делали? Держу пари, вы первым делом выпили бренди с содовой!
– Понимаете, все произошло, как обещал старикашка, в мгновение ока. Только что я стоял здесь, на берегу, в три часа ночи, и вдруг я уже на Голден-кросс средь бела дня. Сперва меня точно ослепило, я прикрыл глаза рукой – и перемены как не бывало: грохот на Стрэнде звучал, как грохот бурунов на рифе. Прислушайтесь сейчас и услышите шум кэбов и омнибусов и звуки улицы! Наконец я смог оглядеться – и все оказалось по-старому! Те же статуи на площади, и церковь Святого Мартина, и бобби[11], и воробьи, и извозчики. Не могу вам передать, что я почувствовал. Мне хотелось плакать, что ли, или плясать, или перемахнуть через колонну Нельсона. Меня точно выхватили вдруг из ада и зашвырнули в красивейшую часть рая. Тут я подозвал экипаж, запряженный превосходной лошадью. «Получишь лишний шиллинг, если будешь на месте через двадцать минут!» – сказал я извозчику. Он пустил лошадь хорошим шагом, хотя с ковром это, конечно, не шло ни в какое сравнение. Через девятнадцать с половиной минут я стоял у двери.
– Какой двери? – спросил капитан.
– Так, одного знакомого дома, – ответил Геррик.
– Ручаюсь, что это был трактир! – воскликнул клерк (только он выразился не совсем так). – А чего же вы не перелетели туда на своем ковре, вместо того чтобы тащиться в колымаге?
– Мне не хотелось будоражить тихую улицу, – ответил рассказчик. – Дурной тон. А к тому же мне хотелось прокатиться на извозчике.
– Ну и что же вы делали дальше? – спросил капитан.
– Я просто вошел.
– Родители? – спросил капитан.
– Н-да, скажем так, – ответил Геррик, жуя травинку.
– Ну, знаете, по мне, вы самый настоящий простофиля! – воскликнул клерк. – Надо же, прямо «Святые дети»! Уж будьте уверены, моя поездочка была бы не в пример веселее. Я бы пошел и выпил на счастье бренди с содовой. Потом я бы купил широкое пальто с каракулевым воротником, взял бы трость и лихо прошелся бы по Пиккадилли. Потом я бы отправился в шикарный ресторан и заказал бы там зеленый горошек, бутылочку шампанского и котлетку из филе. Ой, я и забыл: сначала я заказал бы кильки в остром соусе, пирог с крыжовником и кофе погорячее и этот… как его, такое зелье в больших бутылках с печатью?.. Бенедектин, будь он проклят! Потом я заглянул бы в театр и свел бы там дружбу с какими-нибудь бывалыми ребятами, и мы бы уж поездили по дансингам, и барам, и все такое прочее – закатились бы до утра. А на другой день я бы полакомился кресс-салатом, ветчинкой и булочками с маслом. Уж я бы, мать честная!..
Тут клерка прервал новый приступ кашля.
– А теперь я скажу, что сделал бы я, – произнес капитан. – Мне не по нутру всякие модные коляски, где извозчик правит с самой макушки бизани. Я бы нанял простой, надежный, как шхуна, экипаж с самым большим тоннажем. Для начала я бы стал на якорь у рынка и купил индюка и молочного поросенка. Потом доехал бы до виноторговца и закупил дюжину шампанского и дюжину сладкого вина, густого, пряного и крепкого, что-нибудь такое вроде портвейна или мадеры, самого лучшего в лавке. После я бы взял курс на игрушечную лавку и накупил бы на двадцать долларов всяких игрушек для малышей, а там – в кондитерскую, за пирожными, пирожками и плюшками и за такой штукой со сливами. Оттуда – в киоск, скупил бы там все газеты, где только есть картинки для ребят, а для женушки – журналы, где рассказывают про то, как граф открывает свою личность Анне Марии, а леди Мод бежит из сумасшедшего дома, куда ее засадили родственники. И только после этого я велел бы извозчику поворачивать к дому.
– И еще надо сиропу для детей, – напомнил Геррик, – они любят сироп.
– Да, и сиропу, и непременно красного, – подхватил капитан. – И такие штуки – за них потянешь, а они хлопают, и в середке у них стишки. А потом мы бы уж устроили День благодарения и рождественскую елку вкупе. Черт побери, до чего же я хотел бы повидать ребятишек! Вот повыскакивали бы они из дома, когда увидели бы, как их папаша подкатывает в карете! Моя младшая, Эйда…
Капитан вдруг умолк.
– Выкладывайте дальше, – сказал клерк.
– Проклятье, я даже не знаю, не умерли ли они с голоду! – выкрикнул капитан.
– Одно утешение: хуже, чем нам, быть не может, – возразил клерк. – Разве что сам дьявол очень постарается.
И дьявол словно услышал его. Луна скрылась уже некоторое время назад, и они беседовали в потемках. Теперь вдруг послышался стремительно нараставший рев, поверхность лагуны побелела, и не успели изгнанники с трудом подняться на ноги, как на них обрушился шквал дождя. Только тот, кто жил в тропиках, может вообразить всю ярость и силу такого урагана: под его натиском человек захлебывался, как под хлынувшим душем; тьма и вода словно поглотили мир.
Они бросились бежать, ощупью отыскали свой приют, можно сказать, свой дом – бывшую тюрьму; промокшие, они ввалились в пустое помещение, улеглись на холодный коралловый пол – жалкие подобия людей, – и вскоре, когда ураган миновал, в темноте стало слышно, как стучит зубами клерк.
– Слушайте, ребята, – прохныкал он, – бога ради, лягте поближе, погрейте меня. Будь я проклят, если я без этого не сдохну!
И вот трое сгрудились в один мокрый ком и лежали так, дрожа, задремывая, то и дело возвращаясь к жалкой действительности из-за кашля клерка, пока не наступил день.