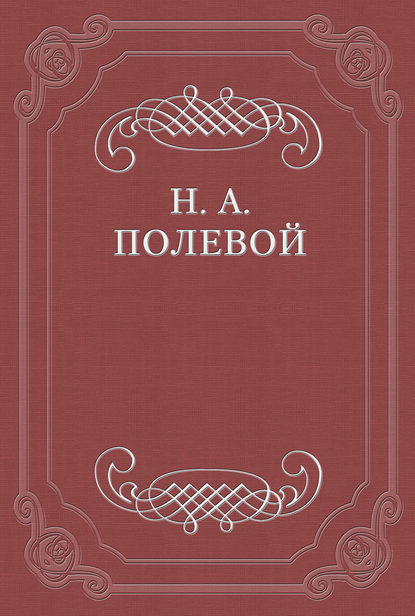Ich kenn ihn lang, er ist so leicht zu kennen
Und ist zu stolz, sich zu verbergen. Bald
Versinkt er in sich seibst, als ware ganz
Die Weit in seinem Busen, er sich ganz
In seiner Welt genug, und ailes rings
Umher verschwindet ihm. Er lafit es gehn,
Laflt's fallen, stoSt's hinweg und ruht in sich —
Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke
Die Mine ziindet, sei es Freude, Leid,
Zorn oder Grille, heftig bricht er aus:
Dann will er alles fassen, alles halten,
Dann soil geschehn, was er sich denken mag,
In einem Augenblicke soil entstehn,
Was jahrelang bereitet werden sollte,
In einem Augenblick gehoben sein,
Was Mflne kaum in Jahren losen konnte.
Er fordert das Unmogliche von sich,
Damit er es von andern fordern diirfte.
Die letzten Enden aller Dinge will
Sein Geist zusammenfassen; das gelingt
Kaum einem unter Millionen Menschen,
Und er ist nicht der Mann: er fallt zuletzt,
Urn nichts gebessert, in sich seibst zuriick…[2]
Гете. Торквато Тасс (Его давно я знаю)
I
Я жизни сей не раб презренный:[3]
Я проводник того огня,
Который движет всей вселенной
И с неба льется на меня!
Вельтман
…Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсиею и большим семейством, довольный тихим своим жребием. Из детей его два сына служили в нашем городе и считались деловыми и честными чиновниками; один из них был уже сам отец семейства. В губернских городах обыкновенно все знакомы между собою, и почти никто не дружен. Я уважал нашего старого казначея; в праздники мы платили друг другу визиты; иногда и в будни бывал я у него, а он у меня. Тем ограничивались все наши отношения. Мы обыкновенно и всего чаще говаривали о погоде, о новостях. Старик любил читать газеты, пить чай в дружеском кругу, любил выкурить трубку табаку и потолковать о переменах министров и государственных чиновников. Он служил некогда при графе Безбородко[4]: это было бесконечным предметом для его рассказов. В течение тридцатилетней жизни и службы в провинции старик не мог отвыкнуть от всегдашней поговорки своей: «У нас в Петербурге – у нашего графа Александра Андреевича…» «Мы петербургские», – прибавлял он с особенным удовольствием.
– Я зашел к вам на минутку, – сказал он мне, – и нимало не задержу вас.
– Всегда рад вам сердечно.
– Рады, я уверен; но при отъезде бывает много хлопот – не буду мешать и расскажу коротко, в чем дело: сделайте мне большое одолжение, если только это не отяготит вас.
– Прошу вас только сказать мне.
– Все дело, изволите видеть, в том, что вот письмо к младщему сыну моему, живущему в Санкт-Петербурге.
– Я и не знал, что у вас сын служит в Петербурге.
– Ах! если бы служил, я и не утруждал бы вас. А то, бог знает, как вам и сказать…
– Разве вы им недовольны… если только этот вопрос не нескромность с моей стороны.
– Помилуйте! Любя и уважая вас как человека солидного и степенного, я именно вас хотел просить, чтобы вы узнали в Петербурге поподробнее о моем сыне. В прошлом году я просил было об этом нашего почтенного г-на прокурора, когда он ездил в Петербург; но ему было некогда. Он послал письмо мое с своим человеком и велел сынишку моему прийти к себе, а тот не пришел. Ныне ездил в Петербург почтеннейший г-н почтмейстер, но забыл письмо мое дома, не знал адреса и не видал моего сына. Впрочем, всякий едет в Петербург с своими хлопотами. Ведь у нас в Петербурге бездельников нет. Если уже кому-нибудь и в самом деле нечего делать, – ну, так по крайней мере показывает, что будто делает что-нибудь. А с этим соображается всякий, кто приезжает в Петербург.
Признаюсь, как ни уважал я старого казначея, но поручение его было мне неприятно. Я думал, что он заставит меня искать по Петербургу какого-нибудь молодого повесу, отставного корнета или коллежского секретаря[5], шалуна, препоручит мне усовещивать его, приводить на путь правый…
Может быть, старик заметил неприятное выражение на лице моем. Он было опустил уже руку в карман свой, чтобы вынуть письмо, и вдруг остановился.
– Впрочем, если вам некогда будет заняться моею просьбою, – сказал он, – то будьте только откровенны, я не обременю вас…
– О, нет, нет! – отвечал я. – Пожалуйте мне ваше письмо. Вы знаете, что я должен прожить в Петербурге долго, и времени свободного будет у меня немало.
– Ах, сударь! не будучи сами отцом, вы не можете судить о чувстве родительского сердца, когда отец ничего не знает об участи своего сына! – Слезы навернулись на глазах старика. – Двое детей со мною, и, нечего сказать, – утеха моя на старости, кормильцы моей дряхлости; а ведь я сам чувствую, что люблю моего ветреника петербургского более их… – Старик вынул из кармана клетчатый бумажный платок и утер глаза. – Вот уже более года от него нет даже писем!
Мне стало совестно. Мгновенный порыв эгоизма рассеялся, когда я увидел отца, плачущего о милом, может быть, погибшем сыне.
– Пожалуйте мне ваше письмо, – сказал я с жаром, – и верьте, что вы получите от меня верные сведения о сыне вашем. Если я могу чем-нибудь быть ему полезным, то готов употребить все силы.
– Благодарю вас. Вы утешаете меня словами вашими. Но я прошу только одного: откровенности вашей. Повидайтесь с сыном моим, поговорите с ним, наблюдите за ним и потом скажите мне без закрышки и добро и худо. Но помощи вашей никакой не надобно. Я знаю моего ветреника: он будет умирать с голода, а пособия не примет ни от кого; при всем добром сердце своем он не послушается ничьих советов. Если бы только знал я, что ему есть нужда, то последнее послал бы к нему. Но это будет бесполезно: он отошлет назад. Да я же и не ведаю: где он и что он!
– Вы изумляете меня. Если он так благороден и горд, то почему же вы беспокоитесь о нем? Из первых слов ваших можно б было заключить, что сын ваш какой-нибудь шалун…
– О нет, сударь, но… – Старик вздохнул. – Боюсь, что ему худо жить на белом свете! У нас в Петербурге не житье людям, подобным Аркадию моему…
– Но для чего же вы отправили его в Петербург?
– Его вырвали у меня – он сам вырвался у меня! Бог судья покойнику, его превосходительству Григорью Григорьевичу: сбил с толку моего сынишка и меня!
– Стало быть, сын ваш уже давно находится в Петербурге? Григорий Григорьевич был у нас губернатором лет десять тому.
– Нет! Пятнадцать минет о Петрове дне, как он уехал, и вот уже пять лет, как он изволил скончаться. Можно ли было не послушаться! Мы с его превосходительство были, изволите видеть, сослуживцы и вместе служили у нашего графа. Ему повезло: умен был; я не пошел в гору: уехал сюда, женился. Но когда потом его превосходительство изволил приехать к нам губернатором, – ведь не забыл, сударь, он старого сослуживца! Бывало, всегда так ко мне милостив: всегда изволит говорить со мною, когда приедем, бывало, к нему в большой праздник. Да, сударь, дай бог ему царство небесное! не гордился он со мною! И г-н вице-губернатор стоит да щиплет плюмажик, и г-н прокурор руки по швам, а меня за руку и начнет: «Что, брат Иван Перфильевич? Как поживаешь? Ну, что у тебя в казначействе? Не развелось ли много крыс?» Зависти-то сколько было, когда он взял к себе моего Аркадия! А вот люди не знают, чему завидуют!
– Но, вероятно, Григорий Григорьевич видел необыкновенные способности вашего сына и хотел доставить ему хорошее место?
– Да ведь он и не думал определить его в службу.
– Как? Что это значит? Для чего же он взял его с собою?
– И сам растолковать вам хорошенько не умею! У моего Аркадия совсем не было отличных способностей, грамоте учился он плохо, нрава с малолетства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса… Одно., только и было его любимое занятие: писать картинки. Славно писал он их, нигде не учась: сам, сударь, выучился! Бог открыл ему дарование. Его превосходительство полюбил Аркадия; сначала только призывал его к себе; потом он по неделе проживал у него иногда на даче, а наконец всегда бывал с ним, прогуливаются, бывало, вместе по лесам, по полям. Я не узнавал моего Аркадия: он сделался тихий, смирный такой. Наконец его превосходительство потребовал у меня Аркадия с собою, когда изволил быть переведенным в Петербург. Я было сначала не соглашался. Как теперь помню, призвал меня к себе его превосходительство; Аркадий стоит печальный у окна, а его превосходительство, в первый раз, начал со мной говорить не шутя и так, как никогда еще не говаривал. Я ничего из слов его не понимал. «Может быть, сын твой переживет тебя, и меня, и весь твой город, и век наш! – говорил он. – Ты хочешь сделать из него подьячего и не понимаешь божественной силы, какая заключена в душе его!» Ну, и прочее, и прочее, что я со страха едва расслушал. Глаза его превосходительства были страшны. Я видел, что он рассержен, – нечего сказать – испугался! Аркадий уехал с ним и поселился в Петербурге. Право, уж не умею сказать, чему он все это время учился. Да вот, сударь, что значат людские намерения! Его превосходительство сказал мне, что обеспечит будущую судьбу моего сына, а это были только пустые слова. Его превосходительство скоропостижно скончался. Я знаю, что Аркадий был его другом и любимцем до самой смерти, что Григорий Григорьевич определил его в Главное училище живописи[6]. Но как бы это ни было, а его превосходительство ничего не оставил моему сыну. Я писал к Аркадию об этом, и, позвольте, – вот со мною ответ Аркадия. Посудите, что мне с ним делать?
Слова старика возбуждали во мне сильное любопытство. Я взял письмо. Оно было написано связным, но смелым округлым почерком и прямо набело, ибо несколько помарок показывали, что его не приготовляли на досуге, что оно вылилось на бумагу прямо из сердца. Вот оно, слово в слово; я выпросил его у старика:
«Последнее письмо ваше, любезный родитель, опечалило меня, а приписка братьев еще более. Простите, если буду с вами откровенен. Вы изволите спрашивать, почему, уведомляя вас о моем несчастии, кончине моего благодетеля, я ничего не сказал о том, исполнил ли он свое слово и наградил ли меня чем-нибудь в своей духовной? К этому присовокупляете вы сожаление и поставляете бога судьею, если благодетель мой не исполнил данного вам слова. Слова ваши растерзали мое сердце. Если бы вы не были моим отцом, отцом всегда для меня незабвенным, обожаемым мною, я ничего не отвечал бы вам, и – клянусь богом – не только никогда не писал бы я к вам более, но никогда и не встретился бы с человеком, написавшим мне письмо, подобное вашему! На коленях прошу прощения вашего, если слова мои покажутся вам дерзки. Но я со слезами молю бога простить несправедливый ропот ваш и то оскорбление, какое нанесли вы ропотом вашим священной для меня тени моего благодетеля! Правда, он мне не оставил ничего по духовной, если это угодно вам знать, – ничего потому, что не думал о своей духовной. Кончина его была неожиданная. Но неужели тогда только был бы он моим истинным благодетелем, когда дал бы мне кусок насущного хлеба? Неужели только деньгами мог он оказать мне благодеяния? Не знаю, чем не обязан я ему; не знаю, что был бы я, если бы провидение не привело меня при начале жизни моей к этому спасителю, ангелу-хранителю моему! Если я еще живу, если я чувствую бытие мое, всем этим ему одному я обязан – ему и никому более! Еще раз простите мне, любезный родитель! Пишу, что сказывает мне сердце мое; не смею перечитать написанного, но не в силах писать к вам иначе. Может быть, мы не поймем друг друга, но я знаю добродетельную душу вашу, знаю ваше чистое, святое сердце, и к ним отношусь я. Прошу вас обо мне не беспокоиться. Руки и голова у меня здоровы, и я не умру с голода. И в этом случае невольно обращаюсь я к приписке братьев моих. Им угодно пенять, что я не пишу к ним ничего о своих обстоятельствах, что я делаю и где я нахожусь. Им угодно осуждать меня в какой-то беспечности, в какой-то ветрености. Желаю им счастья и только одно напомню: просил ли я у них хотя какого-нибудь пособия с тех пор, как расстался с ними? Смею уверить их, что никогда и вперед в тягость им не буду. Горек хлеб чужой, но от родного, который напоминает нам, что нас кормит, – это не полынь, а яд! Правда, что доныне я еще не мог быть полезным вам, любезный родитель: это сокрушает меня, и одно из пламенных желаний моих есть то, чтобы бог привел меня некогда успокоить старость вашу. Братья мои обладают уже этим счастием, и неужели не понимают они цены его? Осмеливаюсь думать и надеяться, что бог пособит мне некогда быть вам полезным – может быть, более их. До тех пор желаю, чтобы другие дети ваши превзошли меня в горячей молитве, какую воссылаю я к богу за вашу драгоценную жизнь, в любви и почтении, какими преисполнена к вам душа моя».
– Ну вот, сударь, такие-то письма присылал всегда ко мне мой Аркадий! Что прикажете мне думать о нем и что с ним делать?
– Ничего, почтенный человек, ничего! Можете быть уверены, что ваш Аркадий есть чистая, светлая душа…
– О душе-то я и не спорю; да голова-то у него… – Старик провел указательным пальцем по голове своей. – И вот уже прошло с год, как я вам докладывал, он вовсе ко мне не пишет. Притом чистая душа не помешает быть ветреником и умереть с голода, если мы будем только, знаете, летать по поднебесью и забывать о земле. Боюсь, сударь, я: не скрывают ли чего-нибудь от меня? Жив ли он? Не знаю и того, что теперь делает он в Петербурге? В последнем письме писал он, что хочет ехать за границу и поедет на счет Главного училища живописи… Об этаких людях говаривал наш граф Александр Андреевич…
– Успокойтесь: верьте, что я увижусь с сыном вашим и обо всем вас уведомлю, – возразил я с невольным чувством. – Но на письме вашем нет адреса?
Старик опустил голову, помолчал и сказал потом печально:
– Я не знаю, где теперь живет мой Аркадий! С тех пор, как его выключили из Главного училища живописи…
– Выключили! Давно ли?
– Да будет с полгода, сударь, как говорил мне об этом один проезжавший здесь чиновник, который знает всех главных учителей в училище живописи, – выключили за ссоры, за беспокойный характер! Вот видите, что все это должно тревожить меня как отца, нежно любящего! Ах, ради бога, сударь! Вы не сделаете так, как г-н прокурор и г-н почтмейстер наш! Узнать об Аркадии всего вернее можно в доме г-на N. N., человека почтенного, коллежского советника и кавалера, моего старого сослуживца, к которому всегда ходит Аркадий.
Мы расстались. Разговор с старым казначеем растрогал меня. Мне нетерпеливо захотелось узнать его странного сына, в котором я не мог дать сам себе отчета. Признаюсь: молодой человек, бывший любимцем умного и добродетельного чудака, несколько времени находившегося губернатором в нашем городе, и писавший после смерти его письмо, читанное мною, не мог быть ничтожным ветреником или шалуном, не отличенным каким-нибудь высоким дарованием. Но если, по русскому обычаю, он как художник подвергался какой-нибудь несчастной слабости или дарования его затмевались примесью чего-либо недостойного высоких дарований? Если он был нечто недоконченное, с душою великою, но лишенною средств достигнуть своего назначения, – создание малодушное, робкое, безрассудное? Словом, мне, по крайней мере, весьма любопытно было узнать Аркадия.
«Только любопытно?» – скажете вы. Что ж делать! В мои годы перестают уже любить психологические странности, любить только за то одно, что они странны. Это чувство проходит с годами. Невольно делаешься эгоистом в сорок лет, отдружившись, отлюбивши на свой участок. Притом жизнь в провинции бывает такая положительная и приводит в такое оцепенение чувства души… Общее поверье, что в сорок лет надобно быть степенным и солидным, как называл меня старый казначей и каким я почитал себя, – все это холодило мое участие и превращало его – признаюсь – только в простое любопытство, но сильное и живое.
Дня через два по приезде моем в Петербург я увидел, что мне придется долго, год или более, прожить в Северной Пальмире. (Так называют Петербург, хотя не понимаю почему, ибо пески Сирии столько же не походят на болота Ингерманландии[7], сколько развалины Пальмиры[8] на великолепный Петербург.) Мысль об Аркадии мелькнула в голове моей. Воспоминание о разговоре с его отцом и письме, читанном мною, во всю дорогу не оставляло меня. Прежде всего отправился я к г-ну N. N.
На пороге небольшого опрятного дома в грязной Колокольной улице встретился со мною человек, сухощавый, в вицмундире, с Аннинским крестом на шее, с Владимирским в петлице. Спрашиваю у него о г-не N. N.
– Это я сам, – отвечал мне незнакомец. – Что вам угодно?
– Я желал бы узнать, милостивый государь, где живет некто Аркадий…
Лицо г-на N. N. покосилось.
– Этого я не могу сказать, милостивый государь, – угрюмо проворчал г-н N. N.
– Но мне говорил отец его, что вы с ним хорошо знакомы.
– Отец его говорил вам несправедливо, милостивый государь. – Я, точно, позволял этому молодому человеку посещать дом мой, и Аркадий, точно, бывал у меня прежде, но уже более года я с ним не вижусь. – Г-н N. N. приподнял шляпу и хотел идти.
– По крайней мере, позвольте мне узнать об этом молодом человеке.
– Извините, я спешу к должности и мне некогда. Спросите о нем в Главном училище живописи. – Г-н N. N. сухо поклонился и ушел.
«Начало плохое», – подумал я. Отзыв его об Аркадии не рекомендует молодого человека. Мы так привыкли к рекомендации, этому адресному билету общества, что прежде всего по ней начинаем судить о человеке, не думая, кто подписал его адресный билет. Итак, Аркадий, верно, какой-нибудь ветреник и шалун? «Но этой ли сухой роже поверю я, хотя она принадлежит коллежскому советнику и кавалеру! Знаю я вас, господа!» – сказал я, с досадою стуча в камни мостовой моею палкой. Странное дело: свидание с г-м N. N., напротив, усилило желание мое узнать Аркадия! «Но где искать его?» – подумал я и послал служителя спрашивать в Главном училище живописи. Он не добился толку. Старый учитель тамошний качал головою, слыша вопросы об Аркадии. Он начал расспрашивать служителя обо мне, узнал, что я приезжий помещик, и проч., и проч.
– На что же твоему барину этого молодца? – спросил он наконец. – Если заказать портрет, так вот тебе, братец, лучше адрес моего отличного ученика Чистомазова.
– Нет, сударь, не портрет заказать, а есть у барина к г-ну Аркадию письма от отца его.
– От отца? Ну, не порадуется твой барин новому знакомству! Не знаю, братец, не знаю, где он живет. Да и никто этого у нас не знает. Он переменяет по три квартиры в год, а иногда и более.
По обыкновению русских слуг мой служитель передал мне разговор слово в слово, с прибавлением «дескать» и «мол». «Плохо! – подумал я. – И тут его не любят!» В тот же день отправился я в Эрмитаж. Вдруг мне пришло там в голову спросить об Аркадии у одного старика-живописца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Каналетти.[9]
– Вот, сударь, в десятый раз списываю эту картину, – сказал мне старик, когда я начал с ним разговор об его работе, – в десятый!
– Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство, судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее?
– О нет! – в замешательстве отвечал старик. – Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины и две или три копии сделал с нее, в самом деле, совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка.
– Как это?
– А вот видите – не прикажете ли табачку? – Он открыл свою золотую табакерку. – Славный художник, известный наш декоратёр Бестнаго, говаривал: «Злава злавой; а теньга, теньгой!» Просто делаю, сударь, я эту копию наскоро, для любителя одного, которому все равно, худо ли, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите: я прославился копиями с Каналетти, и мне их всегда заказывают. А между тем, этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего!
Молодой ученик покраснел и отворотился. Старик не замечал этого и продолжал:
– Я, сударь, верю тому, что было напечатано некогда в «Пантеоне иностранной словесности»[10], именно словам великого Бюффона[11]: гений есть терпение в высочайшей степени. Истинно так! И это стараюсь я внушить ученикам своим. Про меня самого говаривали смолода, что будто у меня вовсе нет дарования. Но я, сударь, дарование свое высидел, как курица цыпленка.
– Вы, конечно, член Главного училища живописи?
– К вашим услугам: я там старший учитель по пейзажной живописи. У нас ведь все разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает.
– Не был ли у вас учеником Аркадий…?
– Воспитанник покойного генерала ***? Как же, сударь, был!
– Скажите, где он теперь? Мне любопытно знать о нем.
– Вот уж этого порядком сказать вам не могу. Он лет с пять, думаю, как вовсе перестал учиться у нас. При сильном покровительстве своего генерала и прежде почти всегда находился он в отпуску и только числился при училище.
– Я слышал, что недавно его совсем выключили?
– Нет! Он самовольно вышел, а потому аттестата и звания от нас не получил. Вы его знали?
– Нет!
– О, сударь, залетная голова! мальчик не дурак! То есть, я вам скажу, если б этот человек был поумнее, так из него вышел бы второй Лосенко[12] в русской живописи. Но он сбился с толку, и мы, признаться, чтобы его опасный пример не испортил других, старались понемногу выживать его.
– А не потому, чтобы у него дарования не было?
– Нет! Дарование у него было бы, потому что дарование развивается, милостивый государь, наукою, и собственно наука у нашей братьи художников есть истинное дарование. Живописца тогда узнаете, будет ли он хороший живописец, когда он кончил курс живописи. Вот, например, и в стихотворстве: как узнать дарование, если стихотворец не выучился стихи писать и хоть чего-нибудь не написал – поэмы, что ли, ну, или там трагедии какой, или комедии.
– Из слов ваших можно заметить, что Аркадий, если и имеет дарования, то характер у него дурной.
– Престранный, сударь, у него характер – ни добрый, ни худой. Он скромен, но упрямец, тихий, но пребешеный! Никогда, бывало, ссоры не заводит, а участник во всякой ссоре. Молчалив, а заговорит, так заслушаетесь. То вдруг учится прилежно, первый – и досадует; то совсем не учится, последний – и радехонек! Главное, я полагаю, он был в дурных руках, у этого генерала ***, который избаловал, испортил молодого человека. Этот генерал *** был, сударь, умница, но чудак великий…
Тут какая-то толстая фигура перервала наш разговор. Старик пошел с нею по зале и начал разговаривать заботливо. Ученик его бросил кисть, оборотился ко мне и сказал:
– Ах, сударь! Если вы не знаете Аркадия, не слушайте, что говорят о нем! Аркадий пример доброты, ума и дарования! Мог ли он ужиться с людьми, которых образчик вы сейчас видели!
Глаза ученика сверкали. Боясь ободрить этого молодого человека в негодовании, которое столь неосторожно изъявлял он против учителей человеку неизвестному, я сказал ему хладнокровно:
– Хвалю, что вы заступаетесь за Аркадия, но не советую никогда соединять с этим нескромности насчет ваших учителей и наставников.
Бедный молодой человек испугался.
– Ах, сударь, – сказал он робко, – не подумайте, чтобы я хотел осуждать моего почтенного наставника; но зачем же он сам несправедлив к такому человеку, каков Аркадий? Это самая высокая добродетель, это божественное дарование…
– Вы знакомы с ним?
– Нет! Несмотря на ласковость Аркадия, я не смею ходить к нему, боясь рассердить моего учителя. Он мне строго запрещает; но я знаю, где живет он.
– Скажите же мне.
Я поспешно записал адрес Аркадия; старик учитель подходил к нам; ученик схватил кисть и начал работать прилежно. Старик казался рассерженным.
– Вот, брат Ваня! Мы с тобою и в дураках, – сказал он, как будто забывши, что я тут находился, – в чистых дураках! Этого проклятого Каналетти мы с тобою мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказец: ведь ему отдали скопировать для графа «Капуцинский монастырь» Гранета![13]
С досадой ударил старик по своей табакерке. Я ушел. К Аркадию влекло меня теперь не одно любопытство – эгоизм мой уступил место участию.
На другой день явился я в квартире Аркадия. Он жил тогда на Мойке, в третьем этаже огромного дома. Звоню, мне отворяет двери старик слуга.
– У себя ли Аркадий Иванович? – спросил я старика.
– Нет; он ушел со двора, – отвечал мне старик.
– Очень жалею. Когда могу я застать его дома?
– Бог знает, сударь. Иногда он по целым неделям бывает дома, но никого не принимает, а иногда по целым неделям его нет дома с утра до вечера. Если вам угодно сказать ваше имя, так я доложу ему, когда вы изволите пожаловать.
– Скажи ему, любезный друг, что приходил Мамаев, приезжий из города N. N., и приносил к нему письмо от его батюшки.
– Как, сударь? – вскричал с радостию старик. – Вы приехали из N. N.? Как же обрадуется Аркадий Иванович! Он так давно не получал писем от своего батюшки! Ах, сударь! пожалуйте завтра! Я ему скажу, и он верно будет ждать вас. Или не прикажете ли записать, где вы остановились? Он тотчас явится к вам.
– Не нужно. Вот письмо; ты можешь отдать его своему барину, а я завтра приду сам непременно.
– Ах, сударь! как вы его обрадуете! – продолжал словоохотный старик. – Здоров ли Иван Перфильевич?
Я видел, что старик нарочно заводит речи, желая разговориться со мною. Я не люблю разговоров со слугами и особливо выведываний у слуг. Но теперь я не боялся узнать что-нибудь худое об Аркадии и поддерживал речь со стариком. Старик смотрел таким честным, добрым, он с таким восторгом упоминал о своем господине.
– Скажи, любезный, что я крайне сожалею, не заставши Аркадия Ивановича, и очень желаю с ним короче познакомиться.
– Это не так бы легко было сделать, – сказал старик, улыбаясь, – если бы вы не приехали из N. N. и не привезли письма от батюшки его. Барин мой небольшой охотник до гостей, если только они не заказывают ему работы.
– Вероятно, он очень занят?
– Да, – сказал старик, – он, сударь, теперь беспрестанно портреты списывает, а картинами не занимается, хотя прежде был большой охотник и только их и писал. – Тут как будто нечаянная мысль мелькнула в голове его. – Пожалуйте сюда, сударь, посмотрите: вот его рабочая комната. Не угодно ли вам взглянуть, как славно пишет Аркадий Иванович? – сказал старик.
Мне уже так хотелось поближе узнать Аркадия, что я решился взглянуть на занятия его.
Из передней мы вошли в комнату, где стоял длинный турецкий диван, покрытый старым ситцем; дорогой стол красного дерева придвинут был к этому дивану; полдюжины дрянных стульев, в углу богатые старинные вольтеровские кресла и этот стол составляли странные противоположности. В другом углу находилось еще дорогое старинное бюро. Я оглядывался кругом.
– Это, сударь, у нас гостиная, – сказал старик горделиво. – Это бюро, эти кресла и этот стол выпросил себе Аркадий Иванович от наследников покойного моего барина, его высокопревосходительства Григория Григорьевича. В этих креслах старый барин всегда изволил кушать кофе после обеда, а на этом бюро он писывал. Слезы навернулись на глазах старика.
– Да, сударь, много добрых дел было придумано за этим бюро… Аркадий Иванович говорит мне всегда: «Семен Иваныч, – он, сударь, так меня называет, – кто напишет на этом бюро хоть одну строчку и не сделается добр, того бог накажет!» А в этих креслах Аркадий Иванович сидит, когда ему грустно.
– Разве ему бывает и грустно иногда?
– Случается, сударь: человек бо есть.
– Ты доволен ли им?
Старик с удивлением посмотрел на меня, как будто говоря: можно ли об этом спрашивать?
– Он вырос на моих глазах, у старого моего барина, сударь, – отвечал старик, – и я не хотел с ним расстаться, хоть я и вольный человек. Вот, пожалуйте сюда, – сказал он, отворяя дверь направо.
Я вошел в большую комнату. Тут на стенах висело множество эстампов без рам, запыленных, измаранных; на полу разбросаны были свертки бумаг, палитры, книги; на большом столе лежало несколько дорогих собраний эстампов. На окошках стояло несколько прелестных горшков с цветами. Окно, подле которого работал Аркадий, было закрыто дорогим транспарантом. На пюпитре его лежал портрет немолодой женщины, глупого вида, почти отделанный; сначала я не рассмотрел ее головного убора и удивился, вглядевшись: это были ослиные уши!
– Вот, сударь, портрет генеральши А. А., – сказал мне старик. – Говорят, что он очень похож, и генеральша от него в восторге.
– Я не вижу других работ твоего господина, – сказал я старику.
– А вот их целая куча, – отвечал он, указывая в угол, на множество холстин, натянутых на рамы, большие и маленькие, сбросанные беспорядочно одна на другую. – Он многое начал и ничего еще не успевает окончить. Вот еще несколько портретов; вот его эскизы и картоны. – Старик указал на несколько огромных картонов.
Я мимоходом взглянул на все и обратил внимание на большую картину, тщательно закрытую белым полотном.
– Что это? – спросил я старика.
– Картина, которую Аркадий Иванович не велит мне трогать. Я не смею показать ее вам. А вот, сударь, взгляните, какая жалость! – Старик указал на другую большую картину. Это была огромная холстина в золотых рамах, изрезанная ножом и закрашенная красками так, что нельзя было рассмотреть, что было на ней прежде изображено. – Аркадий Иванович года два писал ее, кончил, целую неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и потом сам изрезал ее ножом.
Что сказать мне вообще о мастерской Аркадия? Я видел какое-то странное смешение высокого искусства, шалостей художника, роскоши, беспорядка. Тут стояло несколько золотых богатых рам, без картин; здесь было брошено несколько книг, одна на другую, полузакрытых, в пыли; загнутые листы и заметки показывали, что их читали внимательно и потом бросили, не окончив чтения. Колоссальное изображение Кельнского собора (известный эстамп) висело на стене. Подле него был портрет Дюрера, потом Мюллеров[14] эстамп Рафаэлевой Мадонны, перечеркнутый красным карандашом. Внизу было подписано рукою Аркадия: «Ты был достоин сумасшествия, бедный пачкун! Одинакое вдохновение не является в мире дважды. Твори свое!» Стены все были исписаны углем и мелом. В этих очерках видно было фантастическое своеволие. Это были изображения готических зданий, жоаннотовских уродов[15], гогартевских карикатур[16]. Но меня поразило милое женское личико, которое только что было начато в небольшом размере. И вот что было странно: это личико повторялось несколько раз, в разных размерах и везде только что очеркнутое! Оно было начерчено углем на стене в нескольких местах, нарисовано карандашом на картонах, даже нацарапано ножом на столе. Видно было, что это личико невольно являлось под рукою Аркадия, что оно преследовало его – и везде было оно очеркнуто так отчетисто, верно, истинно, что я узнал бы это личико из тысячи.