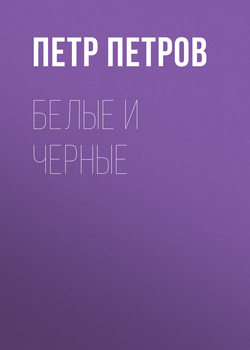© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Часть первая
Вместо пролога. Не так делается, как хочется!
Страшная ночь на 28 января 1725 года, казалось, не имеет конца. Вьюга – зги Божьей не видно. Тускло мерцают фонари, обычно очень яркие, перед парадным входом в Зимний дворец, с Невы. Какие-то две тени, черные, длинные, протянулись вдоль Невы, подвигаясь к дворцу с не видного сквозь вьюгу Васильевского острова; тени эти, с приближением к Зимней канавке, оказались двумя колоннами войска, шедшими тихо, беззвучно, не сближаясь и не отставая одна от другой.
Вот голова первой колонны – так же тихо, как двигалась по льду, – всходит на Немецкую улицу и доходит до служебных ворот Зимнего дворца, которые как бы сами собою тихо растворяются, пропускают строй и опять закрываются. В то же время остававшаяся сзади первой вторая колонна поднимается с Невы и располагается снаружи, вокруг дворцового здания, замыкая собою все выходы.
Все это происходит без звука. Благодаря завываниям ветра и метели даже более ощутительный шорох был бы не слышен. Страшная тишина, можно было бы сказать – предвестница бури. Но вьюга – та же буря – не перестает крутить снежную пыль, лишая возможности что-либо усмотреть и в двух шагах. Снежная кутерьма в воздухе, кутерьма и в стенах дворца, тоже беззвучная, но на всех наводящая страх. Народ везде, но словно явился он сюда разыгрывать тени… Молчание грозное, зловещее, под впечатлением которого все друг от друга отступают и боятся молвить слово.
Но, боясь издавать звук, люди-тени двигаются беззвучно, в полумраке, с одного конца дворца на другой, от Невы до Немецкой улицы. Близ нее, в третьей комнате от угла, тихо отходит из этого мира повелитель страны, называемой Русью, – Петр I.
Он слышит и видит как будто все, что происходит вокруг, но не может сделать никакого движения. Тело давно уже охолодело, и ресницы смежаются навеки…
Вот он, кажется, совсем уснул. Грудь больше не поднимается, не опускается.
– Все кончено! – произнес дежуривший безвыходно третьи сутки архиатер Блументрост.
Из чьей-то груди раздался крик надорванной боли – и по всему дворцу отдался одним общим взрывом воя: «Не стало!»
Конторка, где скончался государь, опустела в несколько мгновений.
Самая большая куча самых влиятельных звездоносцев направилась влево – в пустую залу, где происходили обыкновенно советы.
В эту залу разом вступило человек двадцать, и, войдя, все расселись, а последние из вошедших притворили за собою дверь из коридора.
– Надо теперь же выбрать правительство, господа, которое бы решило, для блага общего, кто должен восприять корону! – спешно начал говорить князь Дмитрий Голицын. – Высказывайтесь теперь же, если имеете в виду лицо, права которого бесспорны и которое бы повело отечество вперед, не умаляя славы его и значения… Говорите первый вы, канцлер, – обратился оратор к графу Гавриле Иванычу Головкину.
– Я думаю, господа, что поскольку завещания не осталось, как я знаю, то на престол вступить должна… должна, я говорю…
Но он ничего больше не сказал, потому что при словах «должна… должна» двери вдруг распахнулись и сквозь открытые проходы ринулись в залу преображенцы, с ружьями на руку, предводимые князем Меншиковым и генералом Бутурлиным.
Войдя в залу, гренадеры пешим строем остановились подле сидевших, так что перед каждым очутилось по паре усачей, вооруженных с ног до головы и с отпущенным штыком в нескольких линиях от груди.
Предводители стояли в средине. Меншиков крикнул:
– Господа, не задерживайте других, ступайте присягать государыне императрице, матушке вашей! Нет Петра Первого. Осталась нами править Екатерина Алексеевна. Да здравствует Екатерина Первая, Божиею милостью императрица и самодержица всероссийская!.. Ур-ра-а!
– Ур-ра-а! – грянули гренадеры.
С улицы им ответили тем же возгласом товарищи.
Сидящие и стиснутые гренадерами молчали; молчал и пресеченный на полуслове Головкин.
– Гаврило Иванович? – обратился к нему Меншиков. – Не угодно ли тебе со своими советниками двинуться отсюда? Если устал – помогут гренадеры.
– Мы полагали, что успеем присягнуть, когда наречена будет царствующая особа, – робко заговорил было потерявшийся Головкин.
– Вот что значит растеряться-то, – с оживлением ответил светлейший князь. – Уже церковь по воле покойного императора не только нарекла, но и помазала на царство государыню Екатерину Алексеевну пятого мая прошедшего года. Ведь мы с тобою вместе подавали корону государю, когда он возлагал ее на супругу? И, смотрите, все человек забыл, все вылетело из головы! Да я, брат, друга не оставлю в беде… Ты и государыни этак не найдешь, пойдем-ко, вот так, давай руку, марш! А вы, гренадеры, возьмите под ручки господ, что сидят не вовремя, когда идти надо… Иди же, ма-арш!
И сам поволок совершенно уничтоженного Головкина. За этою парою потянулись длинной цепью, гусем, собравшиеся, но не столковавшиеся советники. За каждым следовала пара гренадеров, с багинетами[1] у ружей на руку, словно торжественный конвой доподлинных заговорщиков.
Так кортеж прошел по внутреннему коридору государыниной половины до малой внутренней приемной, где, опершись на стенку устроенного наскоро царского места, на верхней ступени его стояла царственная вдова Петра I. С правой стороны ее находился Синод в облачении, с двумя вице-президентами впереди; с левой стоял Сенат. В ряды сенаторов встала и большая часть пришедших, кроме двух генералов, оставшихся с командою в коридоре, должно быть ожидать очереди вступить в залу в свое время.
Кабинет-секретарь Макаров подошел и подал государыне исписанный развернутый лист.
Ее величество взяла его и передала вице-президенту Синода архиепископу Феодосию, который, став перед аналоем с крестом и Евангелием, громко прочел клятвенное обещание для принесения присяги: на верность ее величеству государыне Екатерине I Алексеевне, императрице всероссийской.
Все подняли руки, как принято, и по прочтении клятвенного обещания первым поцеловал крест и Евангелие, подписав лист, сам читавший; за ним и все стали подписывать. Головкин один из первых подмахнул свое имя и, отвесив низкий поклон государыне, направился к выходу.
В дверях стоял генерал Иван Иванович Бутурлин. При выходе графа он вежливо ответил на его поклон, прибавив вполголоса:
– Сами сознались теперь, что так будет всего лучше…
– Да я, друг мой, понимаешь, для того и затянуть хотел, чтобы вы подошли… Иначе что же сделать с безумцами?! Не думайте, что я совсем голову потерял, – я…
Он не договорил, кто он, увидев подступавшего с другой стороны князя Дмитрия Михайловича Голицына об руку с князем Василием Владимировичем Долгоруковым.
Эта пара прошла в молчании, видимо обескураженная не столько ловким маневром Бутурлина и Меншикова, сколько бестактностью и разъединением назвавшихся им в товарищи: по решимости противодействовать общим врагам.
I. Неожиданности
Неприглядны казематы ревельской[2] крепости, а тот, в который попал, вероятно по ошибке, наш Балакирев, едва ли не превосходил все прочие сыростью, затхлостью и бесприютностью. Подобие нагревательного снаряда торчало, по правде сказать, на надлежащем месте, в углу, но так называемая печь была, в сущности, грудою кирпичей, благодаря многочисленным трещинам. Из-за них невозможно было не рискуя устроить пожар развести огонь; не говоря уже о том, что свободно разгуливавший в трещинах ветер только вносил холод в нетопленое помещение. Сверх того, он при малейшем морском ветре отдавался в каземате воем, наводившим ужас.
С вечера той ночи, в которую мы находим здесь Балакирева, завывания ветра в открытой трубе не давали узнику ни минуты покоя. Перекаты бешеных звуков разгулявшейся не в шутку стихии отражались в узком каземате, по углам особенно, с удвоенною силою.
Ваня Балакирев был крепкий человек, способный не поддаваться суеверию, не веривший в существование нечистой силы, но и он, пробужденный необычайной музыкой ветра, не вдруг сообразил, в темноте, в чем дело. Пригревшись кое-как на убогом ложе своем, Ваня не хотел вставать и не смел пошевелиться. Пытался он заснуть опять, но не мог, как не мог же, дремля, прийти в бодрственное состояние, стряхнув сон окончательно.
Но к чему узнику просыпаться?
Томление духа о неизвестности судьбы милых ему особ усиливалось, усугубив боль сердечных ран, когда он представлял их горе о нем, о Ване. Как приняли они его несчастье? Кто и чем утешит жену и бабушку? Как дойдет или дошла до них горькая весть о нем? И о чем ему давать весть, когда он сам томится неизвестностью, долго ли будут его держать здесь… А дальше что?
Нерадостное раздумье все больнее трогало узника, пока показался свет начавшегося дня. Свет сам по себе утешение узнику. Мысли его мало-помалу, теряя горечь, перешли в дремоту, обратившуюся в сон.
Видит он себя на улице немецкого будто города, на наши города не похожего. Причудливые узоры сна изобразили в праздничном, ярком свете здания не то Риги, не то Ревеля. И скорее даже Ревеля, того самого, где теперь томится он. Здесь припомнилось молодцу, как свихнулся он, в день самый радостный для христианина, русского православного. Видится Ване праздник большой, тоже весной пахнет и подувает с моря свежий ветерок, поют птички, и пенье их трогает за сердце своим щебетаньем, веселым, бойким, вызывающим на радость и откровенность.
По городу разгуливают толпы разодетых горожан и горожанок. Особенно горожанки одеты нарядно… Загляденье. Пестроты много, но каждой она к лицу. Смотрит Ваня на проходящих горожанок, любуется миловидностью их, а они шушукают, чего доброго, про него… Вот одна молодая, проходя, ударила его по плечу. Остановилась и за руку взяла.
Ваня почувствовал необычайную робость и смущение; руки не отнимает и не может двинуться с места. А горожанка не отстает, тормошит Ваню и вдруг знакомым голосом Даши с нежным упреком говорит ему: «Как же ты забыл меня до того, что не узнаешь?.. Словно я стала совсем чужая тебе».
Вглядывается Ваня и невольно трепещет. Это Даша, точно, и в глазах ее нежность первого времени их любви.
Все прошлое пришло на память Вани, а он, словно от страшного сна, отвернулся от него, впиваясь глазами в Дашу.
А она-то, она воплощенная нежность, так и льнет к нему, так и нашептывает нежные уверения в любви.
Тянет его к пляшущим, стоящим стройными рядами, в парах. Пошли они, а пары и ряды их вырастают в необозримый хоровод, пестреющий всеми цветами радуги. Раздаются звуки, переполняющие сердце любовью и забвением.
Пары скользят, и между ними Ваня с Дашею. И они, как другие, несутся в бешеной пляске так быстро, что захватывает дыхание. Ряды пар перемешиваются, переплетаются, и вдруг из чужого, сбившегося ряда какая-то плясунья выхватывает его, Ваню.
– Не уступлю, – кричит, – Ваня мой!
И он увлечен вдаль, в ряды, которые перед его похитительницею расступаются… все дальше и дальше. Пара их одна несется в какой-то туман, но без пыли и сырости. Голос Даши слышен глухо где-то вдали – где же ты, Ваня?.. Где ты?
– Я… здесь…
– Где – здесь?.. Совсем пропал… – почти шепотом слышатся ему последние слова.
Ваня хочет лететь на зов Даши, но непреодолимая сила, в образе плясуньи, снова увлекает его.
– Чего стал, полно дурить… будь умнее, – увещевает плясунья.
В голосе ее узнает Ваня говор Дуни никак? И сердце Вани начинает биться сильнее, и представляется ему прощание с Дашею, как было в утро его ареста. Жгучая боль захватывает дыхание. Он хочет кричать – не может.
К счастью, кто-то начинает тормошить и будить его. Вот он очнулся, чувствуя головокружение.
– Вставай, пойдем! – раздается повелительный голос ефрейтора.
– Куда? – робко спрашивает Ваня.
– Комендант требует.
Сильно забилось сердце у Вани, но не от страха. Что-то новое проснулось у узника, привыкавшего к своему одиночеству.
Вышли из каземата. В длинном коридоре пахнуло морозом.
Вот, следуя за ефрейтором, Ваня на крепостном дворе. С неба падает холодная изморозь.
Вот и крылечко комендантского дома. Ваня за ефрейтором пошел в приемную. Много офицеров, и все в черном.
Подлетел комендантский адъютант, повел за перегородку, к узлу с тем платьем, в котором привезли сюда Балакирева.
С узника снимают арестантский тулуп и прочее и велят одеться в его платье.
Ваня опять в своем красном камер-лакейском кафтане, при шпаге, в ботфортах своих, епанче, и треуголку дают ему в руки.
Адъютант обошел вокруг переодетого узника, пообтянул складки кафтана; сказал, подведя к зеркалу, чтобы Ваня причесался поданным гребнем; еще раз осмотрев, все ли исправно, повел к коменданту.
Комендант встал, тоже оглянул приведенного пытливым взглядом инспектора перед смотром и ласково вымолвил ободряющим тоном:
– Можешь ехать, с Богом! Будешь в Санкт-Петербурге, вспомни, что здесь тебя не обижали ничем, а держали – как приказано.
– Куда же меня, ваше высокородие, требуют теперь – в Питер? – спросил оживляясь Ваня коменданта, двинувшегося с бывшим узником в приемную.
– Мне дан приказ прислать тебя обратно, до дому ее императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, как можно поспешнее. Вот повезет тебя сей офицер, – указал комендант на стоявшего у порога офицера, с сумкою и в епанче.
– Желаем много лет здравствовать! – поклонясь коменданту, молвил Балакирев, идя за офицером к открытой двери.
У крылечка стояла запряженная кибитка.
Офицер и Балакирев сели в нее и поехали по направлению петербургской дороги.
Офицер совсем по-братски стал обращаться с Ванею.
– Значит, государь прощает меня, коли дал приказ доставить меня обратно, ко двору ее величества? – спросил своего спутника Балакирев, рассказав ему без стеснения, что он был осужден за вину, им хорошо сознаваемую. Но какая вина, Ваня не открыл, понимая, что больше говорить не следует.
– Может быть, – был ответ офицера. – Только приказ дан самою государынею. Ее величество ныне уже царствовать сама изволит, со дня кончины его величества Петра Первого.
У Вани брызнули слезы. Всхлипывая, привстал он, перекрестился и произнес: «Да помянет Господь Бог во царствии Своем душу…»
Офицер посмотрел на Балакирева с удивлением и подумал, что бывший арестант себе на уме… Чего доброго, еще на него донесет! Лучше с хитрецом в молчанку играть. После взгляда удивления офицер во всю дорогу уже не проронил ни слова с возвращаемым узником.
Да и Балакиреву, узнавшему о кончине Петра I, было не до разговоров. Ему представилось много нешуточных мыслей, которые заняли его.
Ехали быстро; выходили из кибитки только два раза до Нарвы, для того чтобы подкрепить силы чем Бог послал. На третий день после полудня Балакирев был привезен в Петербург, в дом Андрея Ивановича Ушакова.
Офицер вошел в переднюю и подал книгу с пакетом. Возвращая книгу офицеру, солдат повел Балакирева к генералу.
Когда Ваня вошел в рабочую комнату Андрея Ивановича, делец сидел за столом и что-то списывал в большую книгу, погрузившись в это занятие. Ваня стал у дверей, и вдруг у него защемило сердце при воспоминании о событиях, завершившихся выводом на Троицкую площадь.
Бывший тогда главным следователем, Ушаков нисколько, впрочем, не напоминал писавшего в книге. Напротив, с каждым взмахом пера лицо Андрея Ивановича становилось как бы добрее и сочувственнее чужому горю.
Вошедшего он словно и не видел, но это казалось только со стороны.
В действительности Андрей Иванович Ушаков не нуждался в том, чтобы поднимать глаза и обращать их на предмет, приучившись глядеть искоса, из-под редких ресниц. И теперь он, погруженный будто бы в свое занятие, хорошо подмечал угрюмость, все сильнее и сильнее скоплявшуюся в нависших бровях Балакирева, придавая ему не только уныние, но дикую мрачность.
Ушаков решил, что длить такое положение больше не нужно, и, внезапно встав, подошел к привезенному и ни с того ни с сего обнял Балакирева как родной. Объятием, впрочем, не закончилась нежность прославленного сыщика: он два раза крепко чмокнул в лоб удивленного Ваню, приговаривая:
– Здравствуй же, здравствуй, крестник!
Тот окончательно растерялся от неожиданной любезности. Заметив, что, чего доброго, пересолишь уже нежности, Андрей Иванович спохватился и задал Ване вопрос:
– Ты ведь, плутяга, и не догадываешься, кому больше всех обязан спасеньем? Ась?! Молчишь… небось не знаешь… Простяк ты простяк! И по моему обращенью к себе не возьмешь в толк, что… мне, а никому другому…
И новый поцелуй в голову был, так сказать, вразумлением Вани насчет признанья забот о нем откровенного благодетеля.
– Сам знаешь, – начал теперь Андрей Иванович своим обычным резонным тоном, – что я и рад бы для тебя тогда больше сделать, да… не ровен час, паря… Петруха, покойный теперь, известно тебе не хуже меня, сбрех был… Попадись я ему в поноровке, самого бы меня взъерепенил! Да и тебе бы не легче было… уже не по-нашенски задрал бы кат[3], не по столбу бы… А мы-то все же, как ни зорок был, а провели его таки?! Дай ему Бог царство небесное!.. – со вздохом закончил Ушаков, набожно взглянув на икону.
И оба одновременно перекрестились, Ушаков и Балакирев.
Андрей Иванович отошел теперь от Ивана и заходил по горнице взад и вперед, словно приготовляясь к новому опыту своей изворотливости. Время от времени он посматривал на Ивана, замечая, что лицо его и после ободрения поцелуями милостивца сохраняет грустное выражение. Сыщику пришла мысль, что Ивану, дорогой, офицер уже открыл трагическую кончину жены и сумасшествие бабушки. Подумав это, Ушаков решил начать прямо утешением вдовца, судя о семейном горе понаслышке, сам не зная его. Был, впрочем, Андрей Иванович хорошим семьянином. Но, женясь не по любви, никогда и не знал он, что такое страсть, к жене не чувствуя ни антипатии, ни симпатии и видя покорность во всем. В покорности да в угодливости он только и признавал долю самостоятельности жены-хозяйки в супружеском соединении. Натура этого человека с крутым нравом была груба, конечно, но таковы были все. А, как знать между всеми, Андрей Иванович в семейном быту был, возможно, больше чем хороший отец и муж.
Горе мужа, потерявшего жену, он ценил со стороны одной привычки видеть ее каждый день, но это не исключало возможности сойтись с другою женщиною, если судьба уберет первую. Ставя вопрос так, Андрей Иванович по-своему был прав, да к тому еще, зная кое-что про связь Балакирева с Дунею, он, видимо, открыл новую кампанию вопросом:
– Да ты чего нюнить хочешь? Нюнить тебе, молодцу, нечего, хотя и оттого бы, что стал вольный казак! Найдешь жену не первой чета. При милости, теперича, государыни, за стойкость свою… что не выдал… не назвал… по моему совету… всякая баба тебе, паря, обе руки протянет, бери только… Живи знай, да веселись, да пользуйся августейшими милостями.
У Вани сперлось дыхание. Он начал, но не докончил фразу:
– Что же-с… Д-да…
Побледнел, затрясся, как в жесточайшем пароксизме лихорадки, и, потеряв сознание, грохнулся бы на пол, если бы Ушаков не принял его в мощные свои объятия.
Это надоумило Ушакова, что, видно, Балакирев не знал еще ничего о жене, а предложение жениться снова подействовало сильнее от неожиданности. Тем, может быть, лучше, что разом? Скрытничанье после удара не нужно, представлял себе Андрей Иванович, усаживая бесчувственного Ивана на стул. Обморок у молодого человека, конечно, не мог быть продолжителен, а с возвращением сознания у страдальца пробудилась потребность узнать все обстоятельно. Силы возвратились, но жгучая боль была в сердце несчастливца. Осиливая эту боль, возбужденную горьким чувством своей двойной вины, Иван нашел в себе силы сказать покровителю:
– Да говорите, Андрей Иваныч… я… я… покорен… воле Божией. Если Святая воля Господня призвала жену мою, Дашу… не томите меня, а гово… рр… ите.
И его забила опять лихорадка.
– Ладно, – поддерживая несчастного, начал покорный Ушаков, – слушай. – И у самого сурового расследователя вырвался невольный вздох. – В день экзекуции твоей жена твоя, как объявил отец ее, поп, бросилась в беспамятстве в прорубь. Прорубили лед и… вытащили на третий день… похоронили с честью, со славой. Вот, видишь, – Ушаков перевернул лист раскрытой книги и прочел: – «По изустному велению его величества, на похороны жены Ивана Балакирева отцу ее дано пять рублев, да три рубля на сорокоуст, в двадцатый день ноемврия сего семьсот двадцать четвертого году».
«…А сего семьсот двадцать пятого году, февраля в первое, по изустному повелению ее императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны дано протопопу Егору Петрову, при переводе согласно челобитью его в Москву, к Верхоспасскому собору что на Сенях, на проезд с семьею, да на провоз рехнувшейся бабки Ивана Балакирева и его младенца сына триста рублев. Да на содержание старухи и младенца Балакиревых ему, протопопу, из соляныя суммы, в зачет на комнату ее императорского величества отпускать ему же, протопопу, по двести рублев в год. И давать ему, протопопу, оные деньги вперед, с наступлением каждой трети. А на сию январскую треть деньги выданы здесь, шестьдесят шесть рублей двадцать два алтына одна деньга. Принял и расписался сам протопоп Егор Петров. А в Москве велено давать оному протопопу ежетретно по шестидесяти по шести рублев по двадцати по два алтына с деньгою, от дворцовых расходов, из вотчинной конторы, бездоимочно и не мотчая. И о сем писано в дворцовую канцелярию, сего февраля во второй день. Приговор закрепил Андрей Ушаков».
– Значит, можешь быть доволен всем, ублаготворили… и за все и про все рачитель о тебе один я же, Ушаков Андрей. Меня, значит, следует тебе, Ванчура, не отцом крестным звать, а почитать паче отца родного… Потому что, хоша и есть у тебя отец… лучше молвить кобель, прости Господи, коли еще того не похуже… кобель по крайности со щенком своим иной раз полижется, а укусить не укусит, а батюшка твой – годен только сыновним предателем быть… Мы знаем уже теперь доподлинно, кто в конторку токарную грамотку подбросил, с чего началась передряга! А, известно, как за Монса ухватились, сцапали в допрос и тебя, и прочих всех… Знаю я, что и настрочил, складно да красовито таково, оную грамотку – Павел Иваныч Ягужинский… по дружбе радея Авдотье Ивановне Чернышевой… жене… отставной… Кто она такова, сам ты знаешь, и растабарывать нам с тобой нечего. Она подделывалась под самое, а теперя… Без мыльца въезжают… первые люди! И всех-от своим добром силятся наделить да в остуду привесть. Известно, чтобы самим мошенничать поваднее было. Помни же, Иван, Андрей тебя не выдал, а как умел, выкрутил-таки и… кому следует, время выбрамши, представил: так, мол, и так, верного слугу, что за нас побои перетерпел, не следует в оковах оставлять… А нужно к себе призвать да ближе поставить… надежнее слуги не сыщете, – не чета он проходимцам всяким. Зорко уж будет передню вашу беречь. Знает он, кто таковы вороги ваши. Сам пострадал… Никого не предал. Всего лишился, можно сказать… за одну верную службу.
И Андрей Иванович снова любовно смотрел на Ивана, довольный собственным изображением мнимого подвига, – хотя с его стороны, если верить иным пересказам, нисколько не было оказано никаких услуг. Дан был приказ прямой – доставить такого-то! И, выполняя уже приказ, Ушаков задумал подействовать на возвращенного Балакирева мнимым участием, чтобы сделать верного слугу государыни – себе преданным. А несомненное возвышение его представлял Андрей Иванович не подлежащим ни малейшему сомнению.
Значению своего красноречия придавал Ушаков большую силу. Потому, с самодовольствием, окрасившим ланиты его розовым цветом, Андрей Иванович посмотрел теперь на Балакирева, думая вычитать на лице его желанное выражение. Его, однако, не было или оказалось так мало, что самолюбие Ушакова объясняло это иначе, чем следует.
Нельзя, однако же, сказать, чтобы выражение лица Балакирева ничего не говорило согласного с видами внушателя. Ушаков объяснял его покорность полным заполоненьем его воли, а она была поражена, несомненно, силой его горя. Оно покрывало и мысль и чувства пораженного непроницаемым туманом. Но Ушаков принял мрачность Вани за злобу, способную воспитать жажду мщения, и остался доволен действием своих слов на сердце возвращенного узника. Чувству мести присуще выражение мрачности, так же как и сильному горю. И то и другое равно может вызывать оттенки дикости и отчужденности. А именно такие оттенки могло усмотреть самообольщение Ушакова на лице Ивана, покуда безучастного к его враждебным настраиваньям, за невозможностью осилить вдруг горе. Ушаков не мог понять, что все чувства Вани парализованы горем. Для него первым делом было теперь умалить влияние Ягужинского на милостивую государыню. Ягужинский, как он предполагал, пользуясь влиянием своим, успеет втереть в милость Екатерины I, чего доброго, и злейшего врага ее величества еще так недавно – Авдотью Ивановну Чернышеву, способную, тем более теперь, на все и ни перед чем не пасовавшую. Авдотья Ивановна, как хорошо знал Андрей Иванович, умела при первой лазейке, ей открытой, примазаться к кому и к чему угодно. Нерасположение к ней, будь оно и в десять раз больше, чем апатичная сдержанность Екатерины I, Чернышиха сумеет сгладить и заметать лисьим хвостиком похвал, мгновенно отгадывая настроение и попадая в тон угодной материи разговора.
Ягужинский – иное дело. Он способен был легко напиваться и в пьяном виде наговорить кучу глупостей, открывая неудавшуюся игру, одному себе во вред. С таким противником не задумывался сладить своими средствами Андрей Иванович, умевший поощрять поддакиваньем выбалтыванье подноготной охмелевшим хвастуном вроде Павла Ивановича. А против ловкости Авдотьи Ивановны все обращать в орудие своих планов он находил своего уменья недостаточным и хотел заручиться помощью Балакирева, направив его на дело как следует. Выбрал он только для внушения неподходящий момент.
Начни он немного позднее, непременно бы удалось и настраиванье и всяческое внушение. А иначе назвать подходы Андрея Ивановича к Балакиреву почти невозможно. Если бы без других дальновидных целей припоминал он Ивану его роль в деле Монса и за это вероятность приближения теперь к особе государыни, – незачем было бы ввертывать отца и донос. Незачем было бы открывать и участие Чернышевой. Ясно, что Андрею Ивановичу необходимо было вызвать в Иване недоброжелательность к Ягужинскому с союзницею. На эту тему и последовала широковещательная речь после выяснения гибели жены и сумасшествия бабушки. Но когда пыл говорливости ослабел у Андрея Ивановича, вития, не видя оживления в лице Балакирева, понял, что нужно отложить до другого времени все эти внушения. «Гм, – невольно прошептал Ушаков, – много калякать незачем».
– Затем, – сказал он уже громко, – теперь я должен тебя, Ваня, самолично представить государыне, матушке нашей. Когда удосужусь, пришлю за тобой вдругорядь и скажу тогда, как и что тебе надо будет делать.
Тут генерал снял со стены новый кафтан, водрузил на голову завитой высокий парик, с груды бумаг достал шляпу, надел портупею, вложил шпагу в ножны и, сказав: «Идем же!» – торопливо пошел из дверей.
Иван Балакирев машинально двинулся за ним с крыльца, налево, вдоль Невской набережной. Перейдя шесть домов, в самые сумерки, Балакирев и его вожак вошли на крыльцо Зимнего дворца.
По праву повествователя позволяем себе воротиться несколько назад. Прежде чем описывать представление императрице Ивана Балакирева, расскажем о другой аудиенции у ее величества.
Хлопотун, председатель траурной комиссии генерал-фельдцейхмейстер Брюс третий раз уже приходил в приемную ее величества, имея, как он объяснял, крайнюю надобность видеть монархиню.
Два раза Авдотья Ильинична, ожидая с его стороны грустного доклада, отказывала ему, говоря: «Ее величество заняты». Теперь же, не видя в передней Ильиничны, Брюс сделал два шага в следующую комнату и, увидев в зеркале лик ее величества, негромко спросил:
– Не соизволите ли, ваше величество, удостоить воззрением труд персонных дел мастера?
– Пожалуй, пусть придет, – был августейший ответ.
Брюс исчез.
Через минуту показался мужчина лет тридцати пяти, в приличном гарнитуровом[4] кафтане с брызжами[5] из черного петинета и в подстриженном парике. Смуглый и несколько сумрачный, мужчина этот имел добрый, располагающий к себе взгляд. Он держал в руке натянутый на подрамок холст и бережно нес его, очевидно чтобы не повредить свежее письмо.
И он, как Брюс, войдя в приемную и не найдя в ней никого, сделал два шага в следующую комнату, смотря вдаль и начиная кланяться сидевшей у себя государыне.
– Покажи, Иван Никитич, что у тебя такое? – милостиво молвила Екатерина I.
Живописец Иван Никитин – это был он – вошел в апартамент государыни и оборотил к ее величеству холст.
– Как живой! – вскрикнула Екатерина I. – Но ты придал лицу государя такое выражение, что… тяжело долго смотреть…
– Это выражение есть, ваше величество… – оправдывался художник. – Я писал, что видел.
– Д-да, конечно, только…
Вошла Ильинична, взглянула сбоку на картину, и можно было заметить, как невольный трепет пробежал по чертам лица ее, мало открывающим обычно ее чувства.
– Ишь какую страсть намалевал, – произнесла она шепотом, с укоризною художнику.
Никитин был не из робких, но и он теперь, сам пристальнее начав вглядываться в написанный им лик Петра I, лежавшего на столе под синим бархатным покровом, невольно попятился. Лик покойного, с грустно-торжественною думою на челе, производил магическое действие. Сердце начинала щемить тоска, неотступно охватывавшая свежего человека при первом взгляде на застывшие черты, которые уже потеряли выражение страдания.
У самого Никитина выкатилась слеза. Проступили слезы у Ильиничны, и она молвила государыне:
– Ваше величество, в горе своем повелите портрет оставить на время в траурной…
– Да, да, поставь, Иван Никитич, свою живопись сбоку ложа государева, – отдала приказ императрица.
Никитин поклонился и вышел.
Ее величество погрузилась в думу, унесшую далеко-далеко мысли августейшей повелительницы России.
Уже начало темнеть, а Екатерина I все сидела, сосредоточенная и унылая.
Зная сам расположение дворца, Балакирев, разумеется, не останавливался, следуя за генералом до самой комнаты ее величества, где уже царил полумрак.
С уменьшением дневного света на ярко-красном фоне стен, даже в светлой комнате, ближайшие предметы потеряли свою обычную резкость и угловатость, а задние слились совсем с потемневшею стеною. Государыня сидела в глубине комнаты на канапе, вся в черном.
- Елизавета I, королева Англии
- Ипатия
- Эсфирь
- Несравненная Жозефина
- Кавалерист-девица
- Боярыня Морозова. Княгиня Елена Глинская
- Изабелла Баварская
- Жрица Изиды
- Актея – наложница императора
- Шарлотта. Последняя любовь Генриха IV
- Опимия
- Сивилла – волшебница Кумского грота
- Валерия. Триумфальное шествие из катакомб
- Салтычиха
- Казнь королевы Анны
- Царица-полячка. Оберегатель
- Присцилла из Александрии
- Тайны Марии-Луизы
- Ее величество королева
- Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)
- Ксения Годунова. Соломония Сабурова. Наталья Нарышкина
- Королева Виктория
- Гетера Лаиса (Под солнцем Афин)
- Невестка Петра Великого (сборник)
- Людовик и Елизавета
- Вельможная панна. Т. 1
- Аврелия
- Евпраксия
- Герцогиня и «конюх»
- Трагедия королевы
- Анна Павлова. Жизнь и легенда
- Куртизанка Сонника
- Белые и черные
- Маргарита Валуа: Прелестная ювелирша. Любовница короля Наваррского
- Красная королева
- Марфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма
- Графиня Дарья Фикельмон (Призрак Пиковой дамы)
- Тайна Царскосельского дворца
- Тайна королевы Елизаветы
- Весенняя песня Сапфо
- Графиня Козель