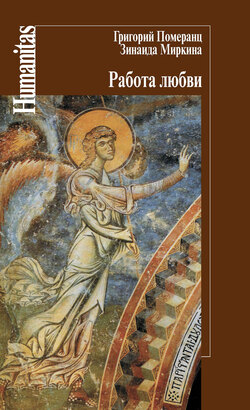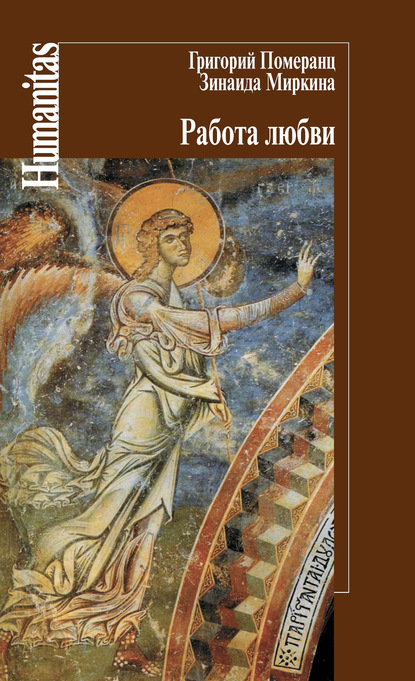Предисловие
Эта книга – итог своеобразного начинания. В Ко (Коммуна Монтрё, Швейцария), на конференциях Общества морального перевооружения (впоследствии переименованного в «Инициативу перемен»), мне понравился «час общин», с 11 до 12 утра. Общины создавались каждые несколько дней заново, по мере приезда участников того или иного цикла занятий. Сходились по языку, на котором могли общаться без переводчика, и по привязанности к руководителю, по опыту прошлых лет. Я ходил к Хайнцу Кригу, старому учителю из Западного Берлина, инвалиду проигранной войны, для нас – Отечественной. К счастью, наша встреча в районе Сталинграда не состоялась. Увидев друг друга через полвека, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Он стал одним из самых чутких слушателей моих докладов, а я – одним из самых активных участников его «общины».
Хайнц захватывал своей искренностью. Он рассказывал какой-то трудный случай из своей жизни (иногда прося не выносить сора из избы – «ведь мы одна семья»), а потом мы обсуждали аналогичные проблемы. За большим столом сидели рядом рабочий-электрик и профессор, но каждый находил что сказать, и всем интересно было слушать. У нас в Москве это бы так легко не получилось. Не было традиции, созданной основателем общества, Фрэнком Букманом (так по-английски произносится его немецкая фамилия Бухман, 1878–1961. Есть книга о нем на русском языке – «Поспеть за Богом», не говоря о книгах на европейских языках). Надо было создавать традицию, и я решил расширить вводное слово, превратить его в маленькую лекцию, способную задеть за живое.
Так родилась моя первая лекция «Возможна ли чистая совесть?». Но как только я кончил, вошла уборщица с ведром и метлой и велела убираться. Ее рабочий день кончился, и она не согласна оставаться сверхурочно. Обсуждение произошло в раздевалке. Обрывки разговоров никто, конечно, не записывал. К сожалению, и в дальнейшем, когда метла нам не угрожала, запись прений оставалась ахиллесовой пятой наших занятий. Обсуждение иногда затягивалось часа на полтора, не уступая лекции по глубине, но сохранилось (если сохранилось) только в частных аудио- и видеозаписях, очень несовершенных.
Темы занятий, как читатель увидит, полистав содержание, все расширялись. Некоторые занятия напоминали зародыш Религиозно-философского общества. Постепенно в его работу втянулась и Зинаида Миркина, сперва только помогавшая мне отвечать на вопросы. В конце концов Зинаида Александровна стала выступать и с содокладами. В книге эта перекличка оборвалась на полуслове. По моей шутке, в которой есть доля правды, я разговаривал с историей, поглядывая с надеждой на Бога, а Зина разговаривала с Богом, поглядывая с ужасом на историю.
Кое-что из выступлений наших слушателей уцелело в аудио- и видеозаписях и может быть собрано, но у нас на это не хватает сил. Что есть, то есть. В книгу не вошли лекции «Созерцатели нашего века» («Уязвимость Антония Блума», «Вера и неверие Мартина Бубера», «Созерцание Томаса Мертона»), которые напечатаны в серии «Антология выстаивания и преображения» в 2003 году во 2-м томе «Неуслышанных голосов» (с. 344–375).
Быть может, книга даст толчок для нескольких дискуссий – более широких, чем наш маленький московский семинар. Мы с Зинаидой Александровной готовы принять в них участие.
Григорий Померанц
I. Лекции конца века
Работа любви
Возможна ли чистая совесть?
Когда мы говорим: «моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего ты не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил, меня при этом не было.
Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату… И то – если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя остаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве – и погибла вместе с другими евреями в 1941 г. (в ссылке – могли бы уцелеть).
Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден: если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не все насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать…
Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек, после 70 лет советской власти, будет действовать по правилам, установленным в Америке?
Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богораз признавала это своей виной.
Чиста ли совесть у солдата, выполнявшего приказ? В 1944 году я совершенно вжился в свою военную форму, приказ был для меня закон. Приказ разрешал рукоприкладство, и во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением. Солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдил меня; до сих пор помню свой стыд. А потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело – высокая политика, и я привык. Не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не блеял, как овца. Связал страх остаться одному против всех (все ложь Главнокомандующего проглотили). Пока я был один – мыслил, а укоренившись в стае, в почве, в народе, – лаю по-собачьи, блею по-овечьи.
Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставивших след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу желание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной, сознание капли, тождественной океану, – и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.
Пушкин писал: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. А что, если мысль о продаже вмешивается в само вдохновение? И повернет перо так, чтобы выгоднее продать? Я пишущий человек, я это знаю.
Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды; думать о достойном ответе на Страшном суде – одно, а рассчитывать на награду – совершенно другое. Отец Сергий подгнил от любования своей святостью, и Силуану было сказано: «держи ум свой во аде и не отчаивайся!».
Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «все спасутся, один я буду гореть в аду», и понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и частный интерес.
Второй раскол – внутри разума, сознающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие – коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями. Приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок – три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришили еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства. Письма в лагерь проходят сквозь цензуру, и гэбэшники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал. Осуждали Дудко, Красина, Якира: струсили. А здесь долг столкнулся с долгом.
Безусловная верность одному долгу оборачивается топтаньем других долгов. Есть история 48 ронинов (т. е. безработных самураев-вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакином, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймьё (лорд) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительство) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную стражу. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыплена, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести. Потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронинам сделать себе харакири, и 48 ронинов разрезали себе животы.
Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шолохова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славились своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества – поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия – канонизированная царица Ирина, по повелению которой были перебиты сто тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной вселенской церковью – и католической, и православной).
Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость, – тоже от дьявола. Обе крайности – от него. И безусловная верность одной идее, одному долгу – и отказ от всяких идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.
Долг – это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить разные принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жесткость, ставших текучими. В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьянина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова – но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты – всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах, и передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредят»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190-1). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно. Другие – что всякие обещания им – слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в одних глазах и слабаком в других. Подобного рода колебания были и в поведении ассистента Сахарова, Бориса Альтшулера, человека по натуре очень прямого, но не готового принести в жертву жену и детей. Он об этом рассказывает в своей статье, помещенной в сахаровский сборник.
Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против – ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог бы стрельнуть и по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при явном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите[1] надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от стрельбы по толпе и т. п. – но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что всякое практическое решение не безупречно, всякое действие монет вызвать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие, сплошь и рядом, еще большее зло.
Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого – недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение – знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их, как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.
Без этой чуткости к своей вине доброе дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения – и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стада угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.
Зло – порождение жизни. Жизнь всегда – отдельная, и утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья – загораживая солнце. Еще больше – животные и птицы. И больше других – человек. Но человек – не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца – не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: «И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест».
Власть слов, идей возникает во имя духа – и загораживает дух, как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромоздившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнущим словом. Время от времени больно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи…» И все же наш долг – произнести слово. Долг, противостоящий другому долгу – молчания.
Солженицыну казалось, что все зло – от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать – чувство, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает давать противопоказания. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и все время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, – кто знает все последствие своих действий? И, наконец, мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: Возлюбить Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть – уловка дьявола…
Но поэт опытно знает состояние чистой совести:
Чистая совесть – дыханье простора,
Чистое веянье духа, в котором
Бог развернулся сплошною дорогой.
Чистая совесть – согласие с Богом.
Чистая совесть – согласье с мирами,
К нам доносящими дальнее пламя,
С каждой звездой и душою зеркальной,
Той, что звездою была изначально.
Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло мое, исчезло эго, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты «я» и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.
О Господи, меня ведь нет.
Расплылись все черты.
Все было суетой сует,
Остался только Ты.
Остались на исходе дня
Вод тихих зеркала.
О Господи, прости меня
За то, что я была.
За то, что тратила запас
Вселенской тишины.
Прости меня за каждый час,
Что мы разделены.
(Оба стихотворения Зинаиды Миркиной)Москва, 16 марта. Коктебель, май 1997
Приобретения и потери
Всякое приобретение – потеря; или, по меньшей мере, – забота, как избежать потери и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после всех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.
Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф – о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранилась до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.
Второй, утешительный миф – прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта. Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, – не зависевшего один от другого, в Элладе, Индии, Китае, – кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры философов кончились сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, главной книге, Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир Средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарит Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.
Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник Альфред Шнитке чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделялось от жизни и стало недоступным.
Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не значит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее – «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысленна, чем жизнь ребенка. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.
Путь человека повторяет путь человечества: все больше информации, все меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадями. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отымает радость игры – и дает вышколенность. Говорят, что воробей – это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам малышом неплохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скукой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скуки, едва книга отложена в сторону.
Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т. п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «я на кровати». Утром Менаше все собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.
Ученье – вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в доброе старое время. Тогда все было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненаших. «Моя страна, права она или нет», – говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фортинбрас не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу – и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к обдуманной решительности. Но обдуманная решительность – скорее цель, чем положительное приобретение. Все время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкли, и не знаю, привыкнут ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.
Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами – разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих адептов великой веры, великого рвения – и великого сомнения (во всех словах о предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложились новая жесткая буква и новое законничество.
Это было необходимостью для народной религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения – тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет – как оно идет сейчас – в сторону массы видеотов, мыслящих роликами и клипами.
Весной 1935 года нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата), и кончил словами: «я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытал серьезное влияние «эготизма» Стендаля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.
Я искал себя в Гамлете, в стендалевском Люсьене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов, с его «памятью смертной»). И в музыке – та же память смертная: миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать… О, верно смерть одна, как берег моря суеты… При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной даже в самых ярких эротических образах, надолго застревавших в уме.
Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею скорее становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе» пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или стать женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до 11 лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пыталась почти ничего не есть, чтобы сохранять мальчишескую худобу, но ничего не помогало. Потом воображение ее стало двойственным, перенося то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к 15 женственное вполне победило.
Бисексуальность – не патология, скорее норма становления – в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа – травести, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать Другого как себя ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина женщину и Другой становится частью самого тебя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин – отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины; а у мужчин – отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимой. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на всю жизнь от этой травмы (у П. И. Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадка Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперова настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.
Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти. Если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины – и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическим дальтоникам?
Кришнамурти[2] различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости – это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где профанация стерта: «С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел…». Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захватившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины, а женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу – причастием.
Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: брахмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейная жизнь) и варнапрастха; вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как внутренний уход, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».
Все это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет, то лучше избрать путь одиночества.
На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас – сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман или сознательный обман. Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлия Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следуя за триумфальной колесницей, распевали частушки: вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны… Вот едет жена всех своих друзей и муж всех римских матрон… Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от всех предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться: глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мыслителями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.
- Семиотические исследования
- Мышление и творчество
- Данте в русской культуре
- Грани «несчастного сознания». Театр, проза, философская эссеистика, эстетика Альбера Камю
- В поисках утраченного смысла
- Дж. С. Сэлинджер и М. Булгаков в современных толкованиях
- Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.)
- Гуманитарное знание и вызовы времени
- Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
- Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии
- Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы
- Декабристы
- Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения
- Политические сочинения
- История британской социальной антропологии
- Видимый и невидимый мир в киноискусстве
- Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве
- Притяжение Андроникова
- Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века
- Над строками Нового Завета
- С Евангелием в руках
- Работа любви
- Этика Спинозы как метафизика морали
- От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир
- Метафизика Достоевского
- Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий
- Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени
- Политическая история русской революции: нормы, институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке
- Старая дорога. Эссеистика, проза, драматургия, стихи
- Обидчик России. Из истории социально-философской мысли России
- Генезис и структура квалитативизма Аристотеля
- Философия науки Гастона Башляра
- Пришвин и философия
- Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ
- Философская интерпретация человека
- Философское толкование человека
- Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография
- «…И только притчей тайну сбережешь». Беседы о Померанце и Миркиной
- Post scriptum
- Беседы о литературе: Восток
- Библейские чтения: Апостол
- Беседы о литературе: Запад
- Библейские чтения: Новый Завет
- Библейские чтения: Пятикнижие
- Размышления о богослужении
- Свет во тьме светит
- Труды по античной истории
- Лексическая семантика. Культурно-исторический подход
- Смена парадигм в лингвистической семантике. От изоляционизма к социокультурным моделям
- Историческая традиция Франции
- Историки железного века
- Культурно-историческая антропология
- «Хождение вкруг». Ритуальная практика первых общин христоверов
- Эдип и Фауст. К теории культуры
- Тема «живого тела» в истории философии
- Пространство и время в науках о человеке. Избранные труды
- Методология психологии: проблемы и перспективы
- Сообщение и забытие
- Кинематограф XXI века. Влияние виртуальных новаций
- Метафизика киноискусства
- Звон со звезды. Лекции 2020–2021 гг.