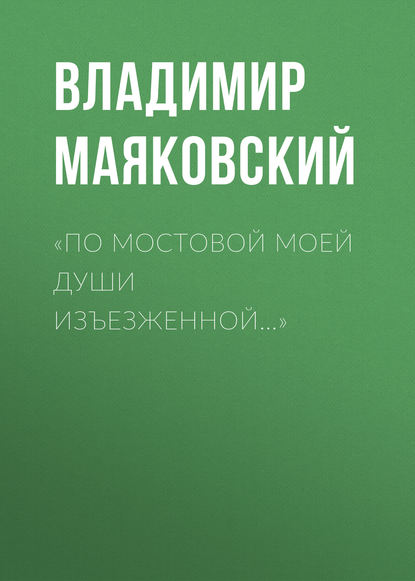000
ОтложитьЧитал
Шрифт:
-100%+
Вот так я сделался собакой
Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.
Нервы, должно быть…
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она – знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.
Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»
Провел рукой и – остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.
Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.
И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!
1915
Великолепные нелепости
Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!
Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,
просто – похож на пушечный.
И не от газа маска,
а ради шутки игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.
Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это – дико!
Просто и́збранных из бранных
одаривали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то – для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто – не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!
1915
Гимн взятке
Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.
Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза́ весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.
Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»
Если сверху смотреть – разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия – сверху – прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.
А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и Лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые – коза и зелень.
И нечего доказывать – идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?
1915
Внимательное отношение к взяточникам
Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я – еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, – думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд – доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на́ зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу.
Чтоб об этом больше никогда не писать.
1915
Чудовищные похороны
Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.
Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.
Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.
Встревоженная о́жила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —
крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.
И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.
К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине – тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.
Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда – если умер – уткнуться ей?
Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.
И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас – вперед пойти —
весь в похоронном марше.
Размокло лицо, стало – кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется – кажется,
что ему разодрали губу.
1915
Эй!
Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.
Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.
Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.
Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.
Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предку
туда
отправила шпаги логика.
А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.
И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.
Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.
Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!
Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.
1916
Ко всему
Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!
Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.
Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем – как на смертном о́дре —
сердце
дни
кончило.
В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»
Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!
Довольно!
Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Око за око!
Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!
Око за око!
Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие по́том и базаром.
Ночью вско́чите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.
Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.
Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда,
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!
Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!
Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.
1916
Лиличка!
(Вместо письма)
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умо́рят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
26 мая 1916 г., Петроград
Надоело
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.
Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»
Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало и́наче:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.
Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?
Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев
покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?
Для истории
Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
1916
Дешевая распродажа
Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?
Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Мо́рган.
Через столько-то, столько-то лет
– словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.
Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.
Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я – пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
– а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
все это – хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.
Люди!
Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!
1916
Себе, любимому, посвящает эти строки автор
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой ненужный?
1916
России
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
1916
Революция
(Поэтохроника)
26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.
27-е.
Разли́лся по блеснам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.
Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.
Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то – «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.
9 часов.
На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.
Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.
Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по́ сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.
И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.
Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!
Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном «форде»
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.
В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.
Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.
Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!
Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.
Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.
Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!
Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.
Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.
Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.
Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не о́жил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! – вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»
Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.
Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.
Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух – наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.
Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех ма́ло?!
Или небо над нами мало́ голубое?!
Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.
Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного гро́мовое:
– Верую
величию сердца человечьего! —
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
17 апреля 1917 г., Петроград
Сказка о красной шапочке
Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта́ в нем красного не было и нету.
Услышит кадет – революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.
Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.
И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.
Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.
1917
К ответу!
Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжи́лся Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут та́м ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?
1917
Издательство:
Public DomainСерии:
Русская классика (АСТ)Книги этой серии:
- Анна Ярославна – королева Франции
- Спутники
- Письма русского путешественника
- Среди мифов и рифов
- Мать
- Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина
- Что делать?
- Деньги для Марии. Последний срок. Рассказы (сборник)
- Баня. Клоп (сборник)
- Туманность Андромеды. Звездные корабли (сборник)
- Страна негодяев (сборник)
- Кому на Руси жить хорошо (сборник)
- Стихи и песни
- Ловец человеков (сборник)
- Записки из подполья (сборник)
- Не стреляйте в белых лебедей (сборник)
- А зори здесь тихие… (сборник)
- Петербургские повести (сборник)
- Недоросль (сборник)
- Гоголь в жизни
- «По мостовой моей души изъезженной…»
- Хождение по мукам
- Дневник Сатаны (сборник)
- Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие… (сборник)
- Немногие для вечности живут… (сборник)
- Живи и помни (сборник)
- Морские рассказы (сборник)
- Белый пароход (сборник)
- Мертвым не больно
- Где-то гремит война
- Стихотворения
- По Уссурийскому краю. Дерсу Узала
- Светлая личность
- Прощай, Гульсары!
- Былое и думы. Детская и университет. Тюрьма и ссылка
- Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля
- Луч света в темном царстве
- Без дороги. В тупике
- Кащеева цепь
- Средь шумного бала…
- Зубр
- Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды
- Когда падают горы
- Красная звезда. Инженер Мэнни
Метки:
великие поэты, лирическая поэзия, политическая сатира, сборники стихотворений, советская классика