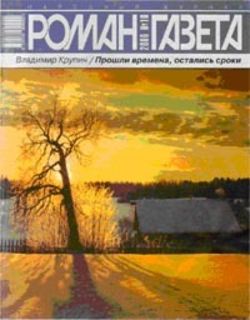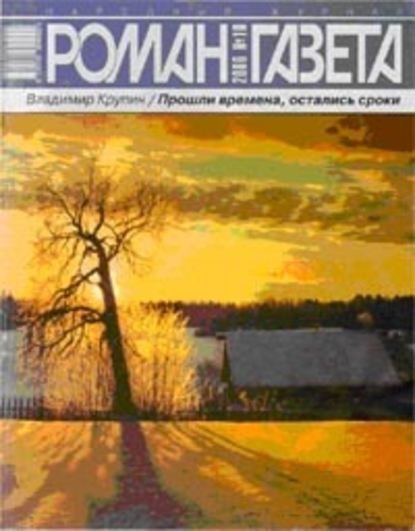Лодка надежды
У рыбацких лодок нежные имена: Лена, Светлана, Ольга, Вера... Я шел с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе "Надежда" и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.
– Сплюнь! – велел старший рыбак.
Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.
Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.
Рыбак, тяжело ступая бахилами, подошел и сел. Помолчал.
Прожектор заката вел нас на своем острие.
– Надежда! – сказал рыбак. – На этой "Надежде" нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдем.
От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.
– А ты ничего, – одобрил он. – Выбирать пойдешь?
– Пойду.
И вот, хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликал беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.
Лодку швыряло, как котенка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.
Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы все-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрапывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:
– Как?
Я показал ладони.
– Заживет!
Я согласился, но все равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся.
– Жена моя – Надя. Каприз ее был. Назови, говорит, лодку, как меня, тогда выйду.
– Хорошая?
– Лодка? Сам видел.
– Жена!
– Об чем речь. Сейчас с ума сходит.
Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:
– Хочешь, надежду покажу?
– Да.
Я подумал, что в поселке он покажет свою жену Надежду.
– Вот! – Он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.
Где-то далеко
Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды – жуткий случай! – заблудился.
Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.
Я проснулся: темень темная. Мне понадобилось выйти. Пополз, пятясь, но уперся в загородку. Пополз вбок – стена, в другой бок – решетка. Вперед – стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.
Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.
Все уходит, все уходит, но где-то далеко-далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатей ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживет еще долго-долго.
Морская свинка
Я ходил в лаптях. Пишу об этом и безо всякой гордости, и безо всякой грусти. Помню лучину, деревянную борону, веревочную упряжь, глиняные толстые стаканы, морскую свинку, таскавшую билетики с предсказанием судьбы... Я много жил. Я помню средневековье.
В воспоминаниях, даже в небольших по времени, прочтется прогресс. Толстой дожил до синематографа. Я тоже до чего-нибудь доживу. Тут можно ехидно улыбнуться. Но вопрос как читать.
Да, о свинке. Она вытащила мне бумажку с записью моей судьбы, но не успел я вчитаться в нее, как билетик отобрали: желающих узнать свою судьбу было больше, чем судеб.
Амулет
В то время я еще не учился. У нас жила девочка, бессловесная удмуртка. Она жила зиму или две, ходила в школу. Тогда мало было школ по деревням.
Питалась она очень бедно, почти одной картошкой. Мыла две-три картофелины и закатывала в протопленную печь. Они скоро испекались, но не как в костре, не обугливались, а розовели... Излом был нежно-серебристым, как горячий иней.
Я однажды дал ей кусок хлеба. Она испугалась и не съела хлеб, а отдала нищему.
Мама жалела девочку-удмуртку:
– Как же бедно-то живут.
– А хлеб не взяла.
– Не возьмет, не нашей веры.
– А какой?
– Да я толком-то и не знаю. У нас на икону крестятся, а они в рощу ходят, молятся, келеметище.
– А какая у меня вера?
– Ты православный, мирской.
Помню, как приходит мать удмуртки. Как извиняется, что стучат задубеневшие лапти, как они сидят в темноте, в языческих отблесках огня из-под плиты. Не зная их языка, я догадываюсь, что дочь рассказывает обо мне. Утром мать удмуртки украдкой дает мне, как очень важное, темного от времени деревянного идола, амулет их религии. Религии, непонятной мне, но отметившей меня своим знаком за кусок хлеба для голодной их дочери.
Днем, когда я, набегавшись по морозу, греюсь на полатях, солнце золотит желтую клеенку стола, удмуртка сидит за столом и учит "У лукоморья дуб зеленый...".
Я быстрее ее запоминаю стих и поправляю ее, а она смеется и дает мне большую теплую картофелину.
Гречиха
Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.
Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, истертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.
И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.
Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем темном лесу.
В заливных лугах
Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озера.
Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озера весь день похожи на спокойный пожар.
Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в свое отражение. И на воде еще долго живут. Озера лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.
Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слезы, покачиваются, касаясь друг друга.
Постепенно вода оседает, озера уходят в подземные реки. И как будто лепестки вместе с ними.
Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, дает эта вода жизнь всему сущему, всему живому.
Только мертвым не нужна вода. Поэтому место для них выбирают на взгорьях.
Передаю
Я шел быстро, но не с такой скоростью, чтобы проскочить мимо, когда он крикнул:
– Думай хоть немного!
Он не ожидал, что я остановлюсь; но обрадовался, что я задержался. Протянул крепкую сухую руку. Бесцветные глаза его выражали просьбу. Я постоял и дернулся, чтобы идти дальше, но он удержал мою руку и виновато улыбнулся.
Я увидел седую щетину на подбородке, худую шею, старый китель с медными пуговицами и, не снимая руки, сказал:
– Я думаю. Как же иначе? Я что, обрызгал вас? (Было мокро.)
Он выпустил мою руку, двою вскинул к козырьку кепки и торжественно объявил:
– Триста пятый полк, Двенадцатая гвардейская! – Сник, уронил руку и добавил: – Сколько полегло...
Я не знал, что ответить, и сказал негромко:
– Ничего. Так уж... Что делать.
Еще помолчал и шагнул было, но он выпрямился и надменно произнес:
– Я не пьян! Фронтовые сто грамм.
Я пожал плечами – мол, я и не говорю, что вы пьяны, – и пошел.
Он догнал меня и торопливо, громко заговорил:
– Живите! Ладно, погибли. Гусеницы в крови! Вы молодые... Если что, мы хоть сейчас. Гвардейцы! Грудью! Живите! Понял? Передай своим.
Я кивнул и зашагал, а он кричал вслед:
– Передай по цепи! Слышишь?! Всем передай!..
Передаю.
Падает звезда...
Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть, такая примета.
Я запрокидывал голову и до слез, не мигая, глядел с Земли на небо.
Одно желание было у меня, для исполнения которого были нужны звезды, – то, чтоб меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.
Когда вспыхивал, сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так быстро, что заученное наизусть желание: "Хочу, чтоб меня любила..." – отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом – сердцем: "Люблю, люблю, люблю!"
Когда упадет моя звезда, то дай Бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постарается погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.
Там, внизу
... Там, внизу, в тесноте узкого мокрого оврага гнули дуги и полозья для саней. Свершалось большое дело: дерево, обтесанное под нужный профиль, сгибалось, чтобы застыть в изгибе.
Заготовки, продолговатые дубовые плашки, распаривали в камере над котлом до потемнения. Они были так горячи, что к гибочному станку их торопливо несли в рукавицах. Один конец закрепляли в станке, другой привязывали к валу. Мужики наваливались на ворот и медленно ходили по кругу, каждый раз нагибаясь под канат.
"Хорош!" – кричал главный. Он скреплял концы лыком. Намертво согнутую дугу или полоз оттаскивали в сторону.
Некоторые заготовки не выдерживали, трескались. Их не выбрасывали. Их бросали в топку под котел.
Катина буква
Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую.
Я написал букву "К".
– Нет, – сказала Катя.
Букву "А". Опять нет.
"Т"? – Нет.
"Я"? – Нет.
Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.
Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?
Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.
– На что она похожа?
– На собачку.
Я нарисовал собачку.
– Такая буква?
– Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку...
– Но разве есть такая буква?
– Есть!
Долго я рисовал Катину букву, но все не угадывал.
Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым.
Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква.
Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет.
Зеркало
Подсела цыганка.
– Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.
Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.
– Дай погадаю.
– Дальнюю дорогу?
– Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.
– Нет денег.
– А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка, выше тебя ростом, тебя заколдовала.
– И казенных нет.
– Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.
– Нет бумажных.
– Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушку, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.
Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.
– Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?
– Врага.
Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше.
Прошли времена, остались сроки
"Прошли времена, остались сроки" – это так бабушка Лиза говорит.
Стала она так говорить, когда заметила, что в ее "годовой" лампаде стало больше масла. То есть не больше масла, а его стало хватать на большее время. Раньше лампаду заправляли на Пасху, и она горела до следующей Пасхи, ровно год. А сейчас масла наливается столько же, а лампада горит до Вознесения, то есть еще больше месяца. Какой отсюда вывод? Отсюда бабушка выводит, что времена сократились, ускорились, все начинает торопиться к концу света.
В этом с бабушкой согласен ее внук Сережа, а также бабушкин "допотопный", как она говорит, знакомый, старенький отец Ростислав. Он уже не служит, живет недалеко и потихоньку, с палочкой, приходит в гости.
Они сидят с бабушкой за многочасовым чаем и вспоминают прошлую жизнь. Сережа сидит тихонько и слушает старичков – и приходит к такой мысли, что раньше жить было тяжело, но хорошо, сейчас жизнь стала легче, но тяжелее. Как так? А вот так.
– Раньше, сестричка, – говорит батюшка, – служишь литургию и не знаешь, дадут ли слуги антихристовы дослужить. Но уж зато и знаешь, что Христос во всех твоих прихожанах, а сейчас служишь-служишь, а потом своих же прихожан на каком-нибудь дьявольском сборище видишь.
– Грех на них, – успокаивает бабушка Лиза. – Уж нам с тобой за землю не надо держаться, нам на небо со страхом взирать.
– Сгорит, сгорит вся земля, – говорит батюшка и с трудом поднимается. – А проводи-ка ты меня, раб Божий Сергий, до обители отца Виктора.
Сережа этому рад-радехонек. Обитель отца Виктора – это большая квартира в большом доме. Но какая бы ни была квартира, она, конечно, мала для семейства батюшки. В ней столько людей, что Сережа не смог их ни разу сосчитать. Даже детей, не говоря о взрослых. Жена отца Виктора, попадья матушка Зоя, называет семейство табором, а отец Ростислав – колхозом.
Отец Ростислав часто останавливается, но на встречные лавочки не садится: потом тяжело вставать. Стоит, одной рукой опирается на палочку, другой медленно сверху вниз проводит по седой легкой бороде. Ласково глядит на Сережу.
– Ты ко мне на могилку приходи. Посиди, помолись. Батюшкой будешь, панихидку отслужишь, а то и так навещай.
– Еще бы! – говорит Сережа.
В доме отца Виктора как в "саду Могоморы". Это выражение матушки Зои. Детей у них уже перевалило за десяток. Все тут есть: и Ваня, и Маша, и Гриша, и Владимир, и Екатерина, и Надежда, и Василий, и Нина... всех не упомнишь. Шум, крик, стычки.
Матушка жалуется отцу Ростиславу, как ей достается.
– Молись, – говорит отец Ростислав. – Большие труды – великая награда.
– Когда мне молиться-то, когда? – восклицает матушка. – Отец Виктор безвыходно в храме или на требах, по старухам ходит, избаловал их, могли бы и в храм приползти.
– Матушка, не греши, не греши! – торопливо перебивает отец Ростислав. – Муж твой, венчанный с тобой, – вельми зело большой труженик. А Богу молиться всегда время и место. Ты ведь небось от плиты не отходишь?
– Цепями прикована!
– И молись! И картошку небось чистишь?
– По ведру!
– Ну вот. Ножиком нажимаешь, картошку повертываешь и говори: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", "Господи, помилуй"...
Тут они, привлеченные ссорой, идут разбираться, в чем дело. Конечно, дети не поделили игрушку.
– Лежит – никому не надо, – говорит старенькая бабушка, мама батюшки. – А как один взял, другому именно ее и надо.
Батюшка Ростислав терпеливо объясняет обступившим его детям:
– Силой, конечно, можно отобрать. Но на всякую силу есть другая сила. На пистолет – ружье, на ружье – автомат, на автомат – пулемет, на пулемет – пушка... Но это не сила, а дурь. А есть сила – всем силам сила. Какая? Это смирение. Хочется тебе поиграть, а ты скрепись, перетерпи, уступи. Смирись. И победишь терпением. Вот сейчас проверим. Нина, ты ссорилась? Из-за какой игрушки? А-а, из-за этой машинки. С кем? Как тебя зовут? Вася? Беритесь, тяните, как тянули. Так. Кто сильнее? Вася. А у кого смирение?
– У Васьки, у Васьки! – кричит Нинка.
– Вот он, женский характер, – говорит отец Ростислав. – Быть тебе, Нина, регентшей.
Передав отцу Виктору поклон, Сережа и отец Ростислав идут на улицу. Сережа обнаруживает у себя в кармане конфету, а отец Ростислав пряник.
Сережа провожает батюшку и возвращается к бабушке Лизе.
Она вяжет ему носочки. Вяжет, нанизывает на спицы бесконечные петельки и шепчет при этом: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", "Господи, помилуй"...
Об авторе
КРУПИН Владимир Николаевич родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь Кировской области. В 15-летнем возрасте закончил школу. Отслужив в ракетных войсках, поступил на литературный факультет Московского облпединститута. Работал редактором на телевидении, в книжном издательстве. В 1974 году выпустил первую книгу "Зёрна", за которую был принят в Союз писателей, после чего ушел на творческую работу. В 1989 году возглавил журнал "Москва". Спустя три года перешел на преподавательскую работу в Московские духовные школы. До распада Союза был секретарем СП СССР, в настоящее время – секретарь Правления Союза писателей России.
Автор повестей "Великорецкая купель", "Живая вода", "Во всю Ивановскую", "Ямщицкая повесть", "Слава Богу за всё", "На днях или раньше" и др. Его последние произведения тесно связаны с жизнью Церкви: "Православная азбука", "Русские святые", "Детский церковный календарь", "Освящение престола", "Ловцы человеков".
Произведения Владимира Крупина неизменно вызывают интерес у читателей. Писатель органично сочетает проблематику "светской" жизни с православной этикой. Его герои – люди ищущие, страдающие, трудно постигающие своё предназначение. Писатель убеждён, что путь к полноценному, гармоничному существованию пролегает через любовь, добро и обретение истинной веры. Каждый из героев приходит к этому своим собственным, порой весьма извилистым и причудливым путём.