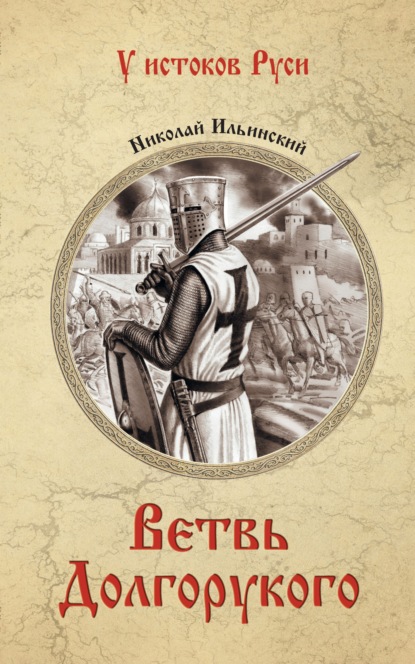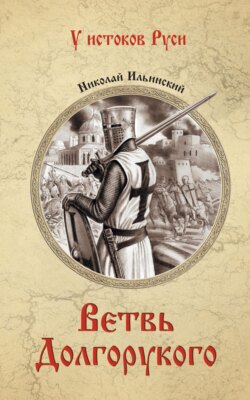
000
ОтложитьЧитал
© Ильинский Н.И., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
Часть первая
Глава 1
К рассвету волны, бушевавшие всю ночь, успокоились, и теперь, уставшие, ласково и лениво плескались за низким бортом утлой лодки, в которой было четверо гребцов. Двое сидели на веслах и медленно гребли, третий стоял на корме и внимательно всматривался в темнеющий крутой берег, а четвертый лежал на дне лодки и беспомощно глядел на розовеющее на востоке небо. Истошно и надоедливо кричали чайки, которые серебристым клубком носились над водой и прибрежной полосой неведомой гребцам земли. Земля эта их и радовала и пугала. Радовала потому, что людям удалось купить на Кипре старое и, вероятно, краденное у местных рыбаков суденышко, с наступлением сумерек быстро отчалить от берега острова, боясь, что рыбаки хватятся и начнут искать краденое, и если найдут – покупателям несдобровать: никто не станет разбираться – купили они лодку или похитили.
Несколько дней и ночей разгневанный Посейдон кидал их суденышко с волны на волну, грозя сбросить ее в пучину, но в какую-то минуту бог моря сжалился над беглецами и не захватил их в свой плен, а пугал путников, словно выраставший из воды, берег неизвестностью, тем, что их там ждет. Хотя крестоносцев давно уже не было, земля не содрогалась от битв и не рдела от крови так густо, как было прежде, однако на ней продолжали властвовать многочисленные шайки разбойников – и мусульман и христиан, и язычников, и многих других верований и племен, густо населявших Палестину.
Лодка медленно пошла к песчаной отмели, которая на несколько метров отделяла море от крутого берега. Под дном зашуршала галька, и человек, стоявший на корме, нетерпеливо и даже как-то нервно махнул рукой, первым шагнул по колено в воду и вышел на землю. Это был грек Пантэрас.
– Нам сопутствует удача! Одиссей вернулся в родные края! – радостно воскликнул он, ударив себя в грудь кулаком и подняв вверх широко расставленные руки, будто пытался обнять с благодарностью неизвестную землю. – Вот она, долгожданная!..
– А где же твоя Пенелопа? – насмешливо спросил латинянин Десимус, оттолкнул от себя надоевшее весло, встал и, перешагнув борт, поставил в воду обутые в сокки[1] ноги. – Только Пенелопы нам теперь и не хватает.
Но Пантэрас не обратил внимания на шутку Десимуса, а сделав серьезным лицо и сложив у груди ладони, стал медленно и протяжно читать молитву:
– Патер имон[2] о ен тис Уранис[3]! Агностито то Ономо[4], эльтато и василиа су[5], тенистито то гелима су[6], ое ен Урано ке Эпигас[7].
Пантэрас, как и тысячи других европейцев, чья жизнь сложилась не так гладко, как хотелось бы, решивший найти и поймать птицу счастья вдали от родной Эллады. Если нет такой птицы в Афинах или Салониках, почему бы ей не быть на Земле обетованной?
Вслед за греком на сушу, отряхнув с ног воду, выбрался Десимус, актер, которому наскучили роли на подмостках театров Рима, возмечтал сыграть, может быть, самую главную роль в стране, отвоеванной крестоносцами у магометан. Десимус был невысокий, в отличие от Пантэоаса, щупловатый, с бородой, завитой в локоны, в пышном парике, как и полагалось у артистов Рима. На сцене они старались быть высокими, поэтому кроме париков на ноги они надевали еще громоздкие деревянные подставки высокой до 20 сантиметров, так называемые котурны, кстати, перенятые у артистов Греции. А вне сцены римские чудодеи любили ходить в сокках. Латинянин сделал театральную позу, поднял правую руку, но не стал читать молитву, а звонким голосом запел нечто из сыгранных им прежде пьес:
– Легат! Я получил приказ войти с когортой в Рим, по морю к Порту Итию, а там – путем сухим! – И довольный Десимус залился торжествующим смехом. Встав в позу военачальника, Помпея или Цезаря, он сделал лицо серьезным, указал рукой на землю, топнул ногой и произнес: – И вот я здесь!
Полный восторга и чувства победы он продолжал свою речь:
Там, в этом Древнем Риме, все от любви пьяны:
и юные гетеры, и почтенные матроны,
и всем легионерам уже не до войны!
Бои ведутся ближние и в них доспехи лишние,
Не злобствуют Нероны и напрочь замолчали Цицероны,
такая тишь, такая гладь,
патриции рабов уже заставят помолчать,
у всех в сердцах любовь!
И латинянин вновь громко, с сарказмом рассмеялся.
Не захотел отставать от латинянина и грек. Его тоже переполняла радость: во-первых, оттого, что все-таки удалось убежать с Кипра, где, казалось, бандит на бандите сидит и бандитом погоняет, а во-вторых, он наконец-то исполнил мечту – добрался до страны, о которой так много размышлял, ночей не досыпая, все думал, думал, как попасть на Святую землю, не как все авантюристы, жаждавшие легкой наживы в чужих краях, а хотел попасть в страну, где крестоносцы совершали, по его мнению, подвиги, сравнимые с подвигами Геракла. Увидеть еще невиданное, узнать новое, услышать еще неслыханное. Его интересовали и философия, и история, и география, и народы, которые жили далеко за пределами его любимой Эллады. И Пантэрас тоже, но не так театрально, как Десимус, для этого он не обладал даром артиста, однако на свой лад хрипловато, не очень складно запел:
– Ты не мучай циклопа, моряк Одиссей!
Торопись лучше к женщине верной своей,
Как умеет она третий год развлекает гостей.
Но тебе, Одиссей, что по лбу, что в лоб.
Мало ли, что ли на свете других Пенелоп!
И плевал на богов ты с высокой кормы,
Вся команда потонет— тебе хоть бы хны
Ты привык к этой хохме во время Троянской войны.
Ты не мучай циклопа, моряк Одиссей!..
Он хорошо знал свою страну, свой народ, предания, традиции, обычаи. Несмотря на то, что средневековая Европа, позабыв набедренные повязки, гиматии, хитоны и прочее, уже носила штаны, короткие куртки, модные шляпы, он имел на голове старинный пилосом[8], на ногах были короткие сапожки с отогнутыми, как гребешки у петушков, голенищами. Ну и борода как главное мужское достоинство!
Пока грек и римлянин состязались в излиянии эмоций и пении, Олекса с трудом поднимал своего отца Белояра, которому в лодке стало совсем плохо. Отец уже, будучи на Кипре, почувствовал слабость во всем теле, а в лодке во время сильной качки у него закружилась голова, он лег на днище и уже без помощи сына не мог встать.
– Недюжится мне, Олекса, – прошептал отец, беспомощно повисая на руках сына. – Умру я на чужбине… И рядом с матерью меня не похоронишь, – тихо, жалобно произнес он. – Господи, за что караешь?!
Увидев, что Олекса с трудом удерживает на руках отца, Десимус и Пантэрас бросились к нему на помощь, вынесли Белояра из лодки и уложили на теплом мягком песке, намытом морскими приливами.
– Плохо? – глянул грек на Олексу.
– Да уж и не знаю что делать, – покачал тот головой.
– Кирие элейсон![9] – отбросив шутки в сторону, испуганно перекрестился Пантэрас.
– Домине, кустади ет серва![10] – тоже серьезно, с состраданием глядя на заболевшего Белояра, произнес Десимус, перекрестился, сложив, как принято у латинян, два пальца, и посоветовал: – Надо скорее, немедленно подниматься… туда… наверх. – Он обвел глазами кромку высоко поднимающегося над морем берега. – Там, может быть, есть близко селение… Должно быть! Люди помогут ему… Как его? – кивнул он в сторону больного.
– Белояр, – подсказал Олекса.
– Белольярву, – кивнул Десимус и многозначительно заметил: – У вас, у скифов, трудно произносимые, смешные имена…
– У руссов, а не скифов, – с ноткой обиды в голосе ответил Олекса. – Мы – русские, Десимус!.. Киев! Слышал?
– Киев! О да! – вместо Десимуса закивал головой Пантэрас. – Ваш конязя Вольдемар в нашем Синопе крестился…
– Крестился… И мы все крестились потом. – Олекса подхватил на плечо сильно исхудавшего в далекой нелегкой дороге отца.
– Так захотел наш император – святой Василий, – с достоинством в голосе подсказал Пантэрас.
– Ну… про святость Василия… ты уж лучше молчал бы, Пантэрас, – под тяжестью тела отца прерывистым голосом ответил Олекса. – Тысячи пленных болгар ослепить… ты это считаешь… святостью? Не напрасно же его называют император-болгаробойца!..
– Болгары сами виноваты, – сухо сказал грек и, откашлявшись, добавил: – На Константинополь не иди с мечом! – Немного помолчав, Пантэрас метнул на Олексу косой взгляд и не без ехидства в голосе сказал: – А ваш конязя Вольдемар не погребовал взять в жены сестру Василия… А-а?
– Ага-а! Анна была еще и сестрой Константина… Вот так! Мы кое-что знаем…
– Так ты… Киев? – не совсем дружелюбно покосился на ходу Пантэрас на Олексу.
– Да… нет, – еле переводя дыхание под ношей тела отца и хватая широко открытым ртом воздух, ответил Олекса и стал объяснять: – Я… я и отец… мы из Новгорода-Северского… На Руси такой город есть… Слыхал? Нет! Ну и не надо…
К этому времени солнце уже поднялось высоко. Ему было весело в голубом и чистом просторе небес, и оно играло, танцевало на невысоких волнах, щедро рассыпая по ним золотые плитки по всему видимому горизонту моря. Даже все еще ошалело кружащиеся в воздухе чайки перестали так громко кричать, как на рассвете, радуясь, как и люди, утренней красоте наступившего весеннего дня. Шел апрель 1173 года от Рождества Христова.
Путники недолго брели по прибрежной отмели. По неизвестно кем проторенной тропинке они, тоже крайне обессиленные и голодные, поднялись наверх. Перед ними расстилалась холмистая местность, тонувшая в колеблющемся, синеватом мареве, в глубине которого, где-то там, далеко-далеко, темнели невысокие горы. Под ногами гнулась примятая к земле зеленая травка, там-сям виднелись кустарники, и только всего лишь два высоких, особенно по сравнению с кустарниками, дерева стояли поодаль и магнитом притягивали к себе путников. С трудом, еле передвигаясь, люди добрались до деревьев. Это были два дуба – старый, судя по его замшелому стволу и корявым ветвям с ржавой местами листвой, и молодой, с гибкими ветвями и свежими листочками. Рядом с дубками находилось каменное сооружение – камни как камни, но явно сложенные не природой, а разумными существами. В тени старого дуба Олекса положил на землю стонавшего отца, и сам сел рядом с ним, вытирая ладонью вспотевший лоб и глаза, которые застилали капельки соленого пота. Сохло во рту, очень хотелось пить. Пресной воды, которой они запаслись, готовясь к отплытию с Кипра, давно уже не было. Пантэрас обошел вокруг деревьев и каменного сооружения, внимательно все это осмотрел, а камни даже ощупал пальцами.
– Мамре, – сказал он, кивнув в сторону старого дуба.
Не все поняли ни смысл сказанного им слова, ни намека на кивок на дерево.
– Мамре – дуб или дубрава, у которой к Аврааму явился Господь в виде трех странников, – тоном учителя объяснял Пантэрас. – Поэтому дубы в Палестине – деревья священные!.. И это место, должно быть, святилище. Вот камни… люди их не просто так сложили.
Он еще раз оглядел снизу вверх большой дуб, указательным пальцем попробовал отодрать от ствола кусочек бугристой, порыжевшей от времени коры – не получилось, и заметил:
– Это ветхий старик! Сколько лет у него на веку? Он все помнит! Слышите, – поднял Пантэрас палец вверх, прислушиваясь к шелесту листвы дерева, – он шепчет молодому о былом? Его ветви до сих пор содрогаются от гула копыт конницы Танкреда, славного крестоносца, который первым ворвался в Иерусалим.
Помолчали. Олексе и его отцу было не до истории и какого-то Танкреда, о котором они впервые слышали.
За крутым берегом вздохнуло море, и легкий, освежающий бриз коснулся лиц путников. И Пантэрас, уловив дыхание водной стихии, многозначительно поднял вверх указательный палец и с видом философа сказал:
– Ветер времени несет память всех веков и народов, от него ничего не скрыть!
Десимус с явным интересом слушал Пантэраса, вытирая ладонями потную шею и не сводя глаз с рассказчика. Но Олекса плохо или совсем не понимал грека. С детства весьма любопытный и склонный разбираться в других, ранее незнакомых, говорах, диалектах и даже языках, он даже не хотел вникать в то, о чем с таким жаром говорил Пантэрас. Олекса уложил в тени деревьев отца, сунув под голову ему сумку, которую носил на веревочке через плечо, со страхом всматривался в исхудавшее лицо умирающего Белояра и рукой отгонял от его впалых бледных щек надоедливых мух и других жужжащих насекомых. Остаться одному в далекой, неизведанной, чаще враждебной, чем дружелюбной, стране, среди чужих людей – это больше всего пугало Олексу.
– А вон и хозяева этой земли. – Пантэрас рукой указал на небольшой оазис кустарников, среди которых виднелось несколько хижин с покатыми крышами, и на толпившихся людей у одной из хижин. – Пойдемте к ним, небось живьем они есть нас не станут, а после того зарежут и освежуют, мне страшно уже не будет, а даже приятно, что и я пригодился для их праздничного стола… Поднимай, Олекса, отца…
Очевидно, люди были взволнованы, увидев чужаков на месте обитания их божества, и теперь судили-рядили, как поступать дальше? Хотя они и жили в государстве, называемом Иерусалимским королевством, и был свой король – Амальрик дʼАнжу, или, как его называли, Амори I, а чаще еще проще – Амори, и сборщики податей, грозные и безжалостные, приезжали регулярно и хватали все, что попадалось им под руки, но о защите простых людей от многозначительных разбойных шаек, наводнивших Палестину после прихода крестоносцев, молчали, словно воды в рот набрали. Поэтому местные жители вначале были настроены враждебно к незнакомцам, но, видя, что они без оружия, да еще и с больным человеком на плече одного из троих, закивали головами и даже заулыбались, показывая выщербленные желтые зубы на заросших щетиной лицах. Из-за угла хижины хрипло залаяла собака, но один из жильцов крикнул что-то в ее сторону, и пес замолчал. Прибежала ватага босых, полуголых детишек, которые, разинув рты и вытирая кулаками сопли, со страхом и любопытством уставились на пришельцев. Женских лиц Десимус так и не смог увидеть, их пришельцам просто не показывали, а возможно, здесь существовал такой обычай: где собрались мужчины, там женщинам делать нечего. Первым с аборигенами заговорил Пантэрас.
– У нас вот… беда… больной, – указал он рукой на Белояра.
И люди это живо поняли: двое мужчин подошли к Олексе и помогли ему уложить отца на подстилку, стеганную из тряпок не первой свежести. Но это было уже хорошо. Затем вынесли из хижины, сложенной из камня, глиняный сосуд с жидкостью, жестами и громкими дружными голосами, перебивая друг друга, принялись показывать, что жидкость эту больной должен пить.
– Мели?! – вдруг воскликнул удивленный Пантэрас и повторил: – Мели?! – В шумных, нестройных голосах местных жителей он уловил нечто знакомое, близкое. – Мели – это мед… Мед!.. Пусть пьет, – обратился он к Олексе. – Наш великий врач Гиппократ говорил: хочешь быть молодым и здоровым – ешь мед! А Гиппократу можно верить! – не без гордости заявил Пантэрас. – Так что лечи своего скифа, Олекса…
– Русского!..
– Все равно, лишь бы ты поставил его на ноги, ведь нам столько еще пигено… ну, идти по-твоему… к Гробу Господню!
Пантэрас всегда прислушивался к словам Олексы и иногда запоминал русские слова и их значение.
– Много верста! – махнул рукой Пантэрас на подернутый сизой дымкой холмистый горизонт и добавил с сожалением в голосе: – Совсем много….
Олекса несколько судорожно, осторожно нагибая сосуд стал буквально капать жидкость на губы отца. Белояр открыл глаза и стал облизываться, ему это явно нравилось.
– Господи! Да помоги нам, – не то говорил, не то стонал Олекса и сам кончиком языка коснулся края сосуда. – И верно… мед, но только не такой, как наш…
Десимус подставил палец под капли и помазал свои губы.
– И то и не то, – покачал он головой, глядя на Пантэраса.
– Еще бы, – развел руками грек и стал объяснять: – Палестина – это не острова Родос и Крит, где лучшие в мире цветы, лучшие на свете пчелы и вкуснейший мед… Да, кирио, то есть господа!.. Там не мед, а пища богов! Амброзио, куда входит греческий мед! В старину на Олимпийских играх спортсмены ели только мед! А здесь мед готовят не пчелы… Здесь мед – это финиковый сок!
– Как?! – с ноткой разочарования одновременно воскликнули Олекса и Десимус.
– А вот так, – развел руками Пантэрас. – Но не это самое главное, друзья, – вдруг переменил он тему разговора и кивнул в сторону оборванных жителей селения. – Они мои родственники! Да, да, не удивляйтесь! По их говору я понял, что это все, что осталось от филистимлян, древнего морского народа, как называли филистимлян с незапамятных времен египтяне… Это заблудившееся когда-то в морских просторах эгейское племя… Не знаю, но, может, оно попало сюда после Троянской войны, может, их праотцы видели пылающую Трою, ее погибающего царя Приама, бесстрашного Ахиллеса, спасшегося Энея? Не знаю, помогали ли эгейцы ахейцам, как мои ионийцы, вернуть домой похищенную, а, честно говоря, сбежавшую от мужа, хотя и царя, но беспомощного старика Менелая, прекрасную, но ветреную Елену с молодым, сильным и красивым Парисом. Но то, что Елена и Парис были в Палестине, в Сидоне, это достоверно известно от самого Гомера. Может, и эгейцы после разрушения Трои возвращались домой с Одиссеем, да по воле разгневанного Посейдона разошлись в море? Так вот, Десимус и Олекса, мои родовые корни не от эгейцев, а от ионийцев, но все равно и эгейские племена – древние греки! Отважные люди! Еврейский царь Давид с большой охотой брал в свое ополчение филистимлян, платя им золотом и серебром… Голиаф – филистимлянин, грек! – с неподдельным пафосом закончил свой экскурс в историю Пантэрас и, довольный, как Сократ или Платон, закончившие свою речь перед учениками, отошел к жителям поселения и стал немыслимым образом объясняться с ними.
Олекса больше хлопотал возле отца. Глотнув несколько капель меда и лежа в тени, Белояр несколько притих, перестал стонать, дыхание стало ровным, и Олекса стал даже верить в чудодейственную силу палестинского меда. Как глубоко верующий человек он связывал эту силу с тем, что все это было на Святой земле, недалеко от Иерусалима, куда они решили добраться из далекого русского города Новгорода-Северского, чтобы поклониться, как многие русские паломники, Гробу Господнему. Мысль эта возникла после неожиданной смерти матери Олексы, Агриппины. Скончалась она на руках Белояра, который очень любил жену. В последнее мгновение Агриппина, широко открыв карие глаза, полные света, отражавшего испуг и прощание, еле слышно прошептала одно лишь слово: «Помолись…» Кому помолиться? Естественно же, Богу! И после кончины жены Белояр молился и дома, кланяясь иконам в святом углу, и в церкви – все храмы в городе обошел по несколько раз, и в конце концов пришел к выводу, что главную молитву он должен прочесть на Святой земле. Жил Белояр не слишком богато, но и не бедно. Посоветовавшись с сыном, он решили отправиться в Иерусалим.
– Ведь многие ходят туда и благополучно возвращаются, – сказал отец.
– А мы что – слабее других? – ответил сын.
– Господь нам поможет, – перекрестился Белояр.
И они стали готовиться в дорогу: продали. что могли, даже лодки на Десне, снасти. Белояр был заядлым рыбаком, даже успешно торговал пойманной рыбой, приучал к этому Олексу. И сын чувствовал себя на воде заправским моряком, а в воде не хуже самой рыбы. И еще у них была тайна, которую ни отец, ни сын ни при каких обстоятельствах не могли вынести за пределы стен своего дома. Это была игра в шахматы. Играть в них уже давно научил Белояра проезжий итальянский купец. Игра эта считалась дьявольской, и Церковь наказывала за нее очень строго: какая-нибудь из многих эпитимия была незначительным наказанием, самое страшное для христианина было отлучение от Церкви. Однако в последнюю ночь перед уходом из Новгорода-Северского Олекса предложил отцу.
– Сыграем, отец…
– А чего же, сегодня нас никто не застукает.
Думали сыграть одну партию, однако всю ночь просидели за шахматной доской.
Скопив денег, весенним теплым утром они ушли из дома, который не решились продать, а оставили на попечение доброму соседу Нефеду Силичу, который поцеловал крест, что не допустит разрешения добротного деревянного дома.
– Помолитесь Гробу Господнему и за меня, – только и попросил Нефед Силич.
По дороге в Киев они пристали к группе паломников, направлявшихся в Святые места, и им открылся далекий, трудный, полный неожиданностей и опасностей путь. Шли дни, недели, месяцы и вот она – долгожданная, заветная земля Палестины. Но надо же так случиться: хворь вошла в тело Белояра, и он в конце пути стал слабеть. Он, лежа на земле, слышал незнакомые голоса, открыв глаза, видел почти безоблачное небо. Оно было такое же большое и спокойное, как и над Новгородом-Северским в майские теплые дни. И ласточки вились над ним и что-то щебетали, однако силы вытекали из него не тонким ручейком, как еще несколько дней, а настоящим половодьем, какое бывает на Десне с приходом весны. И тепло шло к нему только от руки сына, который со слезами на глазах держал и целовал его исхудавшую бледную с голубым разветвлением кровеносных сосудов ладонь.
Уставший Десимус больше находился рядом с Олексой у больного. Зато Пантэрас вел оживленную беседу с местными жителями, которые вдруг почувствовали в нем доброго человека и почти родственника. Что-то было знакомое в их и его языках. А там, где не хватало слов, в дело шли жесты и мимика.
– Поли[11], поли, – почти кричал грек, – где поли? – И показывал рукой то на север, то на юг.
– Поли, поли, – в свою очередь тараторили жители и смотрели друг на друга и на север.
– Я спрашиваю их, где находится ближайший город, – повернул вспотевшее от напряжения лицо Пантэрас к Десимусу и Олексе, а потом вновь обратился к поселянам: – Какой поли – Яффа, Сидон?
– Сидон, Сидон! – громко и дружно, даже с нескрываемой радостью, загалдели и также разом, все вместе, замахали руками на север от поселка.
– Понятно, – твердо решил довольный Пантэрас, словно учитель, который добился все-таки верного ответа у нерадивых учеников, и повторил: – Понятно… Стало быть, мы идем на юг, к городам Тиру, Акре, Назарету… Ну, словом, к Иерусалиму, – вздохнул он и тыльной стороной ладони вытер пот, блестевший на загорелом с тонкими и еще не глубокими морщинками лбу.
Найдя нечто общее в слове «Сидон», жители поселения повеселели, удивились. Вынесли из хижин всякую пищу и, прежде всего, кашу в глиняных горшочках.
– О, гранеа[12]! – загорелись глаза у Десимуса. – О, как я соскучился по тебе, пулс[13]! – В театральной позе стал он расшаркиваться перед сосудом, словно это был перед ним не горшок, а уважаемый, достопочтенный сеньор. – Люблю пулс, – откровенно признался Десимус, – как каждый римлянин люблю… Недаром наш незабвенный Плавт[14] называл римлян кашеедами!.. И легионы Цезаря[15] ели кашу, и мы, артисты Рима! Каша из полбы на воде или на молоке – пища самого Юпитера, особенно если ex titlico et lacle puls![16] Потому-то у него и фигура – ух! И все из-за каши… Конечно, чаще кашу мы, артисты, а артист, естественно, не Цезарь, готовили на воде. И теперь она сварена по всем признакам… Но и на том спасибо аборигенам! Стало быть, устроим славный прандиум[17]…
И он первым, сняв с головы валик, удерживавший парик, и отбросив в сторону изношенный палий[18], под улыбки весьма довольных жильцов присел к горшку. Оказывается, пришельцы не разбойники, а добрые люди, паломники в Святые места. Уплетая кашу, Десимус не уставал говорить.
– Надо признать, что это, – кивнул он на горшок, – не ветчина и не жареная курица, но… Кстати, Пантэрас, в Афинах сколько стоит ветчина?
– Не помню, – пожал плечами грек.
– А в Риме двадцать девять динариев… Курица – тридцать, фазан – двести пятьдесят, но фазана я никогда не покупал, карман артиста для этой птицы слишком неудобен… Если бы я художником был, я зарабатывал бы, ну, скажем, сто пятьдесят динариев… Артисту в Риме такую кучу денег не наскрести… А каша хороша, вкусная!
– Особенно на голодный желудок, – добавил Пантэрас.
– А если бы сюда добавить оливкового масла… У-у! – поднял глаза к небу Десимус и зачмокал губами. – В Риме оливковое масло стоит сорок динариев… Немало! Но оно стоит того…
– Земмер! Земмер! – повторяли палестинцы, указывая на кашу в горшке…
– Земмером они называют полбу, – пояснил грек Олексе и Десимусу значение незнакомого слова. – У них я видел старый плуг под стеной хижины, он с воронкой для сева дикой пшеницы, этой вот полбы… Это же надо! Такими плугами в Палестине пахали еще со времен царя Саула!
Ел Пантэрас мало, больше продолжал лопотать с гостеприимными хозяевами. Вначале они общались весело, но потом вдруг зазвучали суровые голоса. Люди размахивали руками, указывали на дороги, ведущие к поселению. Позже грек поведал своим путникам, что жители с тревогой и страхом заговорили и о них, чужаках, и о себе. Дело в том, что очень часто к ним наведываются кочующие по Палестине группы разбойников и грабителей. Сами они постоять за себе еще могут, а вот добрых пришельцев им жаль: разбойники могут их схватить, превратить в рабов и продать кому угодно.
– Поэтому нам надо поскорее уходить отсюда, – сказал Пантэрас и добавил: – И как можно подальше от поселения… Иначе мы и им, – глянул он в сторону жителей, – хлопот добавим… А мы найдем укромное местечко и скроемся на ночь…
– Не знаю, выдержит ли отец, – пожаловался Олекса и поднял на руки Белояра.
– Господи, спаси и сохрани раба Божия, – сложив на груди ладони, прошептал Десимус, потом сухо сказал Олексе: – Dura lex, sed lex[19].
Он повелевает нам двигаться…
Сгрудившись в темную кучку, жители долго смотрели и махали руками во след уходившим паломникам. Местечко Пантэрас нашел среди густых кустарников, хорошее, уютное. Десимус расстелил на пожухлой травке свой плащ, и на него уложили Белояра, к губам которого Олекса вновь приложил клювик сосуда с медом, но больной слабо среагировал на напиток. Спустя некоторое время он попросил пить. Пантэрас налил воды в керамическую чашечку, которую всегда носил с собой, поднес ко рту больного, но вода лишь потекла по сжатым губам.
– Наказал меня Господь, – еле слышно прошептал он сыну. – Зря я в шахматы играл…
Через несколько минут Белояр тихо скончался. Олекса не заголосил, как было принято на Руси, а только рукавом кафтана долго вытирал обильно льющиеся слезы. Потом он руками разгребал землю, до крови обрывая ногти на пальцах. Похоронил он отца недалеко от стоянки, тоже в густых кустах, соорудив из толстых ветвей куста крест, который глубоко воткнул в изголовье могилы.
– Упокой, Господи, раба твоего Белояра, – крестился и шептал молитву Олекса, – прости ему прегрешения вольные и невольные…
– Кирие элейсон на том свете уруса, – тоже, крестясь, негромко произнес Пантэрас.
– Твой отец, Олекса, твой патресфамилия[20] – святой человек, – он шел поклониться Гробу Господнему… Мой любимый Плавт говорил: тот не погибнет, кто умрет достойно… Белояр ушел из этой жизни достойно! Крепись, друг, крепись и сердцем, и духом…
Немало было сказано слов в утешение. Олекса кивал головой, но плохо вникал в смысл сказанного. Он походил между кустами, потом лег, подложив под голову сумку, закрыл глаза.
– Что тебе оставил отец? – вдруг спросил Пантэрас, отчего Олекса вздрогнул. – Денег оставил?
– Не-ет, – ответил он дрожащим голосом и пошевелил пальцами ног, ибо в подошве его старых, неказистых, рваных башмаков, на которые ни один разбойник не позарится, были спрятаны золотые монеты – немного, но на всякий случай поддержка. – Все истратили, – продолжал Олекса и почесал нос – все вдруг засвербело. «Должно быть, на нервной почве», – подумал он.
– Ну, чему-то же отец учил тебя? – приставал неугомонный Пантэрас.
– А как же! Учил! – почти воскликнул Олекса, привстав и опираясь на локоть. – Учил! – Хотя сам еще никак не мог сообразить, чему же учил его отец. – Учил! – И с радостью сказал: – Рыбачить учил… На Десне!.. Рыбы там!.. А еще молитвам всяким, грамоте, как же!.. Я читать и ловко писать могу… Только по-русски! Ага! Книг много перечитал: и Новый Завет и псалтири, даже патерик монаха Симона… И в шахматы учил играть… Тайно, правда, батюшка нашей церкви говорил, что эта игра от дьявола… А я думаю, не от дьявола, а от умных людей… Интересно ведь!
Тут Олекса вспомнил о деньгах в подошве башмаков.
– А еще, – жалобно начал он, – в Константинополе, где мы несколько дней провели, нас ограбили… Прямо около их монастыря Мамы… Есть там такой монастырь, там русские люди всегда ночуют… Но грабители были из иноземцев, по говору определили…
– Ай, ай, ай! – покачал головой грек. – Надо же!.. Не одних вас ограбили, – сочувственно продолжал он, – редко кого из паломников не грабят… Всех, подчистую! Только вот меня – нет! Грабить нечего, – рассмеялся он, – в дорогу я взял одно – душу… А душу не вынешь из тела… Да еще знания кое-какие, но и они в голове, как их оттуда вытащишь? Зато я ростовщика Исидора надул, – громко, похоже на кудахтанье, рассмеялся Пантэрас, – ушел, не отдав долг… Потерпит шельма!
– Э-э! На свете нет мерзее этой гадости, так сказал о ростовщиках наш Плавт, – включился в разговор Десимус. – Играл я в его пьесах и ростовщиков и других живодеров… Кого я только ни играл в пьесах «Ослы», «Хвастливый воин», «Ларчик», «Эпидио», но самая любимая моя роль – это раб Тиндаром в пьесе «Пленники»… И знаете, почему?
– Нет, – пожал плечами Пантэрас.
– Я и сам не знаю, – в свою очередь рассмеялся Десимиус, держа ладонями набитый кашей из полбы и теперь трясущийся живот. – Видимо, мое происхождение из рабского состояния… Ведь римские артисты – это обычно выходцы из семей вольноотпущенников и рабов… Низкое сословие!.. А играл я и героев, и мошенников, и даже женщин!.. Да! Женщин в артистки не берут! А зря…
– В Греции театры не хуже римских, – заметил Пантэрас, – театры Помпея, Марцелла…
– Да, но у вас артисты на сцену выходят в масках… Дырки для глаз и рта!.. В Риме же зрители могут следить за мимикой актеров – разница большая!
– Почему ты бросил театр? – вдруг резко спросил грек, словно обиделся, что Десимус унизил греческое искусство.
– Откровенно?
– Как позволит твоя совесть…
– В жизни каждому отведено свое место… Я, как и все артисты, лелеял мечту стать primus inter pares[21], но твой, Пантэрас, греческий Зевс не допустил меня на Олимп, на котором сияли звезды трагика Эзопа[22] и комика Росция[23]… Ты знаешь, как играл Эзоп? Нет? Однажды на сцене он так вошел в роль, что по-настоящему убил своего же коллегу, беднягу-актера, который играл раба… Не каждый на такое способен! Поэтому я и решил: если в Риме не могу, то почему бы не испытать счастья и не получить лавровый венок победителя в новых землях, например, в Иерусалимском королевстве… Я слышал, что король Амальрик д`Анжу любит театр… А ты почему покинул свои Афины? Олекса и его отец, понятно: хотят в Иерусалим, а ты, Пантэрас?
- Щит земли русской
- Святополк Окаянный
- Рыбья Кровь и княжна
- Ярослав Мудрый. Русь языческая
- Железный волк
- Князь Святослав
- Мстислав Храбрый
- Заоблачный Царьград
- Дар из глубины веков
- Варяжская сага
- Рерик
- Под маской скомороха
- Ярополк
- На златом престоле
- Гроза Византии (сборник)
- Святая Русь. Княгиня Мария
- Хроники Червонной Руси
- Всей землёй володеть
- Бес, творящий мечту
- Погоня за ветром
- Во дни усобиц
- Ярослав Мудрый. Великий князь
- Повесть о Предславе
- Половецкие войны
- Степной удел Мстислава
- Святая Русь. Полководец Дмитрий
- Мстислав, сын Мономаха
- Волки Дикого поля
- Скифы. Великая Скифия
- Скифы. Исход
- Ветвь Долгорукого
- Призраки Калки
- Ромейская история
- Лихолетье
- Морской царь
- Рюрик. Полёт сокола
- Руны Вещего Олега
- Игорь. Корень Рода