
000
ОтложитьЧитал
Lafcadio Hearn
GHOST STORIES AND STRANGE TALES OF OLD JAPAN
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2017
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2017
* * *
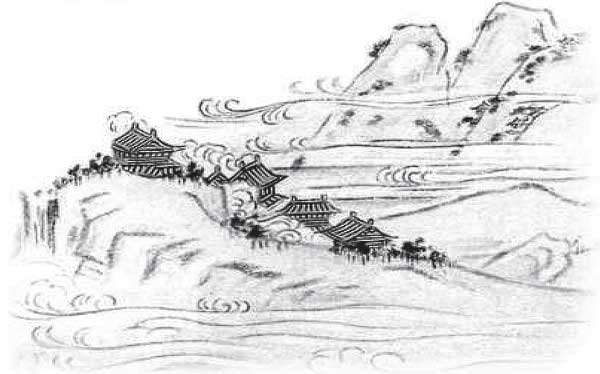
Предисловие
Вскоре после смерти Лафкадио Хирна его вдова, японка, составила список того, что он «любил больше всего на свете». Список получился любопытный и может многое поведать об этом человеке. К примеру, в списке есть закаты, запад, лето, море и купание, банановые деревья, японский кедр, Мартиника, народные песни, кайданы (рассказы о ду́хах), бифштексы, насекомые и заброшенные кладбища. Еще Хирну нравились сливовый пудинг, натопленные комнаты, простодушные люди и Герберт Спенсер[1]. Каталог ненавистных ему вещей оказался бы куда длиннее, но миссис Хирн привела лишь некоторые из них: ложь, притеснение слабых, длиннополые сюртуки, накрахмаленные сорочки и город Нью-Йорк. Опись легко продолжить: он на дух не переносил многие проявления западной цивилизации и прежде всего западный индустриализм – шум, машины, толпу и суету, дым и грязь, жуликов, болтунов и почти всех людей, с которыми ему приходилось поддерживать деловые отношения. Хирн был нелюдимым, своенравным, неугомонным, вспыльчивым, верным в дружбе и болезненно обидчивым. Он не умел ладить с теми, кто не разделял его взглядов, и бо́льшую часть жизни провел в яростной борьбе с препонами и неприятностями, на которые обладатели менее буйного темперамента обращают мало внимания, быстро приучаются терпеть, а со временем и вовсе не замечать. Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет, оставив на земле горстку преданных друзей, гораздо больше заклятых врагов и дюжину книг, навсегда обеспечивших ему достойное место в истории английской литературы.
Хирн, имевший склонность к непредсказуемым поступкам, редко жил по правилам, и судьба этого человека не менее колоритна, чем его личность. Он родился 27 июня 1850 года на острове Святой Мавры[2] у побережья Греции. Его отец был ирландцем, служил врачом в британской армии. О матери – гречанке – говорили, что она отличалась сказочной красотой и мятущимся, неугомонным духом. Лафкадио всегда считал, и, возможно, не без оснований, что все свойства характера он унаследовал именно от нее, а не от отца. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Дублин, родители вскоре поссорились, мать сбежала с кавалером, своим соотечественником, и больше о ней ничего не слышали. Отец, не теряя времени, женился во второй раз, после чего сослал сына к богатой и весьма эксцентричной двоюродной бабушке. Через несколько лет Лафкадио отвезли в Ашоу, деревню в английском графстве Дарем, где определили в католическую школу (по той причине, что двоюродная бабушка, дама с причудами, незадолго до этого обратилась в католичество). В школе новичок быстро прославился успехами на уроках английского и презрением к авторитетам.
Однажды во время игры однокашник раскрутил в воздухе веревку, и ее свободный конец случайно хлестнул Лафкадио по лицу. Травма оказалась настолько серьезной, что он навсегда ослеп на один глаз. Мальчик и без того был близорук, а нагрузка на второй глаз со временем еще сильнее ослабила зрение, так что всю оставшуюся жизнь его преследовал страх полной слепоты.
В семнадцать лет Лафкадио разорвал отношения со своей попечительницей и уехал в Лондон. Там он прожил два года в ужасающей нищете – этот период, видимо, оставил слишком неприятный след в его душе, потому что впоследствии Хирн старался о нем не вспоминать.
Незадолго до двадцатилетия он отправился (или был отправлен) в Америку, в Цинциннати, где кто-то из дальних родственников пообещал обеспечить ему денежное содержание. Но обещание не было выполнено, и бедный молодой человек в городе на берегах Огайо попал в ту же ситуацию, что некогда привела его в лондонские трущобы. Ненадолго он нашел приют в заброшенной котельной на пустыре, потом пожилой соотечественник по имени Генри Уоткин разрешил ему спать на пачках бумаги, сложенных на задворках своей типографии, а позднее Хирн смог позволить себе настоящую роскошь – койку в грязной ночлежке.
В Цинциннати он провел восемь лет, и, вероятно, это было самое важное время в его жизни. Именно там нелюдимый полуслепой бродяга впервые обнаружил в себе способности к литературному творчеству и понял, что благодаря им сумеет заставить окружающий мир обеспечить его средствами к существованию и даже добьется пусть не громкой, но доброй славы. Вскоре после приезда в Америку Хирн взялся за сочинительство. Однажды вечером, преодолев свою нелюбовь к общению, он отнес несколько рукописных страниц редактору местной газеты. Его рассказ опубликовали, и Хирн продолжил сотрудничество с этим изданием. Теперь у него были свои стол и стул в углу редакторского кабинета. За несколько недель он превратился в предмет обстановки: невзрачный парень в потрепанной одежде утром проскальзывал в редакцию незаметно, как тень, и весь день, до темноты, писал, склонившись над листами бумаги, ничего не видя и не слыша вокруг.
Через год Хирн сделался звездой местной журналистики и получил профессиональное признание как лучший репортер в своем жанре. А жанр был необычный. Хирн писал атмосферные отчеты о кровавых событиях, повергавших горожан в ужас. У него лучше, чем у кого-либо из корреспондентов в Цинциннати, получалось удовлетворять страсть публики к жутким подробностям несчастных случаев, убийств и всякого рода проявлений насилия. Одно небывало жестокое убийство с последующим частичным сожжением трупа в заводской печи он описал столь бойко и красочно, что этот криминальный случай прогремел на весь штат. В течение нескольких лет Хирн упорно совершенствовал свой макабрический стиль, но с возрастом, оглядываясь назад и вспоминая трудолюбиво собранную коллекцию ужасов, он стал называть заметки, написанные в те дни, грехами литературной молодости.
В Цинциннати Хирн обрел уверенность в своем таланте, обзавелся добрыми знакомыми среди газетчиков, много читал и писал, а в свободное от работы время вел странную жизнь, о которой даже его малочисленные друзья имели смутное представление. Он без особого почтения относился к правилам приличия западного общества, всегда проявлял интерес к таинственному и необъяснимому, стремился побольше разузнать о диковинных обычаях и легендах других народов. Именно этот интерес спустя двадцать лет стал причиной появления «Кайданов». И в середине 70-х годов XIX века в городке в штате Огайо он тоже не давал Хирну покоя. Репортер заинтересовался жизнью негритянской колонии на берегу реки, начал пропадать по вечерам в тамошних салунах и ночных барах, смотрел и слушал, наблюдал местных жителей за работой и в часы досуга, видел их танцы и перебранки, был очарован их музыкой, песнями и природной, первобытной сексуальностью. Мало кто из респектабельного белого населения Цинциннати мог понять и одобрить подобное увлечение. О Хирне начали болтать, что в личной жизни он заводит связи исключительно с негритянками, а надменный ирландец, презиравший любые условности, даже не потрудился опровергнуть или подтвердить эти слухи. Однако в конце концов неприязнь благопристойного общества, а также любовь к теплу и природе южных широт вынудили Хирна покинуть Цинциннати, и в 1887 году он перебрался в Новый Орлеан.
О формировании Хирна как писателя можно сказать, что годы его ученичества прошли в Цинциннати, а в Новом Орлеане он нашел применение таланту и обретенным навыкам, интеллектуально развивался, оттачивал стиль, и впоследствии результаты этой работы в полной мере отразились в книгах, написанных им в Японии и являющих собой образцы литературы высочайшей пробы. В Новом Орлеане Хирн прожил десять лет. Когда он туда приехал, в городе его никто не знал; когда же он покидал Новый Орлеан, фамилия профессионального журналиста уже прославилась на весь Юг, а сотрудничество с газетами Восточного побережья положило начало его всеамериканской известности. Последние годы в Новом Орлеане, вероятно, стали единственным периодом в биографии Хирна, когда он был абсолютно доволен жизнью дольше нескольких месяцев подряд. В 1881 году его приняли в штат «Таймс демократ», где он попал в круг единомышленников. Хирн стал «специальным корреспондентом», и никто не препятствовал ему удовлетворять свою страсть к таинственному и необъяснимому. Он переводил с французского книги современников и предшественников, писавших об экзотических странах и обычаях; изучал восточную литературу на предмет затейливых историй и легенд – и тоже переводил их, затрачивая уйму времени и сил, чтобы передать на английском языке богатый колорит оригиналов.
В Новом Орлеане Хирн наконец-то обзавелся компанией близких по духу друзей. Кроме того, он терпеть не мог холод, и здесь, гуляя летом по раскаленным солнцем улицам, наслаждался жизнью. Но, как ни парадоксально, именно близость Нового Орлеана к тропикам спустя десять лет стала причиной расставания Хирна с этим городом. Знойные ветра резвились над заливом, рынки пестрели россыпями экзотических фруктов, портовые переулки кишели сошедшими на берег матросами с торговых судов из дальних стран, и Хирн сгорал от желания изведать неизведанное. Он уехал из Нового Орлеана, провел месяц в Нью-Йорке – к этому городу у него навсегда сохранилось величайшее отвращение, – а затем в марте 1887 года отплыл на корабле в Вест-Индию.
Поначалу тропики поразили его и превзошли все ожидания. Письма Хирна с Мартиники переполнены радостью человека, который после долгих поисков обрел то, что долго искал, и теперь уверен в своем безоблачном будущем. Но судьба всегда подбрасывала ему проблемы в самый неподходящий момент. Вот и теперь беда нагрянула, когда он чувствовал себя в полнейшей безопасности. Да и темперамент не позволял неугомонному ирландцу долго оставаться на одном месте в тишине и спокойствии. Он прожил на своем райском острове всего несколько месяцев, когда неприятности вдруг посыпались одна за другой: болезни, побочные эффекты климата, оказавшегося слишком жарким для того, чтобы можно было плодотворно работать, отказ в оплате нескольких статей, отправленных им в редакцию, и навязчивые мысли о том, что издатели постоянно его обманывают. И все же именно на Мартинике Хирн написал свою первую значительную книгу – «Два года во французской Вест-Индии», – публикация которой поспособствовала его растущей славе. Однако финансового успеха она ему не принесла, и Хирн, снова попав в бедственное положение, провел несколько ужасных месяцев в Филадельфии и Нью-Йорке, подрабатывая внештатно в разных печатных изданиях и пытаясь играть роль литературной знаменитости невысокого полета. Гордость и упрямство не позволили ему признать свое поражение и вернуться к налаженной, уютной жизни в редакции новоорлеанской газеты. Что удивительно, предложение приехать в Японию, чтобы написать ряд познавательных очерков в духе тех, что составили его книгу о Мартинике, Хирн поначалу встретил без энтузиазма. Он усомнился в своей способности понять японцев, обладателей куда более сложного менталитета, чем у простодушных детей тропиков, и решил, что понадобятся годы наблюдений и сбора материала, прежде чем ему удастся рассказать читателям о Японии. Кроме того, ведь придется пересечь полмира, чтобы очутиться в совершенно незнакомой стране… Тем не менее зимой 1890 года Хирн отважился на это путешествие. Тогда он считал, что его ждет обычная журналистская командировка на два-три года, не более того. Однако пребывание писателя в Японии затянулось на четырнадцать лет и закончилось лишь с его смертью.
Едва ступив на землю острова, Хирн понял, что останется здесь надолго. Он никогда не отличался благоразумием и вскоре после прибытия ухитрился испортить отношения с редакцией журнала, заказавшего ему серию очерков. Договор был расторгнут, в результате Хирн оказался без средств к существованию в чужой стране, где его никто не знал. При этом мрачные перспективы не помешали ему восторженно заняться исследованием нового, диковинного мира, в который он попал. Месяц спустя Хирн написал Джозефу Танисону, давнему другу из Цинциннати:
«Страна… преисполнена упоительного очарования. В художественном отношении это один огромный музей. В плане общественного устройства и природных условий – воистину «земля фей», сказочное царство. Да и сами японцы с первого взгляда производят впечатление сверхъестественных существ, добрых фей… Их религия мгновенно захватила мое воображение и надолго завладела мыслями. Я с головой ушел в буддизм – совсем не тот буддизм, что описан в книгах. Эта вера проникнута глубочайшей нежностью, она трогательна, наивна и бесконечно прекрасна. Я присоединяюсь к толпе паломников на подступах к великим храмам, звоню в огромные колокола и воскуряю благовония перед улыбающимися богами…»
Все оставшиеся четырнадцать лет жизни Хирн продолжал в буквальном и в переносном смысле воскурять фимиам во славу улыбающихся богов древней Японии. Он быстро понял, что эта страна являет собой широчайшее поле деятельности для человека с его талантами и склонностями. Ведь в центре его интересов всегда находились чужие верования, обычаи и мировоззрения. Писать путевые заметки и научные монографии о политическом устройстве, экономике и истории страны Хирн предоставил другим авторам. Для его цели больше подходил жанр немногословных, но точных зарисовок, изобилующих уникальными деталями, которые можно было неспешно и терпеливо накапливать, чтобы в итоге явить читателю емкую, но четкую и всеобъемлющую картину повседневной жизни людей, мозаику с вкраплениями фольклора, национальной литературы и религии. В Японии Хирн нашел неисчерпаемый кладезь письменных текстов и усердно изучал их до конца своих дней. Его метод познания чужой культуры, особый взгляд на нее и сам стиль повествования не замедлили привлечь внимание читателей. Первая книга Хирна о Японии вышла в 1894 году, через четыре года после его приезда на острова. Она нашла небольшую, зато благодарную аудиторию. И эта аудитория медленно, но верно росла с появлением каждой из одиннадцати книг, опубликованных при жизни автора. И пусть тиражи так и не смогли обеспечить финансовое благополучие Хирну и его семье, он прожил достаточно долго, чтобы принять похвалы от самых взыскательных умов Америки и Британии и увидеть зарождение своей литературной славы, которая уже тогда обещала пережить его на многие годы.
Основные события в жизни Хирна на Японских островах хорошо известны. Через несколько месяцев после прибытия он получил место школьного учителя в провинции Идзумо, и годы, проведенные там, были весьма плодотворными; помимо прочего, он принял окончательное решение навсегда остаться в Японии и женился на юной представительнице старинного самурайского рода. Из Идзумо Хирн перевелся в Высшую школу Кумамото, а спустя еще несколько лет занял должность профессора английской литературы в Токийском императорском университете, где вскоре заслужил репутацию блистательного преподавателя, – бывшие студенты до сих пор вспоминают о нем с благодарностью.
Таким образом, во время пребывания в Японии все свои способности и энергию Хирн посвящал выполнению двух задач. В классах и студенческих аудиториях он старался дать японским ученикам надлежащее представление об истории и традициях английской литературы, привить им любовь к лучшим ее произведениям, а в свободное время часами напролет увлеченно работал над книгами, пытаясь донести до западного читателя строгую красоту японской культуры, которая его завораживала. Вопреки всему – слабому здоровью, постоянной угрозе слепоты, мизерному доходу от изданных книг и несовершенству японской системы школьного образования, лишившей его должности учителя, – Хирн выполнял свою двойную миссию с таким мастерством и самоотдачей, что иначе как подвигом, высшим проявлением человеческого мужества и интеллекта, это нельзя назвать.
«Кайданы» стали предпоследней из написанных Хирном книг и последней опубликованной при его жизни. Эта книга была издана в апреле 1904 года; автор умер пять месяцев спустя, 16 сентября, когда Japan: An Attempt at Interpretation («Япония. Попытка осмысления») еще не вышла из печати.
Хирн начал работать над «Кайданами», прожив в Японии больше десяти лет, – первоначальный бурный восторг к тому времени уже поутих, теперь писатель был ближе знаком с этой страной и лучше понимал ее обитателей. Но богатейший японский фольклор по-прежнему вызывал у него восхищение. Как и в первые месяцы пребывания в Японии, Хирн азартно охотился за диковинными легендами и рассказами о необычных суевериях и с тем же терпением тратил время на то, чтобы перевести свои находки на английский язык со всей возможной точностью. После смерти Хирна его вдова рассказала, сколько усилий он прилагал, стараясь передать на родном языке стиль и атмосферу японских «сказаний о призраках и чудесах», как он просил ее снова и снова разыгрывать сценки из кайданов и ловил каждую ее интонацию, каждое движение, каждый жест. «Увидел бы нас кто-нибудь тогда, решил бы, что мы сумасшедшие», – добавила она.
Читатели этой книги не пожалеют о том, что Лафкадио Хирн проявлял пристальное внимание к деталям и стремился передать дух древних сказаний, ибо в результате он подарил нам собрание кайданов, переведенных с предельной верностью, – другие примеры столь бережного отношения к первоисточникам в английской литературе трудно найти.
Оскар Льюис
Кайданы

Вступление
Большинство собранных здесь кайданов, повествований о жутких и сверхъестественных событиях, заимствованы из старинных японских книг, таких как «Ясо-кидан», «Буккё-хаякка-дзэнсё», «Кокон-тёмонсю», «Тама-сударэ» и «Хяку-моногатари». Некоторые сюжеты могут вести свое происхождение из Китая. К примеру, весьма примечательный «Сон Акиноскэ» определенно взят из китайского источника, однако японский сказитель так преобразил и приукрасил чужеземную историю, что она превратилась в его собственную.
Странный рассказ под названием «Юки-онна» я услышал от одного крестьянина из Тёфу в уезде Ниситамагори провинции Мусаси, и он утверждал, что эту легенду в его родной деревне с давних времен передавали из уст в уста. Не знаю, была ли она в Японии когда-либо записана, однако необычное суеверие, о котором в ней говорится, распространено во многих землях на островах и принимает самые причудливые формы.
История Рики-баки разворачивалась на моих глазах, я описал все в точности, как оно и происходило, изменив лишь фамилию богатой семьи, упомянутую старым дровосеком.
История Миминаси Хоити
Больше семисот лет прошло с тех пор, как в Данноуре – «заливе Дан» – близ Симоносэки состоялась последняя битва в долгой войне между домами Хэйкэ и Гэндзи, каковые еще называют Тайра и Минамото. Мужи из рода Хэйкэ проиграли в той битве всё и сами погибли. Не стало их жен, детей и юного императора, ныне известного под именем Антоку-тэнно, а морем в заливе и тамошним побережьем на семьсот лет завладели призраки. Некогда я уже рассказывал о причудливых крабах, там обитающих, – у каждого на панцире можно различить человеческое лицо. Их так и называют – «крабы Хэйкэ» и говорят, что это духи воинов из павшего дома[3]. Однако на берегах Данноуры можно увидеть и услышать еще немало диковинного. Безлунными ночами у кромки воды расцветают тысячи призрачных огней, и бледные язычки пламени водят на волнах хороводы. Рыбаки называют их они-би, «демоны-огоньки». Когда же поднимается ветер, с моря доносится грозный ропот, словно где-то там еще бушует сражение.

Сейчас-то Хэйкэ немного угомонились, но прежде они никому не давали покоя. Так и норовили потопить лодки, проходившие ночью по заливу, а уж купальщиков поджидали сутками напролет, чтобы утащить на дно. В надежде утихомирить голодных духов местные жители возвели в Акамагасэки[4] буддийский храм – Амидадзи, затем поблизости от храма, у самого берега, устроили кладбище, на котором поставили могильные камни с именами сгинувшего в Данноуре императора и его верных вассалов, и исправно проводили буддийские поминальные службы.
С появлением храма и могильных камней Хэйкэ стали меньше безобразничать, однако время от времени всё же позволяли себе что-нибудь учудить, словно напоминая о том, что их духи так и не нашли окончательного покоя.
Несколько столетий назад жил в Акамагасэки слепой человек по имени Хоити, снискавший славу сказителя и мастера игры на биве[5]. С самого раннего детства овладевал он этими двумя искусствами и в довольно юном возрасте уже превзошел своих наставников. Как о самом одаренном бива-хоси о нем говорили прежде всего те, кто слышал в его исполнении сказание о Хэйкэ и Гэндзи. Эти счастливцы утверждали, что, дескать, когда Хоити поет о битве в Данноуре, «даже чудища-кидзины не могут удержаться от слез».
В начале своего пути к славе Хоити был очень беден, однако ему повезло найти доброго друга и покровителя. Настоятель Амидадзи слыл большим поклонником музыки и поэзии и часто приглашал Хоити в храм, желая послушать его игру на биве и сказания. В конце концов, очарованный талантом юноши, он предложил приютить его в храме, и Хоити с благодарностью принял эту милость. Ему отвели комнатку в храмовой пристройке, а в обмен на еду и кров от него требовалось лишь изредка услаждать слух настоятеля музыкальными представлениями, в остальное же время он мог всецело располагать собой.
Однажды летней ночью настоятеля призвали отслужить буддийскую заупокойную службу в доме умершего прихожанина, и он ушел вместе с помощником, оставив Хоити в храме без присмотра. Ночь выдалась знойная, так что слепой музыкант выбрался из своей комнатушки, уповая на свежий ветерок. Веранда, примыкавшая к его жилищу, выходила в садик на задворках Амидадзи. Хоити, усевшись поджидать настоятеля, решил скрасить себе одиночество упражнениями в игре на биве. Минула полночь, а настоятель так и не появился. Жара все не спадала, возвращаться в душное помещение не хотелось, и молодой человек оставался на веранде. Наконец он услышал шаги, приближавшиеся со стороны дальней калитки: кто-то пересек сад, приблизился к веранде и остановился прямо напротив. Но это был не настоятель. Глубоким звучным голосом гость окликнул музыканта по имени – резко и бесцеремонно, будто знатный самурай обращался к простому солдату:
– Хоити!
Молодой человек так растерялся от неожиданности, что не сумел ответить, и тогда в голосе прибавилось командирских ноток:
– Хоити!!!
– Да-да! – выпалил музыкант, совсем оробев. – Я слепой и не вижу, кто меня зовет!
– Не бойся. – Голос немного смягчился. – Я остановился на ночлег неподалеку от храма и прибыл к тебе с поручением. Мой нынешний господин, занимающий чрезвычайно высокое положение, сейчас изволит пребывать в Акамагасэки с многочисленной свитой. Он явился сюда взглянуть на место битвы в Данноуре и сегодня побывал на побережье залива. Узнав о твоем искусном исполнении сказания о том морском сражении, мой господин пожелал услышать тебя. Так что бери биву и следуй за мной в дом, где он тебя дожидается.
В те времена немногие рискнули бы ослушаться приказа самурая. Хоити поспешно обулся, взял биву и спустился с веранды.
Незнакомец заставлял слепого идти слишком быстро, но железной рукой ловко направлял его шаги. Хоити слышал, как скрипят и лязгают доспехи; было ясно, что его проводник – воин в полном облачении, возможно дворцовый стражник при исполнении обязанностей. Первый страх уже прошел, музыкант даже сделал вывод, что ему сказочно повезло – ведь, по словам самурая, его господин занимает «чрезвычайно высокое положение», а значит, сказание о битве в Данноуре желает послушать какой-нибудь князь-даймё, не меньше.
Наконец самурай остановился и крикнул:
– Каймон![6]
Тотчас послышался лязг засовов. Хоити понял, что его привели к огромным и очень широким воротам, но он не мог припомнить в этой части города ничего подобного, кроме главных ворот Амидадзи. Створки между тем отворились, и самурай, все так же держа молодого человека за плечо, зашагал по саду – вероятно, к входу в жилище. Опять остановившись, он громко сообщил кому-то:
– Я привел Хоити!
Тотчас послышался топот, зашуршали раздвижные двери и ставни, зазвучали женские голоса. По манере говорить Хоити распознал служанок из знатного дома, но по-прежнему не представлял себе, где находится. Времени строить догадки молодому человеку не оставили – ему помогли подняться по каменным ступеням, затем велели разуться, и женская рука долго лежала на его плече, направляя сначала по полам из полированных досок – по пути пришлось столько раз огибать деревянные опоры, что и не запомнить, – затем по полам, выстеленным циновками, и наконец Хоити оказался в центре какого-то просторного помещения. Он подумал, что вокруг много богато разодетых людей, – шелка шелестели, как листья в лесу. Еще там звучал едва различимый гул голосов: собравшиеся приглушенно переговаривались, и по обрывкам их бесед можно было понять, что все присутствующие – благородные особы.
Хоити предложили располагаться поудобнее, и он опустился на плоскую подушечку, приготовленную для него. Когда музыкант уселся и настроил биву, женщина – Хоити решил, что это родзё, то есть начальница женской прислуги, – обратилась к нему с такими словами:
– Настало время поведать историю дома Хэйкэ под звуки бивы.
Однако подробное повествование о сгинувшем клане должно было занять несколько ночей, поэтому Хоити осмелился уточнить:
– Поскольку сказание о Хэйкэ долго сказывается, какую часть истории сего достославного дома изволят выслушать господа прежде всего?
– Поведай нам о битве в Данноуре, – сказала женщина, – ибо нет ничего печальнее[7] того события.
Тогда Хоити принялся рассказывать нараспев о яростном морском сражении – и голос его набирал силу, а в звуках бивы грохотали, крушась, корабли, звенели тетивы, свистели стрелы, гремели по палубе сапоги, визжала сталь мечей, ударяя о шлемы, кричали воины и с громким плеском падали за борт убитые… Когда струны ненадолго смолкали под пальцами Хоити, он слышал восторженные перешептывания справа и слева от себя: «Какой искусный сказитель!», «Даже в нашей родной провинции не слыхали такой игры на биве!», «В целой империи не сыщется мастер, равный Хоити!». Вдохновленный такой похвалой, слепой музыкант начинал играть и петь лучше прежнего, и слушатели восхищенно замирали. Когда же рассказ его подошел к самому трагическому моменту – гибели беззащитных женщин и детей – и Нии-но-Ама с малолетним императором на руках шагнула в морскую бездну, все собравшиеся как один испустили долгий, страшный, горестный крик. Вокруг Хоити поднялись плач и стенания. Люди рыдали так громко и безутешно, что слепой сказитель ужаснулся, сочтя себя виновником этой неистовой скорби. Какое-то время он еще слышал причитания, затем постепенно воцарилась тишина, и снова заговорила женщина, которую Хоити считал родзё.
– Все мы были наслышаны о тебе как об искусном мастере игры на биве и непревзойденном сказителе, однако же и представить себе не могли, что человек способен достичь и в том и в другом заоблачных высот, каковые ты явил нам нынче ночью. Наш господин уже пообещал достойно вознаградить тебя, притом он желает, чтобы ты выступал перед ним еще шесть ночей, – по окончании сего срока его милость предполагает отправиться в обратный путь. Стало быть, завтра ночью тебе надлежит быть здесь в тот же час, что и сегодня. Тот же страж будет послан за тобой в нужное время… И еще кое-что мне велено тебе передать. В течение всего пребывания нашего господина в Акамагасэки ты не должен никому говорить о своих визитах сюда, ибо он путешествует тайно и строго наказал всем посвященным не разглашать его личность… А теперь можешь возвращаться в храм.
Хоити должным образом выразил благодарность за оказанный прием, и женская рука повела его к выходу, где уже знакомый молодому человеку воин поджидал его, чтобы отвести в Амидадзи.
Самурай проводил Хоити до самой веранды у его спаленки и на том распрощался.
Слепой возвратился домой перед самым рассветом, но его отсутствия ночью в храме никто не заметил – настоятель, и сам вернувшийся под утро, подумал, что музыкант уже спит.
Днем Хоити никто не тревожил, так что у него было время отдохнуть. Он ни с кем и словом не обмолвился о своих ночных приключениях. А в полночь за ним явился тот же самурай и снова отвел к благородному собранию. Второе выступление увенчалось не меньшим успехом, чем первое, однако на сей раз отлучка музыканта не осталась без внимания в храме: кто-то из служителей обнаружил, что Хоити нет в комнатке. Потому утром, едва бродяга вернулся, настоятель призвал его к себе и с ласковым упреком сказал:
– Ну и заставил же ты нас поволноваться, дружище Хоити! Слепому ходить в одиночку по ночам опасно. Почему ты не предупредил нас? Я отправил бы с тобой кого-нибудь из монахов… Что за спешное дело возникло у тебя посреди ночи?
– Прошу простить меня, добрый друг. Но дело и правда было спешное и сугубо личное, так что уладить его в другой час и при свидетелях я, увы, не имел возможности, – уклончиво пробормотал Хоити.
Настоятеля такой ответ скорее удивил, чем обидел. Если молодой человек не хочет ничего рассказывать, значит, что-то здесь нечисто, решил он. Уж не заморочил ли Хоити голову какой-нибудь злой дух? Весьма обеспокоившись этим подозрением, настоятель не стал больше расспрашивать друга, однако втайне велел храмовым служителям присматривать за Хоити и следовать за ним, куда бы он ни направился после наступления темноты.
Той же ночью слепой музыкант снова покинул храм, и служители, спешно запалив огонь в фонариках, двинулись за ним. Но тут, к несчастью, зарядил дождь, темнота сгустилась, и, даже не дойдя до ворот, они упустили сказителя из виду. Хоити шагал на удивление быстро для слепого, да еще по разбитой дороге в ямах и колдобинах, на которой и зрячий замедлил бы ход. Служители разбежались по улочкам расспрашивать владельцев домов, где часто выступал Хоити, но так ничего и не выяснили. Бросив в конце концов тщетные поиски, они побрели обратно в храм вдоль берега и вдруг услышали звуки бивы со стороны кладбища при Амидадзи. Там царствовала тьма, на чью власть посягали лишь призрачные огоньки, всегда выходившие в этих краях поплясать безлунными ночами. Однако служители смело устремились к кладбищу и там при свете фонариков отыскали Хоити – сидя в одиночестве под дождем напротив могильного памятника Антоку-тэнно, он играл на биве и читал нараспев сказание о битве в Данноуре. А перед ним, над ним и повсюду вокруг на кладбищенских камнях, как свечи, горели язычки потустороннего пламени. Никогда прежде людским взорам не представала столь многочисленная рать они-би…



