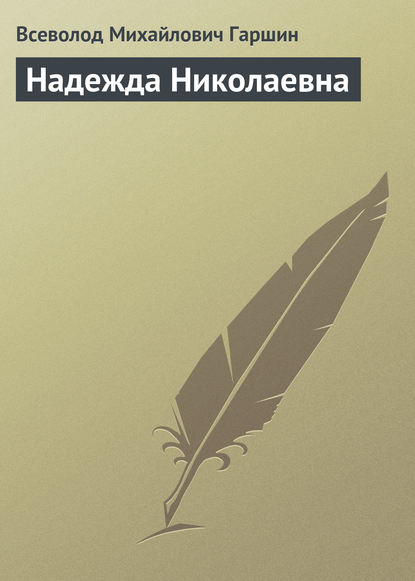000
ОтложитьЧитал
XII
Записки Лопатина. Шесть дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела.
Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе; но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее «хоть на дне морском». Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию, и исчез на целый день.
Оставшись один, я попробовал работать; работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц.
Я закрыл эту книгу – умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу.
Полусознанная смутная надежда встретить если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня, и я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грум-Скжебицкого, в четвертом часу дня (был конец декабря, и уже темнело) прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло; капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи; цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха; шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником.
Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне.
– Рад видеть мосье Лопатина, – сказал он. – Весьма приятная встреча.
Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал:
– Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдетесь ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин! Гуляю ежедневно и прохожу Невский два раза туда и назад. Это закон.
Я хотел вернуться домой и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.
– Сегодня вторая приятная встреча, – сказал он. – Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель.
– Как, капитан, вы и Бессонова знаете?
– Вы спросите у меня, кого я не знаю! – ответил капитан, пожимая плечами. – И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин! Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.
И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.
– Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Петрищев. Тоже у меня жил студентом.
– А Бессонов? – спросил я.
– И Бессонов прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола… – прибавил капитан, нагибаясь к моему уху.
Я почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне.
Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал:
– Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость, да кроме того, старый солдат и теперь еще неравнодушен к глазам прекрасным…
Он взглянул на меня искоса и подмигнул; прищуренные глазки его сделались немного маслеными.
– Капитан, – начал я, – я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым… Я, видите ли, не знал этого.
– Да, он жил у меня весьма недолго.
– Не был ли он знаком…
Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражение глазами. Теперь он был похож на ястреба.
– Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините, – смущенно докончил я.
Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.
– Да, старому солдату есть что вспомнить… – продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал. – Шестой десяток начинается, – прибавил он, печально покачав головой. – Завидую, признаться, вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам.
– Где вы служили, капитан? – спросил я, вспомнив слова Гельфрейха.
Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно-серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.
– Между нами, как между благородными людьми! Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Опатова!
И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.
– Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям… – опять прошептал капитан, нагнувшись, и, снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор.
Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к Полицейскому мосту.
Я был недоволен собою; я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия.
Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что «наш кошатник» еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своем горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита.
– Что ж ваша-то, Андрей Николаевич, не ходит? – спросила она.
– Заболела, должно быть, Алексеевна.
Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.
XIII
После обеда принесли письмо от Сони.
Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру, – а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое, – когда я умру и она прочтет эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма.
Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лет, она чуткой, любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалось в моей голове определенными словами.
«Ты любишь ее, Андрей. Дай Бог тебе счастья…»
Я не мог читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе.
Это была правда: я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре; я готов был через несколько лет сделаться ее мужем и, может быть, был бы счастлив с нею, я не поверил бы, если б мне сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена: «Вот жена твоя, – сказал мне Господь, – и у тебя не должно быть другой», – и в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своем выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью.
И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданьем в глазах; жалость сперва овладела мною; негодование против человека, выражавшего к ней презрение, сильнее заставило меня взять ее сторону, а потом… Потом я не знаю, как это случилось… Но Соня была права: я любил ее мучительною и страстною первою любовью человека, до двадцати пяти лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья… И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма…
«Обо мне не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсем, но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце – и знаешь, почему? Потому, что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя как на брата и как на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете; я могла бы и не писать этого, потому что ты это знаешь сам; но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне, – поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена; поняла это из своей радости за твое счастье – радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай Бог тебе спасти ее, и быть счастливым, и сделать ее счастливой».
«Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви…»
Я читал эти строки, и новое, радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони: чего было мне бояться? Как и когда это случилось – я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение – единственное, что я знал из ее жизни, – казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбило с ног и повалило в грязь, и я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту исстрадавшуюся жизнь.
Сильный, порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам почему, не дождавшись, пока Алексеевна, шлепая туфлями, прибредет, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семен Иванович, схватив меня обеими руками, припрыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом:
– Андрей, привел, привел, привел!..
За ним стояла темная фигура. Я кинулся к ней, схватил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдания голосом.
XIV
Мы долго просидели втроем в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не расспрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашел, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться: я просто считал это ненужным и лишним; я боялся растревожить ее израненную душу. Я был разговорчив и весел, как никогда; Гельфрейх изъявлял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну. Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив все как следует, она стала у притолоки и, подперши одну щеку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.
– Вам нужно что-нибудь, Алексеевна? – спросил я.
– Ничего, милый, мне не нужно, так посмотреть на вас только… Уж и обиделся! – сказала она. – Нельзя старухе и постоять! Вот смотрю, как у вас барышня заместо хозяйки. Так-то оно хорошо!
Надежда Николаевна опустила голову.
– Видишь ты, как славно. А то все мужчины да мужчины: и чай разливать и все. Уж мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич, правду тебе сказать, уж ты извини меня…
Она повернулась и засеменила своими ногами по коридору. Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате.
Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение и потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой:
– Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки.
– Как вы похожи! – вставил Сенечка.
Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины.
– Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились! – сказал я.
– Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие… Я представляю себе, как это будет…
Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах.
– Я думаю, сколько придется вам услышать толков, вопросов! – продолжала она. – «Кто она? Откуда вы ее взяли?» И будут спрашивать люди, которые знают, кто я и откуда меня можно было взять…
– Надежда Николаевна…
– Вы не погнушались мною, Андрей Николаевич, вы и мой милый Сенечка; вы посмотрели на меня как на человека… В первый раз за три года это случилось. Я не верила себе… Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала (простите меня за это!), я думала, что вы как и все. Я думала: вот и я, мое лицо, мое тело пригодилось к чему-нибудь нужному, и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны; я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно…
Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам.
– Простите меня, – продолжала она. – Я не верила вам, я с ужасом ждала той минуты, когда вы, наконец, посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрел мне в лицо иначе…
Она остановилась; лицо ее судорожно исказилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто бы видела там что-то.
– Был один, только один, который смотрел не так, как все… и не так, как вы. Но я…
Мы с Гельфрейхом слушали ее, затаив дыхание.
– Но я убила его… – едва слышно выговорила она.
И страшный приступ отчаяния овладел ею: вопль вырвался из измученной груди, и жалкие, детские рыдания огласили комнату.