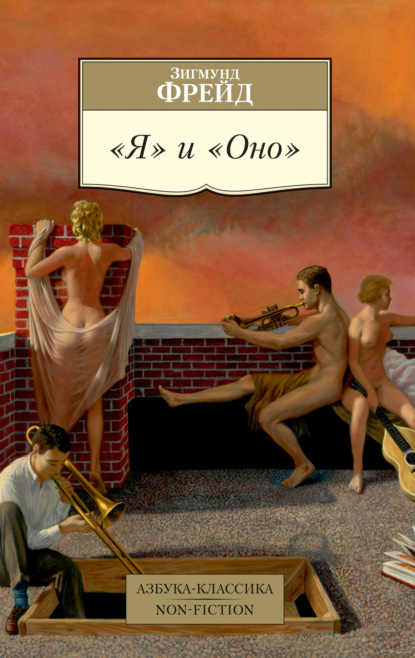Текст печатается по изданию: Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. «Я» и «Оно». Неудовлетворенность культурой. СПб.: Алетейя, 1998
Перевод с немецкого

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015 Издательство АЗБУКА®
По ту сторону принципа наслаждения
Jenseits des Lustprinzips
I
В психоаналитической теории мы без сомнений принимаем положение, что ход психических процессов автоматически регулируется принципом наслаждения, т. е. мы считаем, что этот процесс каждый раз возбуждается связанным с неудовольствием напряжением и затем принимает такое направление, что его конечный результат совпадает с уменьшением этого напряжения – с избежанием неудовольствия или с порождением удовольствия. Рассматривая изучаемые нами психические процессы с учетом этого хода развития, мы вводим в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы думаем, что постановку вопроса, которая, наряду с топическим (пространственным) и динамическим моментом, пытается учесть и этот экономический момент, – можно считать наиболее совершенной из всех возможных в настоящее время. Ее по заслугам следует назвать метапсихологической.
Нас при этом не интересует, насколько мы при выдвижении принципа наслаждения приблизились или присоединились к определенной, исторически установленной философской системе. Мы приходим к таким спекулятивным предположениям, пытаясь описать факты ежедневного наблюдения в нашей области и дать себе в них отчет. Приоритет и оригинальность не являются целями психоаналитической работы, а впечатления, на которых основано установление этого принципа, так очевидны, что едва ли возможно их не заметить. Мы преисполнились бы признательности к философской или психологической теории, которая сумела бы объяснить нам значение столь императивных для нас ощущений удовольствия и неудовольствия. К сожалению, ничего приемлемого нам не предлагают. Эта область является наиболее темной и недоступной областью психической жизни, и если уж мы никак не можем уклониться от ее рассмотрения, то самые широко взятые гипотезы будут, как я думаю, самыми лучшими. Мы решили соотнести удовольствие и неудовольствие (и количество возбуждения, имеющегося в нашей психической жизни и ничем не связанного), и притом так, чтобы неудовольствие соответствовало повышению этого количества, а удовольствие – понижению. При этом мы думаем о простом отношении между силой ощущений и изменениями, которые с ними связаны; менее всего – после всего опыта психофизиологии – о прямой пропорциональности; вероятно, решающим для ощущения моментом является мера его уменьшения или увеличения во времени. Возможно, что здесь уместен был бы эксперимент; для нас, аналитиков, не рекомендуется вникать в эти проблемы, пока мы не можем руководствоваться совершенно определенными наблюдениями.
Нас, однако, не может не затронуть то, что такой глубокий исследователь, как Г. Т. Фехнер, представлял теорию удовольствия и неудовольствия, в основном совпадающую с той теорией, на которую нас наталкивает психоаналитическая работа. Мысли Фехнера изложены в небольшой статье «Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen», 1873. (Abschnitt XI. Zusatz. S. 94). Он говорит следующее: поскольку сознательные побуждения всегда имеют отношение к удовольствию или неудовольствию, постольку и удовольствие и неудовольствие можно представить себе как имеющие психофизическое отношение к условиям стабильности; на этом можно основать гипотезу, которую я подробно намерен изложить в другом месте, а именно: что такое психофизическое движение, превышающее порог сознания, наделено известной мерой удовольствия, когда оно сверх известной границы приближается к полной стабильности, и известной мерой неудовольствия, когда оно сверх известной границы отклоняется от нее; в то же время между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, имеется известное пространство эстетической индифферентности.
Факты, которые дали нам повод поверить в господство принципа наслаждения в психической жизни, находят выражение и в гипотезе, что психический аппарат стремится сохранить содержащееся в нем количество возбуждения на возможно низком уровне или, по крайней мере, в постоянном состоянии. Это та же, лишь иначе сформулированная, гипотеза, так как если работа психического аппарата направлена на количественное понижение возбуждения, то все, что его повышает, будет ощущаться как противное функции, т. е. как неудовольствие. Принцип наслаждения выводится из принципа постоянства; действительно, принцип постоянства открылся из фактов, которые натолкнули нас на установление принципа наслаждения. При более подробной дискуссии мы увидим, что это стремление, которое мы приписали психическому аппарату, как особый случай, подчиняется фехнеровскому принципу тенденции к стабильности, который он поставил в соотношение с ощущениями удовольствия и неудовольствия.
Но тогда нам придется сказать, что, собственно говоря, неправильно говорить о господстве принципа наслаждения в ходе психического процесса. Если бы таковое господство существовало, то большинство наших психических переживаний сопровождалось бы наслаждением или приводило бы к наслаждению, а ведь даже самый общий опыт противоречит такому заключению. Итак, может происходить лишь следующее: в душе имеется сильная тенденция к принципу наслаждения, но ей противодействуют известные другие силы и условия, так что конечный исход не всегда может соответствовать тенденции к наслаждению. Сравни замечание Фехнера в похожем случае: «Но поскольку тенденция к цели еще не означает достижения цели и цель вообще может достигаться только приблизительно…» Если мы теперь займемся вопросом, какие условия могут препятствовать осуществлению принципа наслаждения, то мы снова вступаем на твердую и знакомую почву и можем широко использовать для ответа наш аналитический опыт.
Первый случай такой заторможенности принципа наслаждения знаком нам как закономерный. Мы знаем, что принцип наслаждения присущ первичному способу работы психического аппарата и что ввиду трудностей, которые имеются во внешнем мире, этот принцип с самого начала является для самоутверждения организма не только непригодным, но и чрезвычайно опасным. Под влиянием инстинкта самосохранения «Я» этот принцип сменяется принципом реальности, который, не отказываясь от конечного получения наслаждения, все же требует и приводит отсрочку удовлетворения, отказ от многих возможностей последнего, а также временное перенесение неудовольствия на долгом окольном пути к удовольствию. Принцип наслаждения затем еще долгое время остается методом работы сексуальных первичных позывов, которые труднее «воспитуемы», и мы повторно встречаемся с фактом, что, может быть, под влиянием последних, а может быть, и в самом «Я» принцип наслаждения побеждает принцип реальности, принося вред всему организму.
Между тем совершенно несомненно, что смена принципа наслаждения принципом реальности является причиной лишь незначительной части чувства неудовольствия, и притом не самой интенсивной его части. Человеческое «Я» проходит свое развитие к более высокой организации, и в ходе этого развития появляется другой, не менее закономерный источник излучений неудовольствия, который возникает из конфликтов и расколов в психическом аппарате. Почти вся энергия, наполняющая этот аппарат, исходит из наличествующих в нем инстинктивных стремлений, но не все они допускаются в те же самые фазы развития. В этом процессе развития все снова и снова повторяется факт, что отдельные первичные позывы или части их в своих целях и требованиях оказываются несовместимыми с остальными первичными позывами, которые могут объединиться в целостное «Я». В таком случае они откалываются от этого единства процессом вытеснения, задерживаются на более низких ступенях психического развития и сначала отрезаются от возможности удовлетворения. Если же – как это легко может случиться с вытесненными сексуальными первичными позывами – им позже окольными путями удается пробиться к прямому или суррогатному удовлетворению, то этот успех, который при иных обстоятельствах мог бы быть возможностью удовольствия, ощущается «Я» как неудовольствие. Как следствие старого конфликта, который кончился вытеснением, принцип наслаждения получил новый прорыв именно тогда, когда известные первичные позывы, в соответствии с принципом, работали над созданием нового удовольствия. Подробности процесса, при котором вытеснение заменяет возможность удовольствия источником неудовольствия, еще не вполне понятны или не могут быть ясно описаны, но можно с уверенностью сказать, что все виды невротического неудовольствия имеют этот характер – удовольствие не может ощущаться как таковое[1].
Оба указанных здесь источника неудовольствия далеко еще не покрывают большинства наших переживаний неудовольствия, но об остатке их, по-видимому, можно с некоторым правом утверждать, что наличие этого остатка не противоречит господству принципа наслаждения. Наибольшая часть неудовольствия, которое мы ощущаем, является ведь неудовольствием от восприятия: или это восприятие давления неудовлетворенных первичных позывов, или это внешнее восприятие, иногда мучительное само по себе либо возбуждающее в психическом аппарате неприятные ожидания и опознающееся им как опасность. Реакция на эти требования первичных позывов и на угрозу опасности, в которой и выражается специфическая деятельность психического аппарата, может затем должным образом быть направляема принципом наслаждения или модифицирующим его принципом реальности. Таким образом, отпадает необходимость признать более широкое ограничение принципа наслаждения; но именно исследование психической реакции на внешнюю опасность может дать новый материал и вызвать новые вопросы в изучаемой здесь проблеме.
II
С давних пор было известно и отмечалось состояние, которое возникает после тяжелых механических сотрясений, железнодорожных катастроф и прочих несчастных случаев, связанных с опасностью для жизни. Это состояние называется «травматическим неврозом». Ужасная война, которая только что закончилась, вызвала большое количество таких заболеваний и, по крайней мере, положила конец искушению относить эти случаи к органическому повреждению нервной системы, вызванному механической силой[2]. Общее состояние при травматическом неврозе близко к истерии богатством похожих моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее ярко выраженными признаками субъективного страдания (примерно как при ипохондрии или меланхолии), а также доказательствами гораздо более широкого общего ослабления и потрясения психических действий. Однако до сих пор не достигнуто полное понимание как неврозов войны, так и травматических неврозов мирного времени. При неврозах войны понимание, с одной стороны, пополнялось, а с другой – затемнялось тем обстоятельством, что иногда та же самая картина болезни появлялась без вмешательства грубой механической силы; в простом травматическом психозе выделяются две черты, с которых можно было начать размышления. Во-первых, основной причиной, вызывавшей заболевание, оказывался, по-видимому, момент неожиданности и страха, а во-вторых, одновременно полученное повреждение или ранение в большинстве случаев противодействовало возникновению невроза.
Слова «испуг», «страх», «боязнь» без всякого права употребляются как синонимы. Их можно точно разграничить по их отношению к опасности. Боязнь означает известное состояние ожидания опасности и подготовки к ней, даже если опасность неизвестна; страх требует определенного объекта, которого страшишься; испугом называется состояние, в которое впадаешь, очутившись в опасности, к которой не подготовлен; это понятие (испуг) подчеркивает момент неожиданности. Я не думаю, что боязнь может вызвать травматический невроз; в боязни есть что-то, что предохраняет от испуга, а значит, и от невроза испуга. К этому положению мы позже вернемся.
Изучение сновидений может считаться самым надежным путем для исследования глубинных психических процессов. Сновидения при травматическом неврозе имеют ту характерную черту, что они возвращают больного к ситуации, при которой произошел несчастный случай, и он просыпается с новым испугом. Этой особенности слишком мало удивляются. Принято думать, что факт постоянного появления травматического переживания в сновидениях как раз и является доказательством силы впечатления, которое оно произвело. Больной, так сказать, психически фиксирован на травму. Такие фиксации на переживание, вызвавшее заболевание, нам уже давно знакомы в истерии. Брейер и Фрейд пришли к выводу в 1893 году, что истерики страдают главным образом от воспоминаний. Такие наблюдатели, как Ференци и Зиммель, многие моторные симптомы в неврозах войны также объясняли фиксацией на момент травмы.
Мне, однако, не известно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрствующем состоянии много занимались воспоминаниями о своем несчастном случае. Они, скорее, стараются о нем не думать. Принимая само собой разумеющимся, что ночной сон возвращает больных в ситуацию, вызвавшую заболевание, природа снов понимается неправильно. Этой природе снов больше соответствовал бы показ больному картин его здорового прошлого и желанного выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны невротиков, заболевших от травмы, отняли у нас веру в то, что сны имеют тенденцию исполнять несбывшиеся желания, то нам остается, по крайней мере, признать, что при этой болезни функции сна, как и многое другое, находятся в состоянии потрясения и отклоняются от своих тенденций, или нам пришлось бы припомнить мазохистские тенденции «Я».
Теперь я предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и изучить способ работы психического аппарата на основании его самой ранней нормальной деятельности. Я имею в виду детские игры.
Различные теории о детской игре совсем недавно составлены и аналитически рассмотрены З. Пфейфером в «Imago» (V/4). На этот труд я здесь и сошлюсь. Эти теории стараются разгадать мотивы игры, не выдвигая на первый план экономическую точку зрения, т. е. учет полученного удовольствия. Не намереваясь охватить эти явления в целом, я воспользовался представившейся мне возможностью объяснить первую игру мальчика полутора лет, изобретенную им самим. Это было больше, чем поверхностное наблюдение, так как я прожил с ребенком и его родителями несколько недель под одной крышей, и прошло довольно продолжительное время, пока я догадался о смысле его загадочных и постоянно повторявшихся действий.
Ребенок отнюдь не был преждевременно развит; в полтора года он говорил лишь немного понятных слов, а кроме того, испускал несколько имевших для него смысл звуков, которые понимались окружающими. Но он был в добром контакте с родителями и единственной прислугой, и его хвалили как «хорошего мальчика». Он не беспокоил родителей в ночное время, добросовестно исполнял приказания не трогать известных вещей и не ходить в известные помещения и, прежде всего, никогда не плакал, когда мать уходила на несколько часов, хотя нежно был к ней привязан. Мать не только выкормила его грудью, но и вообще ухаживала за ним без посторонней помощи. У этого хорошего, послушного мальчика была все же одна неприятная привычка, а именно: забрасывать в угол комнаты, под кровать и т. д. все маленькие вещи, которые ему удалось схватить; и собирание его игрушек было делом нелегким. При этом он с выражением интереса и удовольствия произносил протяжное «о-о-о», которое, по общему мнению родителей и наблюдателей, было не междометием, а означало «вон, прочь». Я в конце концов заметил, что это – игра и что ребенок пользуется всеми своими игрушками только для того, чтобы играть в «ушли». Однажды я сделал одно наблюдение, которое подтвердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка, к которой была привязана веревочка. Ему никогда не приходило в голову возить ее по полу позади себя, т. е. играть с ней в тележку, но, держа катушку за веревку, он с большим искусством перебрасывал ее за край своей кроватки, так что она там исчезала, говорил при этом свое многозначительное «о-о-о» и затем за веревочку снова вытаскивал ее из-под кровати, но теперь ее появление приветствовал радостным «вот». В этом и заключалась вся игра – исчезновение и появление снова. Виден был обычно только первый акт, и этот акт сам по себе неутомимо повторялся как игра, хотя больше удовольствия, несомненно, доставлял второй акт[3].
Теперь легко было объяснить смысл игры. Она была связана с большим культурным достижением ребенка: с подавлением инстинкта (отказом от удовлетворения инстинкта), т. е. с тем, что он не сопротивлялся, когда мать уходила. Но он как бы вознаграждал себя за это тем, что сам инсценировал то же самое исчезновение и возвращение с доступными ему предметами. Для аффективной оценки этой игры, конечно, безразлично, изобрел ли ее сам ребенок или усвоил ее благодаря какому-нибудь стимулирующему моменту. Наш интерес привлекает другой пункт. Уход матери едва ли был ребенку приятен или хотя бы безразличен. Как же согласуется с принципом наслаждения то обстоятельство, что ребенок повторяет это мучительное для него переживание как игру? Может быть, захочется ответить, что уход должен быть сыгран как предварительное условие для радостного возвращения, что в этом последнем и заключается собственный замысел игры. Но этому противоречило бы наблюдение, что первый акт – исчезновение – инсценировался как игра сама по себе, и притом несравненно чаще, чем вся игра, доведенная до приятного конца.
Анализ такого единичного случая не дает достоверного решения; при непредвзятом взгляде получается впечатление, что ребенок превратил свое переживание в игру по совсем другим мотивам. В этом переживании ребенку доставалась пассивная роль, он должен был что-то пережить; затем он ставит себя в активное положение и повторяет то же переживание как игру, несмотря на то, что оно неприятно. Это стремление можно было бы объяснить как инстинкт власти, который не зависит от того, было ли воспоминание само по себе приятно или нет. Но можно предположить и другое толкование: бросание предмета так, что он исчезал, могло бы быть удовлетворением подавленного в жизни чувства мести, обращенного на мать за то, что она уходила от ребенка, оно могло бы иметь упрямое значение: «Да, уходи, уходи! Ты мне не нужна – я сам тебя отсылаю». Этот же ребенок, которого я наблюдал за его первой игрой, когда ему было полтора года, через год бросал на пол игрушку, на которую сердился, и говорил: «Уходи на войну». До этого ему рассказали, что отец ушел на войну, и он нисколько не сожалел об его отсутствии, а, наоборот, чрезвычайно ясно показывал, что он и впредь хочет оставаться наедине с матерью[4]. Мы знаем и о других детях, которые подобные враждебные чувства к людям выражали бросанием предметов[5]. Если наблюдается порыв, имеющий целью психически переработать какое-либо сильное впечатление, вполне овладеть им, то мы сомневаемся, может ли такой порыв выражаться первично и независимо от принципа наслаждения. В случае, который мы здесь обсуждаем, ребенок, может быть, повторял неприятное впечатление игрой в него только потому, что с этим повторением было связано прямое наслаждение иного рода.
Дальнейшее наблюдение за детской игрой также не устраняет колебаний, какое же из двух пониманий следует выбрать. Мы видим, что дети повторяют в игре все, что в жизни произвело на них большое впечатление, причем они взвешивают силу впечатления и делают себя, так сказать, господами положения. С другой стороны, совершенно ясно, что вся игра находится под влиянием доминирующего в это время желания, а именно: быть большим и делать то, что делают большие. Можно также сделать наблюдение, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным для игры. Если доктор осматривал горло или сделал ребенку маленькую операцию, то это ужасающее переживание непременно будет содержанием следующей игры, но нельзя не отметить, что наслаждение будет получено из другого источника. Переходя из пассивности переживания в активность игры, ребенок причиняет своему товарищу по игре то неприятное, что случилось с ним самим; и мстит за себя на этом заменяющем его лице.
Все эти пояснения приводят нас к выводу, что принять особый инстинкт подражания как мотив игры было бы излишним. Прибавим еще, как особое напоминание, что художественная игра и художественное подражание взрослых, которое, в отличие от поведения ребенка, предназначено для зрителя, не щадит его в отношении самых болезненных для него переживаний, как, например, в трагедии, и тем не менее может ощущаться им как высокое наслаждение. Мы, таким образом, приходим к выводу, что и при господстве принципа наслаждения имеется достаточно путей и средств, чтобы переживание, само по себе неприятное, стало предметом воспоминаний и психической переработки. Рассмотрение этих случаев и ситуаций, в конечном итоге кончающихся получением наслаждения, должно быть темой экономически направленной эстетики; для наших целей они бесполезны, так как имеют предпосылкой существование и господство принципа наслаждения; они не доказывают существования тенденций по ту сторону принципа наслаждения, т. е. тенденций более первичных, чем принцип наслаждения, и от него независимых.
- Три билета до Эдвенчер
- Перегруженный ковчег
- Земля шорохов
- Моя жизнь
- Беседы об искусстве
- Рождение трагедии из духа музыки
- Метафизика половой любви
- Семейный роман невротиков
- Далекое близкое
- О духе законов
- Исследование о природе и причинах богатства народов. Книги 1–3
- Василий Поленов
- Валентин Серов
- Морфология волшебной сказки
- Русские аграрные праздники
- Фольклор и действительность
- Исследование о природе и причинах богатства народов. Книги 4–5
- Психоанализ детских страхов
- Остроумие и его отношение к бессознательному
- Суждения о науке и искусстве
- Письма к невесте
- Женщина преступница и проститутка
- Искусство самурая. Книга Пяти колец
- Моя жизнь
- «Я» и «Оно»
- Заклятие девственности
- Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве
- Психопатология обыденной жизни
- Жизнь пчел. Разум цветов
- Так говорил Заратустра
- Воля к власти
- Чжуан-цзы
- Афоризмы житейской мудрости
- Введение в психоанализ
- Учение о цвете
- Занимательная астрономия
- Новые опыты о человеческом разумении
- Генеалогия морали
- Странник и его тень
- Повесть временных лет
- Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории. Том 1
- Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории. Том 2
- Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы
- В чем наше благо?
- Похвала Глупости
- О войне
- Важнейшие принципы войны
- Цветочки Франциска Ассизского
- Философия китайского буддизма
- Письма
- Политика
- Манифест Коммунистической партии
- Физика
- Савва Мамонтов
- Молот ведьм
- Наука логики
- Очерки по психологии сексуальности
- Навязчивость, паранойя и перверсия
- Наедине с собой. Размышления
- Легенда о Великом инквизиторе
- Бродячая Русь Христа ради
- Несерьезная педагогика
- Русский канон. Книги ХХ века. От Чехова до Набокова
- Русский канон. Книги ХХ века. От Шолохова до Довлатова