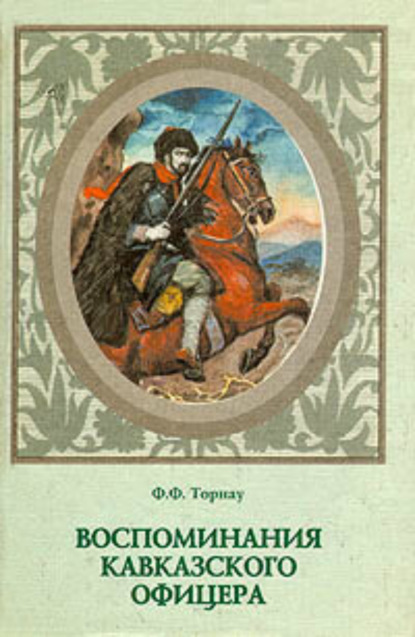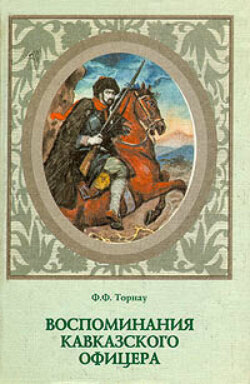
000
ОтложитьЧитал
Опасность стала умножаться для нас по мере приближения к морю. На другой день, пока мы ожидали прибытия хозяина, число гостей увеличилось более чем мы могли желать. Между ними оказался старик высокого роста, в котором я тотчас узнал абхазца, хотя и видел его в первый раз. Стоя, опершись на свою длинную железом окованную палку, он завел с Карамурзиным речь на чистом абхазском наречии. Слова Уруссим, Микамбай, Сид-ипа, повторявшиеся довольно часто в их разговоре, заставили меня прислушаться; ясно было, что дело шло обо мне и о моем первом путешествии через горы. Между тем проницательные глаза абхазца перебегали от одного к другому из гостей, занимавших кунахскую. В это время подали обед, на обычных круглых столиках, и Карамурзин, как почетный гость, пригласил кого ему угодно было за свой стол. В числе избранных находились: турок, абхазец, имам Хази и я. Перед концом обеда Тембулат сказал абхазцу несколько слов, назвав его при этом Софыджем; абхазец одобрительно потрепал меня по плечу. Я взглянул на Карамурзина: ироническая улыбка и легкий знак глазами подтвердили мою мысль. Передо мною находился Софыдж, преследовавший меня еще в Абхазии и отнюдь не чаявший, что я нахожусь от него так близко. Вечером, когда мы остались наедине на несколько мгновений, Карамурзин передал мне со смехом через имама Хази свое объяснение с Софыджем, пришедшим к нему из ближайшего селения с единственною целью разведать о том, куда я девался после моего путешествия из Абхазии на линию. Карамурзин рассказал ему все, что знал, прибавив, что на линии разнесся слух, будто я умер, чему он, впрочем, не верит, полагая, напротив того, что я предпринял новое путешествие. Софыдж не хотел этому верить и, в свою очередь, обещал караулить меня на дорогах, ведущих в Абхазию, и на замечание Тембулата, что нелегко меня узнать, отвечал с самоуверенностью: “Только не для меня; русского я узнаю чутьем, зажмуря глаза”. После этого хвастовства Карамурзин не хотел отказать себе в удовольствии посмеяться над ним и смелым поступком отвлечь от меня всякое подозрение. Он посадил нас за один с ним стол и перед концом обеда спросил Софыджа, так хорошо отличавшего русских, может ли он сказать, к какому народу я принадлежу. Разумеется, Софыдж пришел в недоумение и не знал, что отвечать. Тогда Карамурзин объявил ему, что я чеченец с Терека, абрек, и сгораю ненавистью к русским. Это очень обрадовало Софыджа, пожалевшего только, что мы не можем друг с другом объясниться. Шутка была не безопасна, но лучше Карамурзин не мог ничего придумать для уничтожения дурного впечатления, сделанного мною на турка. Впрочем, этот фанатик не переставал за мною наблюдать, следовал за нами еще несколько переходов, всегда шагал возле моей лошади, беспрестанно заговаривал со мною и, получая ответ, что я его не понимаю, что-то бормотал про себя… Мы были очень рады, когда, наконец, утомившись от скорых переездов, он в каком-то селении отстал от нас.
Из Чужгучи мы переехали в селение Чужи, лежавшее на реке Худапсы. Число наших проводников увеличилось до двадцати человек, принадлежавших к разным абазинским обществам, княжествам и республикам, существовавшим поблизости моря. Все они враждовали между собою и соединялись только против своего общего врага, русских. Дорога в Чужи вела через высокую каменистую гору. Крутой подъем принуждал нас идти пешком и тащить за собою наших усталых лошадей. День был чрезвычайно жаркий, мы сами порядком измучились и к усталости присоединилось еще одно обстоятельство, отнимавшее у меня последние силы поспевать за другими. От ходьбы в горах моя обувь пришла в такой дурной вид, что, ступив на острый камень, я прорезал себе как ножом подошву правой ноги. Кровь текла из раны не переставая, пыль и песок забивались в нее, нестерпимая боль не позволяла мне ступать на ногу, а лошадь, нехотя карабкаясь по скользкому камню, тянула меня назад. Терпение в страданиях считается у горцев одним из первых достоинств для молодого человека, и равнодушие, с которым они переносят боль, доходит до такой степени, что в этом случае весьма легко узнать между ними европейца, который, может быть, столько же, как и они, бесстрашен, но никогда не сравняется с ними в терпеливости. В то время я был в состоянии многое вынести, и шел невзирая на мою рану, но поневоле должен был отставать. С нами было множество чужих людей, которые отнюдь не должны были знать, кто я таков, да и место, где мы находились, смежное с абазинами, убыхами и шапсугами, нередко ссорившимися между собою, было не совсем безопасно для самих горцев, спешивших поэтому дойти до ночлега прежде вечера, а я задерживал их. Имам Хази как-то невежливо заметил мне, что, оставаясь назади, я подвергаю их всех опасности, и даже во мне могут узнать русского, потому что не умею перенести боли. Это меня взорвало. В пылу досады я схватился за пистолет, крикнув ему, что я на замечания, сделанные мне дерзким тоном, имею привычку отвечать вот чем. Кровь бросилась в голову имаму Хази, и он в первую минуту не нашел слов для ответа, а только сам положил руку на пистолет, закричав: “Ну, брат, пистолет так пистолет!” Сцена происходила далеко сзади опередивших нас проводников и, право, не знаю, чем бы она кончилась, если б в это мгновение не явился между нами Тембулат, который, не видя меня возле себя, отстал от других под каким-то предлогом. Первым делом его было унять имама Хази; потом он спросил меня: отчего я отстаю. В ответ я показал ему мою окровавленную ногу. Все посторонние люди ушли далеко вперед, и около нас не было никого чужого; пользуясь этим обстоятельством, Тембулат поднял меня с земли, одною рукой перекинул через свое плечо, другою схватил повод моей лошади и, почти бегом, взнес меня на гору, таща за собою двух усталых лошадей. Подобное дело было возможно для одного Карамурзина, про которого в горах говорили, что одни мертвые знают, остра ли его шашка. Черкесы не любят обнажать шашки иначе как для удара, а при его силе действительно каждый удар был смертелен. На горе он меня ссадил на землю и просил, ради нашей безопасности, не отставать. Только в Чужи, поздно вечером, мне удалось перевязать ногу. От князя Ислам-Бага, принявшего нас в Чужи, мы переехали в селение Чуа, на реке Мце, по совершенно удобной дороге, не препятствовавшей нам пользоваться лошадьми. По мере приближения к морю, горы, понижаясь, представляли богатую растительность, посевы умножались и народонаселение становилось гуще. Вправо и влево от дороги тянулись, с небольшими промежутками, отдельные группы домов, окруженных посевами гомми, кукурузы, пшеницы и табаку. Стали показываться также фруктовые деревья, обвитые виноградными лозами.
В Чуа присоединился к нам отец Сефер-бея, ловко избавивший нас от абхазского князя Ангабадзе, которого он уговорил сходить на северную сторону гор, попытать счастья в лабинских лесах. Ему нашли в Ачипсоу проводников и товарищей для этой экспедиции, из которой он мог никогда не вернуться, и во всяком случае должен был проходить так долго, что ему нельзя было нас встретить в другой раз. Старик Маршаний привез с собою и женщину, которую Карамурзин вез продавать туркам. Она была весела, всему радовалась и казалась весьма довольною своим путешествием. За нею присматривал во время дороги Безруква, которому лета дозволяли исполнять эту обязанность, не нарушая весьма щекотливой черкесской стыдливости.
Из Чуа мы спустились к морскому берегу по широкому ущелью, покрытому густым лесом, в котором были приготовлены против русских несколько огромных завалов. У выхода из ущелья находился длинный завал из деревьев и камня, с фланкирующею его деревянною башней. Тут остановили нас для спроса десятка два конных людей, принадлежавших к обществу Саша. Находя ответы Карамурзина удовлетворительными и узнав, кто он, караульные попросили его заехать в дом Сашинского владельца, князя Али-Ахмета Облагу. В это время мне пришлось быть свидетелем одной из тех сцен торговли женщинами, которые ежедневно повторялись по черкесскому берегу, несмотря на все старания наших крейсеров прекратить ее вместе с подвозом военных припасов к горцам. Не оправдывая черкесов в этом деле, я не буду и строго судить их. У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продается; отец, брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме будучи сиротою, берут за нее калым. Черкесы притом не продавали своих дочерей, а продавали туркам только рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих одноверцев. Тот же самый черкес скорее решился бы убить женщину, чем продать ее гяурам на осквернение. К тому же обыкновенно они не делали своим пленникам обоего пола через продажу ни малейшего зла. Проданные мальчики нередко делались в Турции знатными людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в гаремах богатых турок. А когда на проданных выпадала несчастная доля, так был виноват не продавец: так было написано в книге судеб! Торговля женщинами была для черкесов почти необходима, а для турецких купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они занимались этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшею им со стороны русских крейсеров. В три или четыре рейса турок, при некотором счастии, делался богатым человеком и мог покойно доживать свой век; зато надо было видеть их жадность на этот живой, красивый товар.
Около берегового завала, под защитою карауливших его горцев, человек пять турок ожидали продавцов. Они бросились к нам навстречу и, узнав, что есть женщина, попросили позволение осмотреть ее. После того они по жребию определили, кому из них торговать ее, и начали переговариваться с нами, причем мы со всею восточною важностью уселись в киоске, стоявшем возле кладбища. У черкесов никакое дело не обходится без совета, потому и в этом случае каждый из нас был призван подать свое мнение. Между тем турок-посредник беспрестанно ходил от нашего общества к купцам и от купцов к нам, уговаривая ту и другую сторону согласиться на предлагаемые условия. В это время предмет торговли сидел на камне с видом величайшего равнодушия, не замечая, кажется, того, что происходило от него в самом малом расстоянии и от чего зависела его будущая судьба. Наконец, порешили торг, уступив женщину за две лошади и за два вьюка бумажных материй. За нее дали бы вчетверо больше, если б она была девушка. Когда ей объявили, что она принадлежит новому хозяину, тогда я увидел в ней перемену, которой, право, не ожидал, судя по ее прежнему настроению духа. Она пришла почти в бешенство, рыдала, рвала на себе волосы, осыпала всех упреками, так что мне не в шутку стало жаль ее. Но имам Хази успокоил меня, заметив: отчего я ее жалею, когда она сама нисколько не тоскует.
– Да она плачет и выходит из себя.
– А! – сказал имам Хази, махнув рукою, – это ничего не значит, это такой закон у марушек (женщин); смотри, не пройдет минуты, и она будет смеяться.
Имам Хази был прав. Едва турок успел посадить пленницу на лошадь, накинув на нее новое покрывало, как она уже приняла довольный вид и начала прихорашиваться, драпируясь им, сколько умела. Лошади были нужны нам самим, а товар Карамурзин роздал на месте нашим абазинским проводникам, пришедшим в неописанный восторг от его щедрости.
Направив наш путь на север по берегу моря, мы через полчаса приехали благополучно в Сочипсы к князю Облагу. Его самого не было дома, и нам не могли сказать, когда он вернется. Облагу был от Бзыба до Шахе самый значительный владелец и, подобно Гассан-бею абхазскому, ревностный мусульманин и покровитель турок, имевших в Сочипсах постоянный склад товара. Дом его, окруженный частоколом, стоял на краю селения, расположенного вдоль реки Сочи и закрытого со стороны моря густым лесом. Влияние турок у него в доме и на жителей селения было весьма заметно: намаз творился правильно, в урочные часы, и к молитве призывал мулла, которого голос весьма редко раздается у абазин, а в Медовее никогда не слышен. Переночевав в Сочипсах, мы направили наш путь на юг, к пределам Абхазии. Верстах в десяти от места нашего ночлега мы съехались с князем Али-Ахметом, возвращавшимся из-под Гагр с дружиною в несколько сот человек. Несколько человек черкесов выскакали, по обыкновению, вперед узнать, кто едет им навстречу. Имя Карамурзина было известно по берегу моря. Облагу тотчас остановился, слез с лошади, что сделал также Тембулат, и оба князя сошлись приветствовать друг друга.
Пока они разговаривали, конные черкесы окружили нас со всех сторон и с видимым любопытством рассматривали лошадей, оружие и нас самих. Закубанские черкесы нечасто приезжают к морю. Несколько человек подъезжали ко мне с вопросами; я смотрел им вопросительно в глаза и прекращал разговор одним словом: “бильмем” – не понимаю. Имам Хази и Ягыз, не говорившие ни по-абазински, ни по-черкесски, находились, к моему счастью, в том же положении. Между турецким и ногайским языками существует также довольно большая разница, что им мешало вполне понимать даже людей, разговаривавших с ними по-турецки. Из вежливости князь Облагу назначил из своей свиты четырех убыхских дворян проводить Карамурзина до первого ночлега, в Арт-куадже. Тут жил приятель Сефер-бея Маршания, дворянин Арто, которого, к нашему крайнему сожалению, мы не застали дома. Несколько дней перед нами он отправился в Батум на турецком судне. Наши новые провожатые, не знаю почему, пристали ко мне самым неотвязчивым образом, заводили со мною разговор на разных наречиях, не отставали от моей лошади и пристально рассматривали на мне каждую нитку. Напрасно я говорил им ломано по-татарски, что я чеченец, не понимаю ничего кроме собственного языка и только между моими недавними товарищами выучился сказать несколько татарских слов. Чтоб избавиться от них, я предложил Ханафу, питомцу Карамурзина, попробовать его новую лошадь, которую мы накануне выменяли у турецких купцов. Скачка не обходится у черкесов без джигитовки. Ханаф выхватил ружье. Убыхи не выдержали, понеслись за нами, и раздался выстрел за выстрелом; выстрелы были направлены в шапку, которую один из них поместил на конец своего ружья. Это их развлекло и доставило мне случай дать им очевидное доказательство моего хорошего черкесского воспитания, когда я в десяти шагах от скакавшего с шапкою выхватил ружье из чехла, пронизал шапку пулею и, на всем скаку зарядив ружье, повторил через несколько мгновений тот же маневр. Арт-куадж отделялся от моря лесистою горой. На повороте в гору убыхи нас оставили и простились со мною по-дружески, объявив, что они очень любят чеченцев, которые ловко стреляют.
Перед выездом из Арт-куаджа мы встревожились не на шутку, имея полную причину думать, что нас атакуют. Гостей не отпускают в дорогу у горцев без сытной закуски. В этот раз мы дожидались ее долее обыкновенного; наши лошади уже давно стояли оседланные перед дверьми кунахской, находившейся на покатости горы, возле которой протекала широкая и быстрая река. Едва успели убрать столы с кушаньем, и мы были заняты разбором оружия, висевшего на стене, как раздались около нас оглушающие вопли, невольно заставившие всех броситься к дверям. Тембулат первый выглянул из них, побледнел, сказал несколько слов имаму Хази и твердыми шагами пошел навстречу людям, с ружьями в руках бежавшим со всех концов селения к нашей кунахской. Не зная настоящей причины этой неожиданной тревоги, Тембулат хотел сперва удостовериться, касается ли дело действительно нас, и для этого вышел к народу без ружья, отдав его имаму Хази. На первый случай ему было довольно шашки и пистолетов; кроме того, он знал, что, видя его без ружья, абазины не бросятся на него, не сказав за что и не объяснив, чего они от нас хотят. Мы должны были между тем приготовиться, при первом знаке его вскочить на лошадей и, соединившись с ним, пробиться через толпу, взяв направление к горам, где лес давал нам возможность спастись. Можно себе представить, как у нас билось сердце и с каким напряжением следили мы за каждым движением Карамурзина, перед которым сотня или более абазин продолжали кричать и махать ружьями. Несколько мгновений мы находились в самом тягостном ожидании и тогда только вздохнули свободно, когда Карамурзин поворотился к нам и медленными шагами стал подходить к кунахской, сопровождаемый народом, шумевшим по-прежнему. Тревога, нас напугавшая, произошла по следующей причине: хозяин наш, как я уже сказал, отправился морем в Батум. В самую минуту нашего отъезда пришло известие о том, что турецкое судно, на котором он находился, захвачено русскими. Поэтому разъяренный народ бросился к его семейству изъявить горе и досаду, с которыми он принял известие о постигшем его несчастии. Успокоенные на свой счет, мы остались еще около получаса в Арт-куадже и потом медленно поехали на мыс Адлер к Аред-бею. На дороге имам Хази сказал мне шепотом: “Да, брат Гассан, если б они в это время знали, что у них русский, не вынесли бы мы наших костей; эти абазины ровно дикие звери!”
У Аред-бея собралось такое множество гостей в честь Карамурзина, что с моей стороны было бы неблагоразумно оставаться целый день у них на глазах. Мы находились в двадцати пяти верстах от Гагр, около которых разбойники из гор и с морского берега подкарауливали русских. Между ними легко мог случиться абхазец, знавший меня в лицо. По этой причине Тембулат поехал к Аред-бею с одним стариком Маршанием, а сын его Сефер-бей, имам Хази и я отправились искать гостеприимства в соседнем ауле. Все внимание жителей было обращено на Карамурзина, и я мог поэтому осмотреть на свободе долину Лиеш, известную у нас под именем мыса Адлер или Ардиллер. Со стороны моря она закрывалась густым, но весьма неглубоким лесом, перед которым находился длинный завал, прочно сложенный из огромных дерев, камней и глины. Правый фланг завала упирался в вековой лес, тянувшийся верст на десять до подножия гор, ограничивавших долину с востока. Примыкая тылом к лесу, ряд небольших аулов: Кирека, Абази, Баншерипш, Учуга, Хышхорипш, Кота и Джанхота, составляли полукруг, перед которым лежала совершенно ровная и открытая местность. Мыс Адлер принадлежал к числу тех пунктов, которые предположено было занять непременно. Увидев местность и основываясь на том, что горцы дерутся упорно только там, где их отступление совершенно обеспечено, я советовал сделать высадку прямо против завала, несмотря на его крепкий вид, и держаться сколько можно дальше от леса, лежавшего на его правом фланге. В 1837 году, когда мыс Адлер был занят нашими войсками, я находился тогда в плену, – считали иначе и понесли без нужды довольно значительную потерю, которой легко можно было избегнуть. Вместо того чтобы прямо атаковать завал, против него открыли с моря канонаду, а десантные войска направили в лес, предполагая отвлечь этим способом внимание горцев от настоящего пункта высадки или разделить по крайней мере его силы. Между тем вышло совершенно противное. Горцы от огня нашей артиллерии скрылись в лес, и направленные против него войска встретили в нем всю массу их в самых невыгодных для себя условиях. Завязалась драка в непроходимом лесу, в котором войска не видели друг друга, не знали, куда им идти и, подаваясь вперед без связи, были встречены превосходящим неприятелем, отрезавшим часть стрелковой цепи. При этом был убит один из наших известнейших писателей того времени, Марлинский (Александр Бестужев), служивший офицером, не помню именно в каком полку.
От Аред-бея оставалось нам сделать последний переезд по неприятельской земле. Этот долгий, трудный и во всех отношениях опасный переезд изобиловал весьма памятными для меня похождениями. Погода, благоприятствовавшая нам с самого начала путешествия, переменилась; с моря дул холодный ветер; вода заливала часть береговой дороги, а в двух пунктах, как говорили абазины, верст десять не доезжая до Гагр и перед самым укреплением, где скалы вдались в море, прибой совершенно отнимал возможность около них проехать. Долго мы советовались с Карамурзиным, что для нас менее опасно, пережидать ли погоду в Лиеше или без промедления искать проезда в Абхазию. Каждый лишний час, проведенный в этих местах, мог накликать на нас непредвиденную беду; безрассудно было полагаться безотчетно на счастье только потому, что оно не изменило нам до сего времени. Мы решились ехать во что бы то ни стало. Сефер-бей не без труда нашел между своими знакомыми двух человек, согласных проводить нас в Гагры; все отговаривались дурною погодой, близостью русских войск и боязнью наткнуться на бродящие вокруг разбойничьи шайки, неведомо какого племени, готовые при удобном случае напасть и на своих. Аред-бей, удерживал Карамурзина, предсказывая ему, что в такую погоду он не проедет в Абхазию, и на всякий случай поручил проводникам, если море залило дорогу, остановиться на ночь в Гечь-куадже или в Цондрыпше.
До первых скал мы проехали без труда. Тут представилось первое затруднение: морская волна ударяла с силою в их подошву, объехать было невозможно, и мы перешли через них по головоломной тропинке, рискуя упасть сами или уронить в море наших лошадей. В виду Гагр проводники остановились, объявив решительно, что далее вести нас не могут. Отвесные скалы перегораживали дорогу; прибой ударял в них с оглушающим шумом. В гору вела едва приметная дорожка, про которую проводники уверяли, что она в недальнем расстоянии делается невозможною для лошадей, а потом поворачивает в сторону и, сделав огромный крюк, спускается к укреплению с южной стороны. Проводники уверяли также, что русские имеют обыкновение стрелять из орудий в людей, показывающихся возле скал, и хотя не отказывают в проезде черкесам, имеющим надобность до них или до абхазского владетеля, но что для этого необходимо послать в укрепление объясниться одного или двух человек: иначе нас примут выстрелами. Пока мы еще советовались, что нам следует делать, над укреплением, находившимся от нас в расстоянии восьмисот сажен, взвился дымок и вслед за ним восемнадцатифунтовое ядро пролетело со свистом над нашими головами. Это очень не понравилось провожавшим нас абазинам, которые, посоветовав нам закрыться скалами, требовали от Карамурзина, чтобы он решился или ехать ночевать в один из соседних аулов, или немедленно послал кого-нибудь в Гагры просить у коменданта пропуска; но сами они не хотели сделать вперед ни одного шага. Тембулат поручил идти в укрепление имаму Хази и мне, что мы немедленно исполнили. Имам Хази не соглашался оставить своей лошади, а поэтому и я не расстался с своею. Сначала мы проехали несколько сот шагов верхом, потом были принуждены спешиться, версты полторы прошли по тесной и крутой тропинке, которая, удаляясь от моря, завела нас в высокий лес. Тут не было и следа дороги. Напрасно старались мы пробраться на гребень, за которым лежали Гагры; везде представлялись нам одни отвесные скалы или скользкая крутизна, по которой не только наши лошади, но и мы сами не могли вскарабкаться на гору. Солнце погрузилось в море, в лесу настала совершенная темнота, и мы поневоле должны были вернуться назад к тому месту, где остался Карамурзин. На другой день мы надеялись быть счастливее и отыскать дорогу; к тому же ветер мог перемениться ночью и доставить нам возможность проехать в укрепление мимо скал. К нашему крайнему удивлению, мы не нашли Карамурзина там, где расстались с ним, и, полагая, что он отправился ночевать в Цондрыпш, находившийся верст десять позади, поскакали его догонять. Около получаса неслись мы во всю прыть, в надежде увидать, по крайней мере издали, наших товарищей: береговая дорога, сжатая между морем и горами, покрытыми густым лесом, при ярком лунном свете далеко открывалась нашим глазам. Все было пусто на ней. Наше положение становилось критическим. Без проводников, не зная ни слова по-абазински, мы не могли ехать ни в какой аул; на дороге мы не могли также оставаться. Каждый встречный был для нас враг. Даже от одиночного человека мы не смели обороняться, потому что выстрелы около русского укрепления могли быть приняты за тревогу и созвать к нам невесть сколько неприятелей. А потом как с ними объясниться? О ногайцах приморские абазины не имели никакого понятия; и если абхазцы не задумались перебить незнакомых им черкесских Хаджиев, то по какой причине стали бы абазины жалеть нас? К довершению беды обе наши лошади были светло-серые и при луне видны издалека. Нам непременно надо было спрятаться на ночь, поутру скакать к Гаграм, возле скал бросить лошадей, пешком спастись в укрепление и там ждать известия от Карамурзина. Но и скрыться было нелегко; горы, примыкавшие к морю, в редком месте позволяли втащить на них лошадей. Не думая долго, мы поехали опять назад отыскивать удобное место для ночлега и нашли его около небольшого ущелья. Взобравшись не без труда на покатость горы, шагах в пятидесяти от береговой дороги, мы залегли в лесу, который, к несчастью, оказался довольно редким и не скрывал достаточно наших светлых лошадей. Это заставило нас привязать их к дереву в одном месте, а самим, вынув ружья из чехлов и накрывшись бурками, лечь поодаль. Таким образом, мы могли бы увидеть приближающегося неприятеля и встретить его из засады. Несколько времени мы пролежали в таком положении, не видя никого и не слыша ничего, кроме шума морской волны, мерно ударявшей в берег; потом стали долетать до нас и другие звуки: треск сучьев, удары топора и человеческие голоса. Нельзя было сомневаться, что недалеко от нас, в ущелье, находятся люди; но кто они: Тембулат с товарищами или чужие, – это надо было сперва разведать с величайшею осторожностью.
Имам Хази остался караулить лошадей, а я, с ружьем в руке, отправился рекогносцировать ущелье. Колючие кусты, беспрестанно цеплявшиеся за мою черкеску, не позволяли мне скоро пробираться через лес; кроме того, необходимость идти без шума заставляла меня также ступать потихоньку, прислушиваясь и вглядываясь вдаль на каждом шагу. За первым поворотом скал я увидел, в расстоянии ружейного выстрела, небольшой огонь, около которого мелькали людские тени. Можно было подумать, что это наши товарищи, заехавшие сюда ночевать; но в этом надо было сперва удостовериться, чтобы не накликать на себя напрасно беды. Я лег на землю и начал подбираться к ним ползком. Колючки рвали на мне черкеску, царапали грудь и руки; несмотря на боль, я продолжал подаваться вперед, избегая малейшего шороха, пока мне не удалось распознать, что тут не было лошадей, следственно это не мог быть Карамурзин. Около огня находились пять человек абазин, которые, готовя ужин, и не воображали, что так близко около них поселились чужие гости, представлявшие хотя и не совершенно безопасную, но все-таки очень соблазнительную поживу лошадьми и оружием. Так же тихо и осторожно, как подобрался к ним, вернулся я обратно к имаму Хази. Неприятное соседство открытых мною абазин заставляло нас быть вдвое осторожнее. Усталость смыкала наши глаза; трудно было преодолеть сон, и, чтобы совершенно не измучиться, мы согласились караулить поочередно, сперва я, а потом имам Хази. “Смотри же, брат, не спи; помни, что от хорошего караула зависит наша жизнь; пожалуй, зарежут спящих, как баранов; эти абазины ровно дикие звери”, – сказал мне имам Хази, укутываясь в бурку. Отбыв свою очередь, не смыкая глаз, я разбудил имама Хази, повторил ему его собственное наставление и тотчас заснул. Перед рассветом свежий ветер пахнул мне в лицо, я проснулся и тотчас посмотрел, что делает имам Хази, не понимая, почему он не разбудил меня раньше, как было условлено. Причина была самая основательная. Он лежал на спине, стиснув ружье в откинутой руке, и храпел так громко, что разве один шум морского прибоя не позволял слышать на берегу его легкого сна. Я разбудил его хорошим толчком. Мы поспешно стерли с ружей росу, переменили порох на полке, вскочили на лошадей и понеслись к Гаграм без оглядки. Зоркий глаз имама Хази узнал еще издали Карамурзина, товарищей его и проводников, стоявших на вчерашнем месте, возле скал. Увидав нас, Карамурзин вскрикнул от удивления; он был уверен, что мы еще накануне пробрались в укрепление, и поэтому отправился ночевать в лесу недалеко от того места, на котором он с нами расстался; мы же проехали назад гораздо дальше. Абазины-проводники, узнав через Тембулата подробности нашего ночного положения, покачали только головой, прибавив, не каждому дается такое счастье уцелеть на берегу при подобных обстоятельствах: “Видно, Аллах вас особенно хранит”.
Ветер сделался потише, но море все еще шумело и прибой не позволял ехать мимо скал. Между тем сам Карамурзин видел необходимость пробраться в укрепление не теряя времени. Проводники во всем находили непреоборимые трудности, морщились, подозрительно всматривались в нас и никак не хотели нам указать дороги через гору. Сефер-бей Маршаний, хорошо знакомый с привычками приморских абазин, тихомолком шепнул Карамурзину не доверяться указаниям проводников и спешить в Абхазию. Наконец проводники, уступая убеждениям Сефер-бея, сказали Тембулату, что если он никак не хочет или не может выждать хорошей погоды, так есть еще путь в Гагры, разумеется, только для пешего человека, родившегося в горах, который не боится, что у него закружится голова и что ему изменит нога, и при этом указали на крутую, гладкую скалу, отделявшую нас от Гагр. Тут не было и следа дорожки. На протяжении шести или семисот саженей скала, подобно отвесной стене, кое-где испещренной расселинами и небольшими уступами, вдавалась в море, с шумом разбивавшееся об ее подошву. “Дайте клятву, что здесь ходили люди”, – сказал им Тембулат. “Готовы присягнуть, – отвечали проводники, – только повторяем, что для этого надо родиться в горах”. Вместо ответа Тембулат подозвал к себе Сефер-бея, поговорил с ним наедине, приказал Ягызу и Ханафу принять всех лошадей, а мне и имаму Хази посоветовал снять чувяки и засучить ноговицы, что сделал и сам. Проводники следили с злобною улыбкой за нашими приготовлениями. Когда они кончились, он подозвал к себе абазин, одному подарил пистолет, другому кинжал, оправленные серебром. “Это вам на память за хорошее указание; а теперь смотрите, как ходят по горам люди, которые в них родились. Пойдем!”. Босые, имея в руках ружья не вынутые из чехлов, потому что за плечом они только бы мешали, мы стали лепиться по скале, пользуясь расселинами и уступами, на которых едва помещалась нога. Помогая друг другу то подачей руки, то ружьями, мы подавались вперед шаг за шагом, как позволяли трещины и уступы, которые, как я говорил, поднимались высоко в гору, спускались к самому морю, обдававшему нас брызгами волн, дробившихся о скалу, и наконец, после трехчасового лазанья, добрались до Гагр.