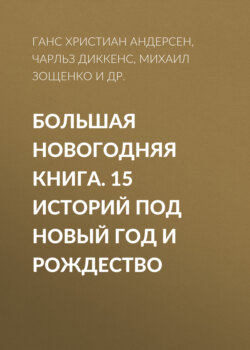
001
ОтложитьЧитал
– Пустяки, – сказала она тихо и нежно. – Пустяки – для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.
– Какой же это кумир? – спросил Скрудж.
– Деньги.
– В ваших словах беспристрастный приговор света! Такова людская правда! – сказал он. – Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.
– Вы уж слишком боитесь света, – ответила она кротко. – Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это не правда?
– Что же из того? – возразил он. – Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменился по отношению к вам?
Она покачала головой.
– Переменился?
– Союз наш был заключен давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменились. В то время вы были другим.
– Я был тогда мальчишкой, – сказал Скрудж с нетерпением.
– Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, – ответила она. – Я же осталась такою же, как прежде. То, что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какою болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже все обдумала и решила освободить вас от вашего слова.
– Разве я просил этого?
– Словами? Нет. Никогда.
– Тогда чем же?
– Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было, – сказала девушка, смотря на него кротко и твердо. – Ну скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно, нет.
Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собою усилие, он сказал:
– Вы сами не убеждены в том, что говорите.
– Я была бы рада думать иначе, – сказала она, – но не могу – видит Бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы, все оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас, и делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.
Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:
– Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но все же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том жизненном пути, по которому вы пойдете.
И они расстались.
– Дух, – сказал Скрудж, – не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?
– Еще одна тень, – воскликнул дух.
– Довольно! – вскричал Скрудж. – Не надо! Не хочу ее видеть! Не надо!
Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.
Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки ее матери – пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя как один ребенок, – нет, наоборот, каждый из них старался вести себя как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись и радовались этому от души. Последняя скоро приняла участие в игре, и маленькие разбойники начали немилосердно тормошить ее. О, как бы я желал быть на месте одного из них! Но я никогда бы не был так груб! Никогда! За сокровища целого мира я не решился бы помять этих заплетенных волос! Даже ради спасения своей жизни я не стащил бы этот маленький, бесценный башмачок! Никогда я не осмелился бы обнять этой талии, как то делало в игре дерзкое молодое племя: я бы ожидал, что в наказание за это моя рука скрючится и никогда не выпрямится снова, и, однако, признаюсь, я дорого бы дал, чтобы прикоснуться к ее губам, спросить ее о чем-нибудь – и только для того, чтобы она раскрыла их, чтобы смотреть на ее опущенные ресницы, распустить ее волосы, самая маленькая прядь которых была бы сокровищем для меня. Словом… я желал бы иметь право хотя бы на самую ничтожную детскую вольность, но в то же время хотел бы быть и мужчиной, вполне знающим ей цену.
Но вот послышался стук в дверь – и тотчас же вслед за этим дети так ринулись к двери, что девушка со смеющимся лицом и помятым платьем, попав в самую средину раскрасневшейся буйной толпы, была подхвачена ими и вместе со всей ватагой устремилась приветствовать отца, возвратившегося домой в сопровождении человека, который нес рождественские подарки и игрушки.
Толпа детей тотчас же бросилась штурмом на беззащитного носильщика. Дети взлезали на него со стульев, заменявших им приставные лестницы, залезали к нему в карманы, тащили свертки в оберточной коричневой бумаге, крепко вцеплялись в его галстук, колотили его по спине и брыкались в приливе неудержимой радости. И с какими криками восторга развертывался каждый сверток! Какой ужас охватил всех, когда один из малюток был захвачен на месте преступления в тот момент, когда он положил кукольную сковородку в рот, и какое отчаяние вызывало подозрение, что он же проглотил игрушечного индюка, приклеенного к деревянному блюду, и как спокойно вздохнули все, когда оказалось, что все это – ложная тревога. Шум смолк, и дети постепенно стали удаляться наверх, где и улеглись спать.
Скрудж стал еще внимательнее наблюдать.
Он видел, как хозяин, на которого нежно облокотилась дочь, сел рядом с ней и женою у камелька. Взор Скруджа омрачился, когда он представил, что это милое, прелестное существо могло называть его отцом, согревать зиму его жизни.
– Бэлла, – сказал мужчина, с улыбкой обращаясь к жене. – Сегодня я видел твоего старого друга.
– Кого?
– Угадай.
– Как же я могу! Ах, знаю, – прибавила она, отвечая на его смех. – Мистера Скруджа?
– Да. Я проходил мимо окна его конторы, и, так как оно не было заперто, а внутри горела свеча, я видел его. Его компаньон, я слышал, умер, и теперь он сидит один, совсем один в целом мире.
– Дух, – сказал Скрудж с дрожью в голосе, – уведи меня отсюда!
– Я ведь сказал тебе, что это тени минувшего, – сказал дух.
– Уведи меня! – воскликнул Скрудж. – Я не перенесу этого!
Он повернулся и встретил взгляд духа, в котором странным образом сочетались отрывки всех лиц, только что им виденных.
– Оставь меня, уведи меня, не смущай меня более!
Не высказывая ни малейшего сопротивления всем попыткам Скруджа, дух, однако, остался непоколебим, и только свет, исходивший от него, разгорался все ярче и ярче.
И, смутно сознавая, что сила духа находится в зависимости от этого света, Скрудж внезапно схватил гасильник и с силой надавил его на голову духа.
Дух съежился под гасильником, закрывшим его всего. Несмотря на то что Скрудж надвигал гасильник со всей присущей ему силой, он все-таки не мог погасить свет, лившийся из-под него непрерывным потоком.
И вдруг он почувствовал себя в своей спальне сонным, разбитым. Сделав последнее усилие придавить гасильник, при котором совсем ослабела его рука, он, едва успев дойти до кровати, погрузился в глубокий сон.
Строфа III. Второй дух
Всхрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьет час, и почувствовал, что пришел в себя именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яковом Марли. Скруджу очень хотелось знать, какую из занавесок теперь отодвинет призрак. Но, ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улегся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение.
Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно все равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разуверять вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом и, пожалуй, не особенно бы поразился, увидав вместо грудного младенца носорога.
Приготовясь ко всему, Скрудж, однако, никак не предполагал, что ничего не увидит, а потому, когда колокол пробил час и никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло пять, десять минут, четверть часа – ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели, освещаемый потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов, – лежал до тех пор, пока часы не пробили час. Порой у него возникало опасение – не происходит ли уж в этот момент редкий случай самосгорания, но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твердо убежден.
Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которая нам с вами, читатель, пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает: человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать.
Итак, говорю я, Скрудж, наконец, решил, что источник и разгадка этого таинственного света находится в соседней комнате, откуда, по-видимому, и исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошел в двери.
В ту минуту, когда Скрудж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти.
Он повиновался.
В том, что это была его собственная комната, не могло быть ни малейшего сомнения, но с ней произошла изумительная перемена. Стены и потолок были задрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи; на каждой ветви ярко горели блестящие ягоды. Кудрявые листья остролиста, омелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скрудже и Марли за много, много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюшки, гуси, дичь, свинина, крупные части туш, поросята, длинные гирлянды сосисок, пудинги, бочонки устриц, докрасна раскаленные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринужденно сидел приятный, веселый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия, и высоко поднял его, так чтобы свет падал на Скруджа, когда тот подошел к двери и заглянул в комнату.
– Войди! – произнес дух. – Познакомимся поближе.
Скрудж робко вошел и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым и раздражительным Скруджем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними.
– Я дух нынешнего Рождества, – сказал призрак. – Приглядись ко мне.
Скрудж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную темно-зеленую мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нем так свободно, что не вполне закрывала его широкой обнаженной груди, словно пренебрегавшей каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из остролиста, усеянный сверкающими ледяными сосульками. Его темные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых, искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса, от его свободных, непринужденных движений веяло добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчиной и пустые.
– Ты никогда не видал подобного мне? – воскликнул дух.
– Никогда, – отвечал Скрудж.
– Разве ты никогда не входил в общение с младшими братьями моей семьи, рожденными в последние годы и из которых я самый младший? – продолжал дух.
– Кажется, нет, – сказал Скрудж. – Много ли у тебя братьев, дух?
– Более тысячи восьмисот, – сказал дух.
– Вот так семья! – проворчал Скрудж. – Попробуй-ка ее прокормить!
Дух нынешнего Рождества встал.
– Дух, – сказал покорно Скрудж, – веди меня, куда хочешь. По воле духа, я пространствовал всю прошлую ночь и признаюсь, полученный мною урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями.
– Прикоснись к моей одежде.
Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию.
Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш – все мгновенно исчезло. Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек.
Окна мрачных стен домов казались еще мрачнее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжелыми колесами карет и ломовых фур был изрыт, точно плугом, – глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрестках улиц, где они так перепутались в желтой густой, ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить.
Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от темной влажно-ледяной мглы, насквозь пропитанной сажей дымовых труб, частицы которой вместе с туманом спускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю.
Несмотря на то что ни в погоде, ни в городе не было ничего веселого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца.
Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы; они перекликались друг с другом из-за перил, перебрасывались снежками – перестрелка более невинная, чем шутки словесные, – и одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо.
Между тем как лавки с битой птицей были еще не вполне открыты, фруктовые уже сияли во всем своем великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты веселых пожилых джентльменов, которые вследствие своей чрезмерной полноты подвержены апоплексии и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый, красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукаво игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной скромностью – на висящие вверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихотью лавочников кисти винограда были развешены весьма затейливо, весьма соблазнительно для прохожих. Груды коричневых, обросших мхом лесных орехов своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушеные яблоки из Норфолка, смуглым цветом еще резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочны и мясисты и, казалось, так и просились, чтобы их, в бумажных мешках, разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов – тупые существа с холодной кровью, – кругообразно и беззаботно плавая в своем маленьком мирке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное.
А лавки колониальных товаров! Они еще заперты. Быть может, снята только одна-другая ставня. Но чего-чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна!
Чашки весов с веселым звуком спускались на прилавок, бечевки быстро разматывались с катушки, жестянки с громом передвигались, точно по мановению фокусника, смешанный запах кофе и чаю так приятно щекотал обоняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей! Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту! Винные ягоды сочны и мясисты, французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках – все, все в своем праздничном убранстве приобретало особый вкус!
Но этого мало. Надо было видеть покупателей! В ожидании праздничных удовольствий, они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях (причем их ивовые корзины трещали самым ужасным образом), забывали покупки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя, однако, прекрасного расположения духа.
Но скоро с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами, двинулась по улицам. Тотчас же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, несших в булочные свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа, и он, остановясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел: всякий раз, когда прохожие, натолкнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становились добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы.
Спустя некоторое время колокола смолкли, булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались следы в виде влажных талых пятен, глядя на которые было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымились, словно самые камни варились.
– Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на нее? – спросил Скрудж.
– Да. Вкус присущий только мне.
– Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?
– Всякий, который дают радушно. Особенно же обеды бедных людей.
– Почему? – спросил Скрудж.
– Потому что бедняки нуждаются в обеде более чем кто-либо другой.
– Дух, – сказал Скрудж, после минутного раздумья. – Меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями.
– Я? – воскликнул дух.
– Ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресенье, а ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески, – сказал Скрудж.
– Я? – воскликнул дух.
– Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты, – сказал Скрудж.
– Я стараюсь? – воскликнул дух.
– Если я неправ, прости меня. По крайней мере это делается от твоего имени или от имени твоей семьи, – сказал Скрудж.
– Много людей на земле, – возразил дух, – которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себялюбия. Но люди эти нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас.
Скрудж обещал, и они, оставаясь так же, как и прежде, невидимыми, направились в предместья города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том (Скрудж заметил это в булочной), что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспособляться ко всякому месту и так же удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чем добрый дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к писцу Скруджа, в дом которого он вошел вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери дух улыбнулся и остановился, дабы кропанием из факела благословить жилище Боба Крэтчита. Ведь только подумать! Боб зарабатывал всего пятнадцать шиллингов в неделю; в субботу он положил в карман пятьдесят монет, носивших его же имя «Боб»[1],–и, однако, дух благословил его дом, состоявший всего из четырех комнат. В это время мистрис Крэтчит встала. Она была бедно одета в платье уже вывернутое два раза, но украшенное дешевыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью, Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Петр погрузил вилку в кастрюльку с картофелем и, несмотря на то, что углы его большого воротника (воротник этот принадлежал Бобу, который по случаю праздника передал его своему сыну и наследнику) лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы свое белье даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких Крэтчита, мальчик и девочка, сломя голову вбежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая с восхищением о шалфее и луке, маленькие Крэтчиты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Крэтчита, который, несмотря на то что воротнички окончательно задушили его, продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать, – знак, что наступило время вынуть и очистить его.
– Что случилось с вашим отцом и братом, Тайни-Тимом? – спросила мистрис Крэтчит. – Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса.
– А вот и я, мама! – сказала, входя, девушка.
– Вот и Марта, – закричали два маленьких Крэтчита. – Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!..
– Что же это ты так запоздала, дорогая? Бог с тобою! – сказала мистрис Крэтчит, целуя дочь без конца и с ласковой заботливостью снимая с нее шаль и шляпу.
– Накануне было много работы, – ответила девушка, – кое-что пришлось докончить сегодня утром.
– Все хорошо, раз ты пришла, – сказала мистрис Крэтчит. – Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да благословит тебя Бог!
– Нет, нет! – закричали два маленьких Крэтчита, которые поспевали всюду. – Вот идет отец! Спрячься, Марта, спрячься!
Марта спряталась. Вошел сам миленький Боб, закутанный в свой шарф длиною в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопано и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни-Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки.
– А где же наша Марта? – вскричал Боб Крэтчит, осматриваясь.
– Она еще не пришла, – сказала мистрис Крэтчит.
– Не пришла, – сказал Боб, мгновенно делаясь грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конем для Тайни-Тима. – Не пришла в день Рождества!
Хотя Маргарита сделала все это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкапа и бросилась к отцу в объятия. Два маленьких Крэтчита унесли Тайни-Тима в прачечную послушать как поет пудинг в котле.
– А как вел себя маленький Тайни-Тим? – спросила мистрис Крэтчит, подшучивая над легковерием Боба, после того как он долго целовался с дочерью.
– Прекрасно, – сказал Боб. – Это золотой ребенок. Он становится задумчивым от долгого одиночества и потому ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его убожества с радостью вспомнили о Рождестве и о том, кто исцелял хромых и слепых. – Все это Боб говорил с дрожью в голосе и волнением, которое еще более усилилось, когда он выражал надежду, что Тайни-Тим будет здоров и крепок.
По полу раздался проворный стук его костыля, и не успели сказать и одного слова, как Тайни-Тим вместе со своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина, – как раз в то время, когда Боб, засучив рукава (Бедняк! Он воображал, что их возможно износить еще более!), составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из джина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Петр и два маленьких Крэтчита отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись.
С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь самая редкая птица из всех пернатых – чудо, в сравнении с которым черный лебедь самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме.
Заранее приготовленный в кастрюльке соус мистрис Крэтчит нагрела до того, что он шипел, Петр во всю мочь хлопотал с картофелем, мисс Белинда подслащивала яблочный соус, Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв Тайни-Тима, Боб посадил его за стол рядом с собою на углу стола. Два маленьких Крэтчита поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя, и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди.
Наконец блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, затаив дыхание, замолчали. Мистрис Крэтчит, тщательно осмотрев большой нож, приготовилась разрезать гуся, и, когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, вокруг поднялся такой шепот восторга, что даже Тайни-Тим, подстрекаемый двумя маленькими Крэтчитами, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском закричал: «Ура!»
Нет, никогда не было такого гуся! По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготовлялся такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протертым картофелем, гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку, мистрис Крэтчит заметила, что гуся съели не всего. Однако все были сыты, и особенно маленькие Крэтчиты, которые сплошь выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а мистрис Крэтчит выбежала из комнаты за пудингом, взволнованная и смущенная.
– А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда они ели гуся. – Это были такие предположения, от которых два маленьких Крэтчита побледнели как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы.
Целое облако пару! Пудинг вынули из котелка, и от салфетки вошел такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг! Спустя пол минуты явилась мистрис Крэтчит, раскрасневшаяся и гордо улыбающаяся, с пудингом, похожим на пестрое пушечное ядро, крепким и твердым, кругом которого пылал ром, а на вершине в виде украшения был пучок остролиста.
Какой дивный пудинг! Боб Крэтчит заметил – и притом спокойно, – что мистрис Крэтчит со времени их свадьбы ни в чем не достигала такого совершенства.
Почувствовав облегчение, мистрис Крэтчит призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик, хотя все сознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это.
Наконец, обед кончен, скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли ее превосходной; яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Боб называл «кругом», подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда: два стакана и стеклянная чашка без ручки.
Но посуда эта вмещала все содержимое из кувшина не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток.
– С праздником вас, с радостью, дорогие! Да благословит вас Бог!
Вся семья и последним Тайни-Тим повторили это восклицание.
Тайни-Тим сидел рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут у него, и хотел удержать.
– Дух, – сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал, – скажи, будет ли жив Тайни-Тим?
– В уголке, возле камина, я вижу пустой стул, – ответил дух, – и костыль, который так заботливо оберегают! Если тени не изменятся, ребенок умрет.
– Нет, нет! – воскликнул Скрудж. – О нет! Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его.
– Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, – сказал дух. – Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения.
Скрудж склонил голову, услышав свои собственные слова, и почувствовал печаль и раскаяние.
– Человек, – сказал дух, – если в тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами Бога, может быть, ты более недостойный и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребенку этого бедняка. Боже! Каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама, букашках, живущих в пыли и прахе!
Скрудж, дрожа, наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав свое имя.
– За мистера Скруджа! – сказал Боб. – Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника.
– Действительно, виновник праздника! – воскликнула мистрис Крэтчит, краснея. – Как бы я хотела, чтобы он был здесь. Я бы все высказала ему откровенно, и думаю, мои слова не пришлись бы ему по вкусу.
– Дорогая моя, – сказал Боб, – ведь сегодня день Рождества!
– Конечно, – сказала она, – только ради такого дня и можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Никто лучше тебя не знает его, бедный Роберт!
– Дорогая, – кротко ответил Боб, – ведь сегодня Рождество!
– Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье, – сказала мистрис Крэтчит, – но не ради Скруджа. Дай Бог ему подольше пожить! Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год! Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!
После нее выпили и дети. Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни-Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был истым чудовищем для всей семьи, упоминание его имени черной тенью осенило всех присутствующих, и эта тень не рассеивалась целых десять минут.
Но после того, как они отделались от воспоминаний о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в десять раз веселее.



