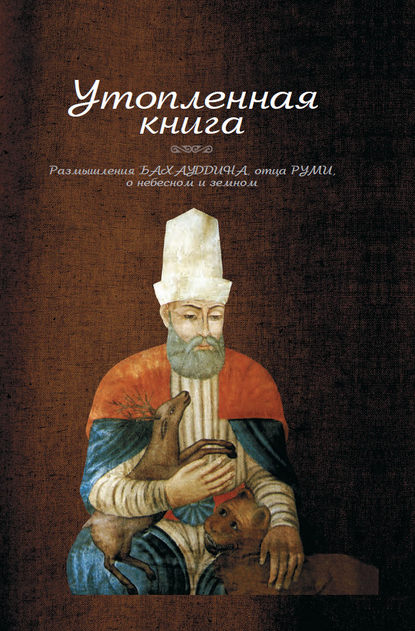Утопленная книга. Размышления Бахауддина, отца Руми, о небесном и земном
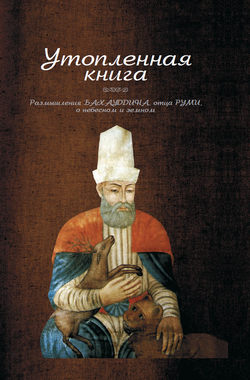
000
ОтложитьЧитал
Для отцов, взросления и освобождения от узнанного
«Маариф» Бахауддина
Эта книга знакомит читателя с рукописью, известной как «Маариф»1. Она написана Бахауддином Валадом (1152—1231), отцом поэта-мистика Руми. «Маариф» – это собрание духовных наитий, вопросов и ответов, бесед с Богом, комментариев на стихи Корана, рассказов, стихотворных строк, откровений, медицинских рецептов, памяток по садоводству, записей снов, шуток, эротических эпизодов и мыслей по разным поводам. Эти многослойные залежи мистического «перегноя» – благодатная почва для внутреннего роста читателя.
За исключением Шамса Тебризи, ближайшего друга Руми, никто не имел такого влияния на поэта в плане формирования сознания, как его отец. «Маариф» упоминается в одной из легенд о встрече Руми и Шамса. Руми беседует с учениками у фонтана в Конье. Дневник Бахауддина лежит раскрытым на бортике фонтана. Шамс прерывает беседу и сбрасывает в воду драгоценную рукопись и другие книги.
– Зачем ты это сделал? – спрашивает Руми. – Ведь это единственная копия рукописи отца.
Шамс в ответ:
– Настало время облечь жизнью прописи и слова. А хочешь, я верну книгу? Сухой? Смотри.
И он достает из воды список. На нем – ни капли воды.
Итак, пробуждение Руми случилось в точке встречи мощных влияний Шамса и Бахауддина, хотя последние сами никогда не встречались. Бахауддин умирает в 1231 году, до встречи Шамса с Руми в 1244 году. Эти двое – страстные, до дерзости, своеобразные мистики. Они проникновенно и пылко толкуют дружбу с божеством. Не будучи поэтом, Бахауддин высекает «ослепительно сияющие, боговдохновенные глыбы персидской прозы, пассажи, причудливая чувственная образность которых передает накал его любви к Богу» (Анна-Мария Шиммель). А речи Шамса буквально насквозь пропитаны пылким вызовом, непримиримостью и насмешкой2. Оба они страстно жаждут еще большей близости и внутренней подвижности в присутствии.
В Беседе 10 Руми рассказывает случай, когда к его отцу пришел чиновник, занимающий высокий пост. Бахауддин говорит ему, что не стоило утруждать себя понапрасну.
«Разные состояния нисходят на меня. В одном состоянии я могу говорить, в другом – не могу. Иногда я способен выслушать человека и ответить ему, а иногда – нет. В иных состояниях я уединяюсь в своей комнате, чтобы никого не видеть. При большем погружении в Бога я полностью ухожу в себя и не в состоянии общаться. Так что вы рискуете, придя ко мне и рассчитывая на то, что я буду в состоянии вести беседу».
Бахауддин обитает в своей неистовой властной душе. Во всеуглубляющемся предании себя Богу он омывается, как растение – сезонными дождями. Он настолько не властен над собой, что даже не может сказать, когда будет способен дать совет или ответить друзьям. Он всегда наедине со своей неукротимой внутренней жизнью. Его всеподчиняющая спонтанность в состоянии обескуражить любого посетителя. В этих строках каждый ощущает неотступный напор искренности. Как бы мы его ни характеризовали, ясно одно: Бахауддин всегда остается самим собой.
Еще один подобный случай. Как‐то ученики Бахауддина застали его в состоянии восхищенности. Они пришли, чтобы вместе с ним совершить вечернюю молитву – а он даже не заметил их, оставаясь безмолвным и отсутствующим. Двое учеников сели возле мастера в надежде разделить с ним благословенное состояние. Другие повернулись в сторону Мекки и начали молитву с имамом. Хавджеги был среди последних. Во время молитвы его внутреннее око открылось и он увидел, что те, кто повернулся спиной к Бахауддину и лицом к Мекке, на самом деле отвернулись от божественного света, а те, кто сидел с Бахауддином в его самадхи, сгорают от страсти быть испепеленными этим светом – согласно божественному повелению «умри до того, как умрешь».
Бахауддин родился в 1152 году и умер в Конье в 1231 году. Его отец, Джалалуддин Хосейн, умер, когда Бахауддину было два года. Семейное предание гласит, что его мать за руку ввела мальчика в библиотеку, которая осталась от отца Хосейна, Ахмада аль-Хатиби. «Благодаря этим трудам меня отдали в жены твоему отцу. Прочтя эти книги, твой отец обрел то духовное знание, которое позволило ему занять столь почетное место в мире ислама». В этом роду книги были мощным духовным подспорьем, и для семьи было очень важно, что вспышка мистической пробужденности была инициирована женщиной. Благодаря такому заделу, Бахауддину суждено было стать «Владыкой людей знания», «Султаном мистического постижения»3.
В 1207 году, когда родился Руми, Бахауддин принимал участие в ожесточенных дебатах в Балхе, – эти споры бушевали, по крайней мере, столетие. Упрощая, можно сказать, что это была дискуссия между мистиками и философами, между полагающимися на духовное переживание и теми, кто принял доктринальное уложение и следовал ему.
Газали (ум. в 1111 г.), нападками на рационалистическую философию греческой ориентации, положил начало этим спорам. Бахауддин разделял взгляды Газали. Его главным противником был философ Фахруддин Рази. Оба они были друзьями правителя. Рази обвинил Бахауддина в притязаниях на верховную власть. Рассказывают, что правитель послал Бахауддину ключи от своей казны и корону. Бахауддин ответил, что власть над земным царством не для него и что он готов покинуть страну, чтобы пресечь слухи о подобных притязаниях. Видимо, как раз в 1212 году, когда Руми было пять лет, Бахауддин с семьей отправился в добровольное изгнание в Самарканд. Потом они вернулись в Балх, а в 1219 году вновь пустились в путь. Он пролегал через Нишапур, Багдад, Мекку, Дамаск, Ларанду и привел их в Конью. До отъезда из Балха Бахауддин произнес проповедь перед правителем при большом стечении народа и предрек разрушение города монгольскими ордами и уничтожение царской власти. Все это случилось в следующем, 1220 году.
Аллаудин Кайкубад из Сельджуков, просвещенный правитель области, известной как Рум, пригласил Бахауддина в Конью, где для него была построена школа. Спустя два года Бахауддин, духовный лидер общины Коньи, умер в возрасте восьмидесяти лет. Султан передал высокий пост его сыну, Джалалуддину. Руми тогда было двадцать четыре года.
Список «Маарифа» Руми – та самая утопленная книга – так и не был найден. Издание «Маарифа» Фурузанфара, осуществленное на персидском языке, с которым мы и работали, – это два тома общим объемом в девятьсот сорок страниц. Подборка, представленная здесь, дает лишь общее впечатление об обширном документе, который так любил Руми. Он столько раз читал его, что полностью вместил в свое сердце. Как‐то он целую ночь напролет по памяти пересказывал «Маариф» своего отца, при этом один из его учеников записывал текст, а другой сушил у огня чернила на исписанных листах. Видный исследователь Анри Корбэн говорит: «Маариф», обширное собрание мистических наставлений почтенного шейха Бахауддина, нельзя игнорировать, если мы хотим понять духовную доктрину его сына». Можно предположить, что книга отца была постоянным спутником Руми в течение тринадцати лет – со времени смерти Бахауддина до встречи с Шамсом. Шамс неоднократно уговаривал Руми отвлечься от слов Бахауддина – вплоть до того, чтобы не обращаться к ним даже во сне. Шамсу были открыты сновидческие состояния Руми.
В тринадцатом веке рукопись «Маарифа» была раритетом, существовало всего несколько копий, а Руми помнил весь текст наизусть. «Маариф» никогда не издавался для широкой публики и циркулировал как частный документ. С момента создания и до наших дней рукописи «Маарифа» никогда не «терялись», выпадая из обихода, как, например, свитки «Мертвого моря», однако в течение нескольких веков они определенно оставались на полках библиотек невостребованными. Опубликован немецкий перевод4, но он не получил широкой известности, а теперь стал библиографической редкостью. А. Дж. Арберри включил двадцать фрагментов из «Маарифа» в свою книгу «Аспекты исламской цивилизации, отраженные в аутентичных текстах»5.
Возможно, некоторые из дневниковых заметок были значимы лишь для самого Бахауддина: не исключено, что таким образом он намечал темы для позднейшей разработки. К подобным материалам могут относиться памятки по садоводству, различные снадобья. Он не предполагал, что эти заметки будет читать кто‐то еще. Другие фрагменты явно навеяны пророческим откровением, чем‐то напоминающим изумительные главы, завершающие Коран, в которых выражены краткие вспышки откровений на определенные образы и процессы. В Коране эти суры называются «Послеполуденное время», «Заря», «Смоковница», «Сгусток», «Звезда», «Утро». В «Маарифе» можно найти и такие темы, как заживление раны, усвоение пищи, суть желания во всем желаемом. В одном месте («Маариф» 1:151—153) Бахауддин в глубоком молитвенном состоянии просит Бога наделить его даром передачи священных текстов. Надеемся, что и нам удалось уловить и адекватно передать поражающую смелость этих фрагментов, повседневность других и колоритное разнообразие наиболее примечательных частей.
Главы книги Бахауддина сразу же поражают читателя удивительным проникновением в мир желаний. В молитве он просит, чтобы его желания были более пылкими. Когда энергия его желания возрастает, он ощущает в себе движение божественного. Этим он напоминает Уильяма Блейка: «Энергия – это вечное блаженство. Вечность – это любовь к произведениям времени», – вот мудрость энергии по Блейку и Бахауддину. То, что питает тело, питает и душу. «Без противоположностей нет прогресса»6. Бахауддин часто искренне молится о том, чтобы его желания обострились. Под этим он имеет в виду жить телом, как можно более полно и сознательно. «Лучше убить ребенка в колыбели, чем питать неосуществленные желания».
Анна-Мария Шиммель отмечает «эксцентричную чувственную образность» дневника Бахауддина. Исследователь Руми Франклин Левис называет некоторые пассажи «психоделическими»7.
Мы бы отнесли эту особенность за счет отменного здоровья Бахауддина. Руми говорит, что форма сама по себе экстатична, что уже лишь осознание тела и чувства способно повергнуть в состояние чистого восторга. Бахауддин объясняет, что каждая форма осознанности несет в себе вкушение присутствия Бога и что нужно осознавать себя, используя для этого все дарованные нам возможности, – трансцендентные мистические видения, страхи перед великими мира сего, восторженные молитвословия, гнев и раздражение и даже – эпилептические припадки. Мы бы назвали Бахауддина мистиком «в соку», имея в виду, что ему по душе разные степени накала влюбленной человеческой осознанности. Бахауддин остро переживает сочное томление тела, достигающее кульминации в единении с Богом. Ему мил аромат человеческого общения и величие всего, что происходит в повседневности. Как‐то утром он встал рано и собачий лай отвлек его. Собака лает в тринадцатом веке – а мы слышим это сейчас (1:381—382). Подробности сельской жизни семисотлетней давности остры и выпуклы в его описаниях.
Для Бахауддина важны незамутненность бытия и сила желаний, поскольку это путь более углубленно проявить божественное. Пульсация жизненной силы позволяет божественному присутствию проявиться в теле более активно. «Я был скрытым сокровищем, и Я пожелал быть узнанным», – говорится в хадисе. Бахауддин говорит, что желание божества познать себя проявляется в силе нашего желания.
Вот один из наиболее поражающих примеров этого в «Маарифе» (1:337—339): Бахауддин описывает, как он проснулся утром, ощутив жгучее влечение к дочери судьи Шарафа. Она – одна из его жен, как и Биби Алави в аналогичном фрагменте (1:381—382), и тем не менее для своего времени, да и для нас, пожалуй, эти заметки поражающее откровенностью описание чувственного влечения. Профессор Фурузанфар, издавший «Маариф» в 50‐е годы двадцатого века, позитивно оценивает выпуклость интимных откровений, отмечая их искренность и напряженность, но полагает, что подобная откровенность в устах выдающегося мистика граничит с безответственностью. «Нельзя забывать, что Баха Валад [Бахауддин] был выдающимся лидером мусульман. Он обучал учеников и проповедовал, а также был главным знатоком закона и судьей по проблемам религии. Именно он наставлял своих многочисленных учеников в вопросах этикета и морали»8.
В такой открытости чувственному влечению мы, скорее, улавливаем силу искренности перед Богом, превосходящую привычные рамки морали. Бахауддин обнажает себя и собственную жизнь в исповедании своей веры. Он величествен в своей подлинности.
Название «Маариф» также может быть намеком на то, что рукопись была создана в состоянии марифата. Бава Мухайяддин9 часто упоминал четыре стадии просветления: шариат, хакикат, марифат и суфийят. Марифат – завершение всех стадий, суфийят – полное слияние. О суфийяте не оставлено никаких записей. Об этой области сознания ничего нельзя сказать, находясь внутри нее.
Марифат – гнозис, постижение Бога, знание, которое приходит от изначального света, даруемого человеческим существам. Говорят, что этот свет сосредоточен в центре лба. Концентрация на данной точке приводит к встрече с проводником души. Марифат – это вместилище бесконечного в личности, благодаря которому человек сливается с океаном и становится его волной. В этом состоянии нет дня и ночи, рождения и смерти, лишь чистая данность всего существующего. Отсюда частое упоминание цветов у Бахауддина. Знание цветов лишено субъектно-объектной двойственности. Марифат случается благодаря погруженности в присутствие, в целостность энергетического поля и его формы, цветение цветка и его аромат.
Марифат – это места встреч, где Руми и Шамс смотрят в лицо друг другу. Моисей на Синае просит Бога о лицезрении лицом к лицу, что говорит о его переходном состоянии от марифата к суфийяту. Примером такого состояния является и ночное путешествие Мухаммада и последний ужин Иисуса. Мы ощущаем то же самое в неустанном желании Бахауддина не просто встретить божество, но стать им. Об этом же говорит эпизод, когда Шамс бросает книгу отца Руми в воду, чтобы избавить друга от опоры на письменную мудрость.
Английское слово «мистицизм» имеет смутный и расплывчатый смысл, но ведь за ним что‐то стоит. Самим мистикам становится неуютно от ярлыков и вообще от слов. Всемерно опираясь на непосредственный опыт, они говорят о вкушении и улавливании аромата того, что несказуемо. У Бавы Мухайяддина как‐то спросили, как тот воспринимает жизнь. Он зачмокал губами, как сосущий грудь младенец. Мистики живут не по книгам и черпают свои знания не из книг. Это вкус и аромат, приходящие от присутствия и чувств. Они проницают нас так же, как мы – друг друга. «Таинство Бога изъясняет себя в том, как мы любим».
Руми сказал, что его отец «продолжил длинную череду глубоко мистических душ, которые из поколения в поколение представляли редкие и тонкие учения» (Беседа 16), – таинства, наилучшим образом передаваемые не стихами или словами, но посредством уединения и открытости присутствию, внутреннего собеседования, практики и интимного разговора по душам. Все это, вероятно, и привело к появлению подобной книги. Суфии – современники Бахауддина – полагали, что наиболее глубокая передача происходит не с помощью книг, а через присутствие.
Писанье совместно
творим мы губами
Под снегопадом
чистых сердцами10.
Бахауддин обрел большую известность в основном благодаря своим ежедневным беседам, где открыто критиковал правителя и его советника, влиятельного философа Фахра-э Рази. Известные богословы и образованные знатоки закона приходили издалека, чтобы послушать его. Такие беседы были наиболее действенным способом обнародования идей. Редкие, старательно скопированные собрания высказываний Бахауддина, «Маариф», являлись эзотерикой, предназначенной для глаз очень немногих, и до сих пор эти собрания почти недоступны Западу.
Руми сожалел, что ему пришлось поселиться в городе Конья в Руме (откуда и происходит прозвище Руми) – области Анатолии, находившейся под романским влиянием. Он жаловался на отсутствие там родов, подобных роду его отца, и потому ему (Руми) приходилось слагать стихи, чтобы развлечь слушателей. Он ощущал себя поваром, который, в отличие от своих гостей, не любит рубец, но вынужден брать в руки кишки, вызывающие у него отвращение, чтобы промыть их и приготовить блюдо, которое самому ему не по нраву. Так создавалась наиболее утонченная мистическая поэзия – деликатнейшее из всех когда‐либо подаваемых к столу блюд.
В этом дневнике нас в первую очередь привлекают непринужденность и прямота, интимная непосредственность отношений человека и божества, Дружба, безместное, невыразимое присутствие, или «со-бытие» (ма’ийят), близость, струящаяся сквозь все существа. «С Тобой везде, где бы Ты ни был», – говорится в Коране (57:4), – и мы слышим необъяснимую, но реальную слитность местоимений11. Н. Дж. Дауд говорит об этом феномене во введении к своему переводу Корана: «В одной и той же фразе Бог говорит о Себе то от первого лица множественного числа, то от первого лица единственного числа, то от третьего лица единственного числа»12.
Также и Бахауддин в своем «Маарифе» свободно переходит от своего «Я» к божественному «Мы» (Корана) и вновь возвращается к «Я». Эта прозрачность и текучесть – часть вклада Бахауддина в мистицизм. Его записи отражают слияние отдельных «Я», древо голосов. Мы приветствуем это, принципиально снимая кавычки с цитат в его тексте. Практически все они убраны. В рукописи «Маарифа» тринадцатого века на фарси их нет. Выделение цитат появилось лишь в современном фарси. В любом случае мы ощущаем, что тайна того, кто говорит – и кому, – глубже, чем знание правил пунктуации. Видно, что Бахауддин, будучи то одним «Я», то другим (см. 1:277—278), и сам не знает, откуда исходят слова, кто именно их произносит. Таинство соприкасается с ним в тот миг, когда изъясняет себя – и остается вне слов. Друг помогает Бахауддину, они пишут текст совместно. Суфии говорят: Бог – в выдохе как видимый, внешний мир, бытие (текст), и во вдохе – как небытие, скрытые, незримые миры (вдохновение).
Бахауддин видится нам как точка схода многих пространств и линий, а не только как поэт, создатель оригинальных заметок или талантливый богослов, чьи блестящие образы высвечивают тьму пещеры незнаемого. Отмечая эксцентричную самобытность Бахауддина, мы должны отметить и другую, умеренную, возможно, более полезную сторону его заметок: это повседневная религиозная практика жизни того времени.
Эта сторона не превалирует в рукописи, но, чтобы оценить Бахауддина по достоинству, следует вчитаться в 1:150. Вот извлечения из этих заметок: «Значение поклонений вот в чем: мы сопротивляемся физическим влечениям, чтобы насладиться величием непроявленного… Либо ты находишься в сердце и душе и действуешь оттуда, либо твоя жизнь будет исходить из животной души, нафса, похоти и жадности – свойств того, что смертно и не склонно к принятию благодати Милосердного».
Мы хотели было опустить эту главку, решив, что перед нами просто изложение привычного подразделения на тело и душу, столь ненавистное Уильяму Блейку. На самом деле мы рассматриваем Бахауддина в терминах Блейка, пусть и в менее кардинальном варианте13.
Блейк полагал, что деление на тело и душу, подобное предполагаемому здесь, является источником жестокостей, подавления половой сферы и уничтожения радости. Мы согласны с этим, но есть и другая сторона. Человеческим существам действительно присущи похоть и ненасытность, жадность и лень, повинующиеся собственным, властным, не столь вечным побудителям. Следуя им, мы иногда доводим себя до состояния, которое никто уже не примет за дом души. Есть ошибки, их можно совершать, даже если мы слышим другие голоса – интуиции, души и сердца. Конфликт и подразумеваемые границы, что обозначены в данной главке, действительно существуют. Тело нуждается в строгостях, чтобы по‐настоящему глубоко воплотить душу. Еврейский богослов и философ Абрахам Хешель пишет в книге «Бог в поисках человека»:
«Мы не должны ни третировать тело, ни обожествлять дух. Тело – это основа, шаблон, закон; дух – внутреннее развитие, непосредственность, свобода. Тело без духа – труп, дух без тела – призрак»14.
Бахауддин может, и зачастую так и делает, обращаться к определенному человеку – в 1:150, которому очерченные религией рамки необходимы в качестве действенного ограничения, и потому истина может быть относительной. Тело и душа действительно сливаются в единстве постижения и желания, и, кроме того, существует божественная субъективность, способная проглядывать через линзу человеческого желания и обращать его в часть тайны.
Любовь Бахауддина к человеческой энергии в любой форме кажется нам необычайно привлекательной. Он, как и Уитмен, приемлет все, говоря, что мы масштабные и противоречивые существа, облаченные в безрассудные щегольские формы. Но он также владеет и клинком отрицания как некой гранью, открывающей нас духу иным путем. Оба подхода истинны, актуальны и необходимы. Они поддерживают друг друга. Мы уклоняемся от признания этого, но революционные высказывания Блейка, мудрые и тонкие, – еще не все снаряжение для путешествия. «Изобилие – красит». «Энергия – вечное блаженство», – говорит Блейк. Но не всегда. Есть законная доля бестолкового изобилия и энергий, которые определенно разрушают наше духовное сознание. Достижение равновесия между жесткой дисциплиной и покорностью – одна из важнейших загадок для человека, конечная цель жизни. Бахауддин обитает внутри этой задачи – как и многие из нас. Также следует подчеркнуть, что, будучи преданным мусульманином, он благоговеет перед Кораном. Он помнит весь Коран наизусть и щедро уснащает свой текст кораническими стихами. В одном месте он пишет: «Мне вспомнился стих из Корана, и хоть он не относится к теме, я приведу его». Подобная вдохновенность стихами Корана изумительна и неподдельна15.
Колман Баркс и Джон Мойн