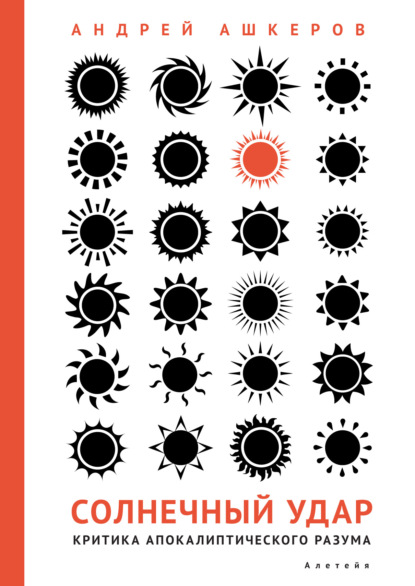000
ОтложитьЧитал
Введение
Состояние современного общества требует радикального пересмотра представлений о его познании. Одной из ключевых для рассмотрения поворотных процессов является метафора «осевого времени», предложенная К. Ясперсом. Автор относил к осевому времени формирование крупнейших религиозных доктрин, этических систем и философских концепций. При этом Ясперс априоризировал осевое время, точнее, полагал, что его априоризировал в ходе дальнейшей своей деятельности сам человеческий род. Как бы то ни было, философ исходил из того, что, однажды сформировав человечество, это время, обезопасив себя от ревизий, стало синонимом вечности.
Увы, парадокс состоит в том, что застывшее осевое время приобретало императивность, но прямо пропорционально утрачивало влияние. Раз состоявшись, оно превратило собственное дело в назидание и утрачивало всякие шансы вернуться. Кризис 20-х годов XXI века ставит мыслящее сообщество перед дилеммой: либо старое осевое время утратило свою силу, либо оно вернулось, а потому нужно встать вровень с его задачами. Перемена хода времени отразилась в сложной взаимосвязи пандемии коронавируса с новой «великой депрессией» в экономике и климатической аритмией сезонных циклов в природе.
Экономика как теория и практика на протяжении столетий сводила время к хронометражу, к отрезкам и делениям. Тем самым время укрощалось и подвергалось цензуре. Делалось это, чтобы было неповадно рассматривать его как целостность. При ближайшем рассмотрении трудно не заметить в этом осуществление старой олимпийской установки, связанной с тем, чтобы держать Хроноса как можно глубже в Тартаре, на самом его дне. Хронос никогда не должен демонстрироваться целиком, а только по частям, чтобы каждая составляющая выступала в роли боевого трофея.
Даже понятие потока, восходящее к Анри Бергсону и взятое на вооружение Жилем Делезом, было не способом обрести эту целостность, а растянутым мгновением, тем самым, которому Гете вместе со всей культурой модерна приказывал остановиться. Уже сейчас видно, что кризис 2020 года стал небывалым с точки зрения перемены отношения к времени, к будущему. Время уже невозможно предлагать в форме фьючерса, ибо этот фьючерс, даже будучи объединен с такими субстанциями земли, как нефть и газ, приобретает отрицательные значения. Отсюда один шаг до того, чтобы отказаться от всей системы, где время – это деньги, то есть побочный продукт применения главного механизма, делящего все и вся. Время становится ключевой темой исследования культуры. При этом культурология современности превращается в метеорологию времени.
Достоянием метеорологии времени оказывается описание трудноуловимых перемен погоды: вихрей, уничтожающих пляжи и биржи, дождей, подмывающих города и устои, солнечных процессов, из-за которых дискредитируются знаменитости и возвеличиваются микробы. Все это делается при минимизации отсылок к моментам, порциям, фрагментам, к анализу эпох и периодов, на котором раньше строились все без исключения жизнеописания времени. Трудно не заметить, что перед нами открывается невероятный шанс для видоизменения всех точек зрения на мир. Другой шанс, на который нельзя не обратить внимания, связан с тем, что экономика, в виде теории или практики, уже не справляется с функциями «метафизики». Такое не снилось не только Марксу, но даже и Ленину.
Важным эпизодом в прежнем укрощении времени, столкнувшемся сегодня с непреодолимыми препятствиями, было отождествление познания с установлением дистанции. Отмерь расстояние, не позволяющее тебе сливаться с твоим объектом, и в качестве бонуса вместо резонанса с ним ты получишь знание о нем.
Пример того, как это делать, подала трагедия, если верить Ницше, зафиксировавшая свою дистанцию от музыки. Потом была философия, которая противопоставила себя мудрости. За ней последовала живопись Кватроченто, в которой применялась линейная перспектива, позволявшая изъять себя из мира, симулируя взгляд абсолютного наблюдателя. Из этого взгляда возникло все то, что стало называться «наукой».
Стоимостное выражение любых вещей, позволившее разотождествиться с их свойствами и функциями, также было вехой в этом процессе, но пришло позже. Возможно, именно теперь, в эпоху, символом которой стало социальное дистанцирование из-за нечеловеческого врага, все перечисленные дистанции сойдут на нет или по крайней мере изменят свой статус.
Каково бы ни было происхождение вирусной атаки, связанной с феноменом COVID-19, она показывает нищету того, что на языке науковедения называется «строгой наукой», а на языке старой метафизики – «умом». По сути, это нищета познания, действующего через противопоставление и отрицание. Чтобы понять, чем вызван нынешний кризис познания, нужно проследить генеалогию самого познания, которая теперь кажется более простой и более неожиданной, нежели раньше.
Эта генеалогия связана с тем, что достигнутая автономия человеческой души сделала ее неотделимой от свободы воли, более того, превратилась в ее двойника. Между элементами сложившейся близнечной пары возникло соревнование, в котором автономия души стала определяться возможностью конвертировать ее в свободу воли, а свобода воли стала измеряться числовыми параметрами этой конвертации, буквальным превращением в стоимость. Попросту говоря, связь души с волей стала определяться возможностью душу продать, превратить ее в капитал (все теории капитала, начиная с Адама Смита, основываются в первую очередь на том, что этот капитал «человеческий»).
Однако что выступает заменой души, когда воля, предельно возвысившись, обращается к тому, что на языке Гегеля можно назвать «самоотрицанием»? Злато-серебро, знатное происхождение или, к примеру, властное превосходство могут, конечно, участвовать в этом акте обмена. Однако целиком они его определять не могут. Почему? Да потому что не являются заменой души даже на самом суррогатном уровне. Душу, конечно, можно заменить пустотой, зиянием, свищом. Формой всего этого служит признание ее отсутствия. С какой-то точки зрения такое решение может показаться наиболее элегантным. Увы, существует природа, которая не только терпит, но и всячески поощряет пустоту. И все же обмен, хотя бы в рамках симуляции, предполагает «что-то еще».
И тут опять не обойтись без коронавируса. На сей раз он нужен ради аналогии. Что известно про побочный эффект действия вируса? Правильно, известно то, что, воздействуя на легкие, он вызывает образование в них рубцовой ткани. Иными словами, речь идет о все той же замене, только на уровне тела. Одна ткань меняется на другую. Так и с душой. Сдача ее в наем, передача на аутсорсинг или делегирование во «внешнее управление» означает внедрение чего-то на ее место. Нужен какой-то имплант. И имплантируют, скорее всего, то, что под именем ума отвечает за способность сознания функционировать через противопоставление и отрицание.
Вполне возможно, с этой точки зрения то, что мы называем «наукой», выступает результатом коллективной продажи души, передачей прав на нее кому-то всерьез и надолго. Довольно легко связать это с Новым временем, особенно с поздним Просвещением XVIII века, но исток искать нужно раньше. К примеру, у Аристотеля, который не зря считается отцом большинства современных наук. Добавим к этому, что со времен Аристотеля представление о душе было так или иначе связано с коммуникацией, то есть с тем, что человек делает, а не с тем, что он собой представляет, на уровне чего душа представала самым потаенным и самым незаменимым из органов.
До Аристотеля душу невозможно было продать, потому что она не принадлежала человеку, а само человеческое существо было чем-то вроде колонии наростов на некоем душевном устройстве. После Аристотеля душа уже в общении, а также в общнике (общиннике), общих местах и общем мнении. При этом, как все знают, само общение оказывается тем, что определяет человека. Иными словами, человеку уже есть что продать, и, продавая душу, он уже продает свое определение.
Однако здесь есть тонкий момент. Продается то, что может быть куплено, приобретено. Исходя из этого, общение может быть не тем определением человека, продажа которого равносильна продаже души, а тем, что получено в результате продажи. Но как можно продать то, чего нет? А очень просто: продажу можно осуществить, сделав предварительный заем. Занять у себя самого же, себя, каким ты будешь или, по крайней мере, каким можешь стать через определенное время.
Акт этого займа связан с идеей спасения. Если спасение нельзя купить, можно сделать его земным, посюсторонним аналогом капитала. Капитал не отчуждает человеческий труд, а превращает труд в предоставляемый человеку залог его существования. Маркс мог бы перефразировать Декарта, сказав: «Тружусь, следовательно, существую». При этом намного раньше Маркса заложником труда человека сделало грехопадение.
Мифическая (псевдомифическая?) сцена грехопадения показывает нам на реальные обстоятельства. Существование, по сути, равнозначно спасению или, по крайней мере, видам на него, какими они открываются из «грешного» постэдемского мира. При этом ни спасение, ни существование не являются тем, что гарантировано человеку как непонятный, но гарантированный для него оплот будущей жизни. Трудясь, человек производит то, что по вкусу называется «существованием» или «экзистенцией». Но производит не в качестве закономерного результата своей деятельности, а в качестве сопутствующего обстоятельства, которого нельзя ни интегрировать, ни отвергнуть.
Являясь устройством, которое концентрирует «противоречия» гегельянцев и «борьбу» марксистов, ум удерживает не подлежащие его юрисдикции стороны существования, все то, что сопротивляется возможности его принять или не принять окончательно. Тем не менее, как бы ни исхитрялся в этом деле ум, с определенной точки зрения – и совсем не по решению марксистов – он выступает всего лишь ментальным протоколом труда.
Кризис трудового общества провозглашался с самого момента превращения его в предмет анализа. Начиная с кризисов недопроизводства и заканчивая кризисом стирания различий между человеком и киборгом труд бросал вызов судьбе в смысле способности порождать критические обстоятельства. То же самое происходило и с умом, который не просто испытывал постоянные, периодические и эпизодические кризисы, но с самого начала сделал кризис способом своего действия.
Поскольку «кризис» означает «суд», в этом проявляется готовность ума включить в себя различные вариации загробного суда, присутствующие в подавляющем большинстве религиозных систем. Однако ни мировые войны, ни эпидемии, ни революции не стали тем апофеозом объединенного кризиса ума и труда, который можно наблюдать с начала эры сетевого общества и особенно с даты наступления всемирного карантина рубежа 10–20-х годов XXI века.
Сетевое общество стерло границы между умом и трудом под знаком превращения отложенного существования/спасения во всепоглощающее имманентное заэкранье виртуального мира, за которым маячила «сеть» как невиданное прежде единство вещей, знаков и отношений. Всемирный карантин дополнил дело тем, что «дополненная» или «прибавочная» виртуальная реальность, висевшая как довесок той реальности, которая никогда не наступит, раскрыла то, что и так было ясно про нее с самого начала.
Перестав казаться инструментом расширения сознания/ освобождения труда, виртуальность стала местом принудительного интернирования со всеми атрибутами репрессивно-дисциплинарного воздействия. Превратившись в актуальный эквивалент светлого будущего, приблизив его на минимальное расстояние толщиною в экран, виртуальная жизнь полностью избавила человечество от исторических альтернатив, которые исключали бы ее вечное царство.
Пандемия сделала территорию виртуальной жизни «землей обетованной», однако стерла все грани, отделявшие ее от самой известной древней тюрьмы – пустыни. Теперь пустыня уютно расположилась в домашнем пространстве. Параллельно, как это уже бывало в рамках генеральных репетиций ситуации-2020, произошел обвал рынка углеводородов.
Невиданное затоваривание нефтью, падение цен на нее и, как следствие, сокращение добычи черного золота имели отношение не столько к состоянию сырьевой экономики, сколько к спекуляциям на рынке объективностей. В мире, организованном вокруг двигателя внутреннего сгорания, вещи сводятся к стоимостям, а стоимости сводятся к углеводородам, заменяющим субстанцию в мире, где не осталось места для субстанций. В свою очередь, рынок объективностей управляет системами объективации, с которыми соотносятся «объективные» факты, закономерности и детерминации.
Поэтому если мы и наблюдаем сегодня какое-то банкротство, то это не банкротство нефтяного рынка, а банкротство строгой науки, форпостами которой были статистика, генетика, микробиология, медицинская физиология и экономическая теория. Все они удерживали объекты в только им подобающих границах. Все они сводили объекты к разрывам, полостям и зияниям. Обращает на себя внимание, что отцом практически всех перечисленных наук считается Аристотель.
Аристотель же является и тем, кто за две с половиной тысячи лет до Ясперса предложил свою версию осевого времени. Правда, известна она главным образом по пересказам несохранившейся работы «О философии», в которой философ из Стагир утверждает, что человеческий род неоднократно погибал во всех вселенских катастрофах[4], последней из которых был Девкалионов потоп, в результате которого сын Прометея Девкалион стал новым родоначальником человеческого рода.
По мысли Аристотеля, как бы ни отличались друг от друга поколения человечества, общество, в котором организуется их совместное бытие (греки одним словом называли его «синойкизм»), всегда проходит одинаковые стадии развития. Первой из них соответствует изготовление орудий, второй – создание художественных творений, наконец, третьей – продуцирование самой полисной жизни, которая, как видно, возникает из единства производства и искусства[5]. Вместе с полисом на третьей стадии неизбежно возникает и «мудрость». Появление ее и есть эквивалент осевого времени, которое повторяется ровно столько, сколько возрождается человеческий род.
Таким образом, Аристотелево осевое время объединяет уже не столько страны и народы, сколько поколения человечества, которые, несмотря на чудовищные катаклизмы, не просто воскресают, подобно богам разнообразных циклов, но воссоздаются с некой недоступной для человека точностью, как скульптура, отливаемая по невидимой матрице. Тема смены поколений человечества не является оригинальной. Аристотель заимствует ее из фольклора и его переложений у Гесиода (и, возможно, каких-либо других авторов). Однако обращает на себя внимание то, что трагизм смены поколений только подчеркивает неукоснительность воссоздания. Иногда возникает ощущение, что катастрофы и нужны только для того, чтобы довести до совершенства сам процесс матричной отливки нового человечества.
Параллельно вполне может тестироваться способность эйдосов к воплощению, понимаются ли эти эйдосы по все тому же Аристотелю или, по старинке, в стиле представлений Платона. Не исключено также, что Аристотелевы эйдосы отличаются от Платоновых эйдосов большей фертильностью в отношении одушевленного физического присутствия. При этом последняя катастрофа неслучайно связана именно с потопом. В потопном происхождении последнего известного грекам мира есть связь с водным эксцессом рождения мира и человечества в Книге Бытия, а также с драматическими приключениями Ноя, выступающего библейским побратимом Девкалиона.
То, что потопный эпос управляет отсчетом времени, неизменно деля время на «до» и «после», указывает на то, что водные катаклизмы неотделимы от драм летоисчисления, а вместе с ними – от всего находящегося в ведении Хроноса-Сатурна[6]. Однако не в меньшей степени водная этиология вселенских несчастий соотносит нас с морскими божествами.
Бог Книги Бытия не просто сотворяет мир, но сражается с олицетворяющим первозданный водный хаос Левиафаном (подобно тому как его шумеро-аккадский двойник Мардук ведет битву с влажной богиней беспредела Тиамат). Такое же сражение с водным хаосом ведут Ной и Девкалион, при этом вода не столько отступает, сколько, приобретая большую степень организации, воплощается в новых жизненных формах. Если добавить к этому то, что в астромифологии не только водная стихия, но и микробы, в том числе вирусы, соотносятся с планетой Нептун, возникают неожиданные параллели. Эйдосы приближаются к своим подобиям, повышая возможности воплощения, воды выходят из берегов, осуществляя стабилизацию циклов, катаклизмы случаются, видоизменяя русло потоков времени.
Аристотелем, а до него Пифагором (вместе с их неизвестными учителями) двигало стремление найти общую структуру этих вселенских происшествий. Осевое время может рассматриваться как достижение такой структурой сознания/самосознания. Речь уже не о «мудрости» самой по себе, а о том, что «мудрость» представляет собой выражение сопричастности такому типу связей, который превращает горние и дольние дела в область совместного ведения. На этом фоне осуществляется настолько радикальная имманентизация этих дел, что любая отсылка к трансцендентному, начавшаяся с римского понятия провидения, выглядит капитуляцией перед собственной и вообще любой судьбой, в виде которой трансцендентное изначально и навсегда дано как проявление тебя самого, включая твои характер, привычки и «внешность» (в совокупности описываемые на языке современной социологии словом «габитус»[7]).
Если переворачивать известное высказывание Макса Мюллера о том, что в метафорах скрываются мифы, можно сказать, что и мифы, в свою очередь, являются не чем иным, как метафорами, которые имеют самые буквальные указания на настолько масштабные, неожиданные и далеко идущие связи, что они просто не охватываются другим способом.
С этой точки зрения «деления», к которым прибегает Аристотель вслед за Пифагором[8], не просто выступают выражением числовой модели мира. Следует говорить о «делении» как об изводе числа как гибрида воды и времени, который, в свою очередь, соответствует попытке порционного рассмотрения единства эйдосов и подобий, вод и циклов, времени и катаклизмов. Превращая число в тему для многотысячелетнего повествования-мифоса, Аристотель окончательно освободил его от статуса метафоры, каковым оно, возможно, обладало с самого начала.
Но если это понятие было метафорой, то метафорой чего? Не идет ли речь о генетических мутациях, воспринимаемых как сближение эйдосов с подобиями? Не выражают ли воды, своим выходом из берегов стабилизирующие исторические циклы, отбраковку целых поколений наследников определенного генома? И не означают ли потоки времени, изменяющие свое русло, смену человеческих популяций в результате того, что вирус проникает в кровь, а потом и в плоть, встраиваясь в определенных случаях в человеческую ДНК?
Как бы то ни было, связанные с созвездием Плеяд богини-пряхи присутствуют в самых разных культурных ареалах, относящихся не только к грекам, но, например, и к славянам. Деятельность прях сама по себе образует ткань мифов о судьбе, но, как мы договорились считать, мифы – это не только мифы, но и метафоры, а в данном случае метафоры того, что не столько в метафизическом, сколько в ткаческом смысле образует основу, уток жизни. Иными словами, независимо от того, как мы мифологизируем судьбу, метафора, которая делает возможной эти мифологизации, сама выступает нитью, пронизывающей самые отдаленные связи. Если все, что отворачивается от судьбы, находит ее быстрее, чем если бы искало, то сама судьба находит себя в переходе, в переносе, в смещении. Иными словами, она находит себя в метафоре.
Судьба и метафора не связаны одной нитью; они вместе и есть нить, которая связывает. Чем надежнее способ связи, тем больше возможностей для мифа, для сюжета, наконец, для той формы жизни, которая держится на самоописании. На самом буквальном из известных нам уровней связь судьбы и метафоры крепится цепочками ДНК, которые соединяются, тянутся и обрезаются, чтобы поменяться фрагментами, совсем как нити мойр Клото, Лахесис и Атропос. С ДНК соотносится единство связей между нуклеотидами внутри макромолекул с воспроизводственными связями внутри организма и между поколениями его обладателей.
И все же есть большие сомнения в том, что это единство гарантирует нескончаемое возвращение «полиса» и «философии». Точнее, «полисом», который возвращается, в этом случае является сам генетический код как совокупность наследственной информации, по отношению к которой человеческая политика и человеческая мысль всегда находятся в положении жалкого подражателя. При всем сходстве ситуации с антуражем дорогого сердцу филолога античного миметизма стоит отметить, что воплощением бытия-вместе в этом случае будет не сообщество свободных граждан, а колония нуклеотидов.
Отбросив опасения, можно засвидетельствовать: фраза Фридриха Энгельса о том, что жизнь «есть способ существования белковых тел», никогда еще не приобретала такой актуальности. Правда, для окончательного оправдания установок Аристотеля к словосочетанию «способ существования» нужно прибавить слово «политический». Но смел ли надеяться основоположник теории коммуникативной социальности, что, в прямом смысле, заглянет так глубоко?
Добавим к этому, что не только Аристотель, но греки в целом склонны были скорее рассматривать как продолжение полисной жизни не биологические органеллы, а космическое пространство. Во всяком случае, устройство последнего описывается в тех же терминах, что и устройство города-общины. В обоих случаях речь идет о самоорганизующемся порядке, который воплощает целое благодаря элементам, удерживающим друг друга на основе состязательности и противоборства.
Откровенно говоря, в этом случае, увы, возникает еще больший соблазн: перейти от уровня политической организации белковых молекул к уровню космополитарного единства, минуя человеческое сообщество. Впрочем, у подобной перспективы есть и обратная сторона. Не только создававшиеся на коленке технологии, но сама риторика борьбы с COVID-19 показывают, что на вирусы и другие микротела легко переносятся приемы биополитики, хорошо отработанные на людях. Лозунг «Дома надо сидеть!», до этого выражавший идеологию борьбы с уличными протестами, оказался идеей фикс в обосновании карантинных мер против коронавируса, а потом незаметно перекочевал в область лечебных приемов.
В частности, именно этот лозунг превратился в руководство к действию по предотвращению слишком активной реакции иммунитета на вирус, так называемого цитокинового шторма. Как и люди, иммунные клетки не должны были нарушать режим самоизоляции, сдерживать активность и менять способ действия. Обращение биополитики к биологическим микроструктурам явилось не только новым словом медицины, но и новым словом политической философии.
С какой-то точки зрения, подобная ситуация обусловлена скудостью возможностей, приводящей к принципу: «Что работает с людьми, сработает с чем угодно». По сути, в этом плане ничего не поменялось со времен Аристотеля. Его вечное возвращение «полиса» и «мудрости», отражает все то же дефицитное состояние биополитических форм.
Будучи ловушкой для человеческих возможностей, оно по своему образу и подобию порождает аналогичный дефицит средств оперирования другими объектами, одушевленными и неодушевленными. Данный дефицит легко преобразуется в этику и метод разумной достаточности, а главное, позволяет неограниченно расширять человеческие сообщества, интегрируя в них любые нечеловеческие объекты. Подобная интеграция не ограничивается социальным соседством, а предлагает широкий репертуар вживления сразу в индивидуальные и коллективные тела.
При этом биополитика является не только способом усмирения вируса через его включение в человеческие тела и сообщества, но и встречным движением самого вируса. Проще говоря, в его присосках заключена невероятная власть, а потому все его проявления волей или неволей оказываются биополитическими.
Итак, благодаря вирусу весь мир оказался интернированным по местам компактного проживания. Границы оказались закрыты, перемещения ограничены, большинство форм активности, от спортивной до политической, заморожено. Сервисы удобного государства в одночасье раскрыли свои полицейские функции. Остается только молчать про права человека, о которых в одночасье забыли все, но в первую очередь – их недавние защитники. Вирус осуществляет массовую охоту на людей, но, как видно из вышесказанного, результаты этой охоты не сводятся к его клиническим проявлениям.
За охотой скрываются самые разные акции, не только массовые, а может быть даже – совсем не массовые. Иногда дело вообще представляется таким образом, что вирус начинает казаться не серийным, а штучным убийцей, адресные жертвы которого остаются незамеченными на фоне повсеместных страданий. Такая избирательность, как мы знаем, также выступает элементом биополитики.
Подобным вопросам способствует то обстоятельство, что пандемия сочетает выравнивание всех по общему лекалу с новыми вариантами избирательного сродства.
Все сидят по домам, но ни у банкира, ни у слесаря дом больше не является крепостью, охраняющей частную жизнь. Все рискуют заболеть, но бессимптомное течение болезни почти равносильно загробному спасению в Средневековье. Все могут заразиться коронавирусом, но статус переносчика инфекции налагает большие обязательства, чем сама болезнь. Все могут умереть от хронической болезни, но к коктейлю ее симптомов прибавили коктейль симптомов ОРВИ, с которыми отождествили COVID-19. Всех могут лечить от коронавируса чем угодно (специализированных лекарств все равно нет), но все могут по-разному переживать последствия подчинения жизни медицине. Все, как и прежде, могут умереть везде и всегда, но смерть от коронавируса неотличима от радикальной версии социального дистанцирования.
Минздравы всех стран объединились со статистическим разумом, чтобы вирусная популяция вошла в систему обмена. Любое сущее в этой системе только тогда считается сущим, когда предварительно наделяется стоимостью. Потом можно будет списать на вирус любые траты и растраты, включая смерть, которая никогда еще во всемирном масштабе не приобретала такого устойчивого стоимостного выражения. Неизвестно еще, в чем наибольший урон от пандемии: в количестве смертей или в сведении смерти к количественным показателям. Редукция всех мировых проблем к вирусу едва ли не впервые в истории сделала смерть настолько удобной для бухгалтерии, обеспечила радикальную эволюцию трагедии в издержку.
Раньше, следуя поговорке, все издержки «списывала война». Однако количество жертв военного времени не меняло отношения к смерти. Будучи результатом встречи с боевым противником, смерть на войне только усиливала свои качества экзистенциального врага, чего не скажешь о смерти от коронавируса. Проблематизация «конца человеческого» стала больше напоминать смесь карты охвата общества медицинскими учреждениями, протокола о мерах по санэпидобработке и отчета об утилизации за истечением срока годности. На фоне исчезновения экзистенциального измерения смерти легко лишить должного резонанса уход отдельных людей, пусть даже известных.