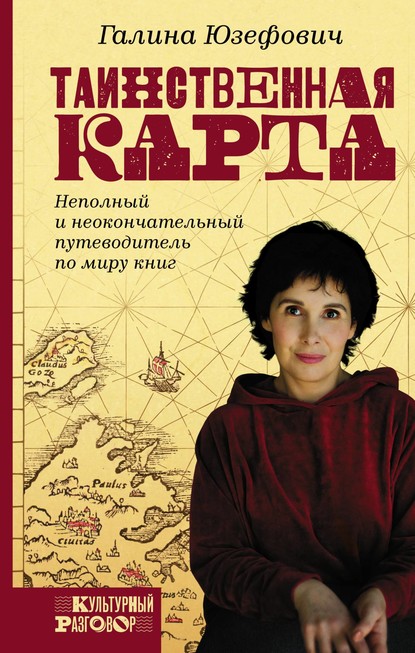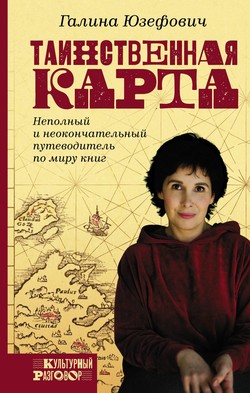
000
ОтложитьЧитал
Тим Пауэрс
Врата Анубиса[25]
«Врата Анубиса» Тима Пауэрса устроены таким образом, чтобы максимально плотно упаковать немыслимое число сюжетных поворотов и приключений в относительно компактный объем, поэтому изнутри роман кажется заметно больше, чем снаружи (хотя и снаружи он, надо признать, немаленький – 576 страниц).
Эксцентричный пожилой английский миллионер Уильям Дерроу открывает возможность перемещаться между эпохами – но не произвольно, а сквозь наперед размеченные дырки, проделанные в ткани времени зловещей троицей чародеев – древнеегипетских магов, мечтающих вернуть Землю во времена господства Осириса и Ра. В одну из таких дыр, ведущую прямиком в 1810 год, миллионер организует дорогостоящую экскурсию – ее участникам представится уникальная возможность поприсутствовать на лекции великого Сэмюэля Кольриджа. Для того, чтобы придать своему увеселению академической весомости, Дерроу приглашает в компанию дипломированного специалиста по творчеству и биографии Кольриджа – американского филолога Брендана Дойля, нерешительного лысеющего человека средних лет, всё еще оплакивающего недавнюю гибель возлюбленной.
Однако по завершении экскурсии Дойль не успевает вернуться в родной 1983 год вместе с другими путешественниками во времени: его похищает один из тех самых египетских магов, милостью которых они очутились в 1810 году. Как результат, мирный кабинетный ученый оказывается заперт в зловонном, жестоком и безнравственном георгианском Лондоне, один на один с тысячей опасностей – начиная с гигиенических и заканчивая мистическими.
Тим Пауэрс умело аранжирует весь традиционный набор готических ужасов (от вполне диккенсовского предводителя нищих, для пущей жути обряженного в костюм клоуна, до мрачных лондонских трущоб, населенных нечистью всех сортов), ловко миксуя их с ужасами собственного изобретения – вроде безумного маньяка-оборотня, способного менять тела, как перчатки, или хитро переосмысленной египетской демонологии. Пауэрсу не лень сгонять своего героя то в жаркий Египет (и сделать непосредственным участником расстрела мамелюкской конницы), то в малый ледниковый период конца XVII века (и заставить сражаться с чудовищами на льду замерзшей Темзы), или познакомить с лордом Байроном и Кольриджем. Как результат, текст Пауэрса превращается в безупречное развлечение – идеальный литературный эквивалент голливудского блокбастера, может быть, не слишком глубокомысленный, зато изобретательный, неожиданный и захватывающий вплоть до самой последней страницы (на которой автор удивит вас еще разок – так сказать, на прощанье).
Яна Вагнер
Вонгозеро[26]
Литературный дебют Яны Вагнер «Вонгозеро» – вещь культовая не в оценочном, а в сугубо терминологическом смысле этого слова: и сегодня – через десять лет после написания и почти через восемь после первого издания – по «Вонгозеру» всё еще пишут фанфики и организуют ролевые игры, а в 2019 году на экраны вышел снятый по нему сериал. Культовый статус романа тем более удивителен, что первое издание вплоть до лета 2019-го оставалось единственным, и книгу уже много лет было не достать в бумаге.
Родилась же она – из блога в «Живом журнале», куда Яна Вагнер выкладывала фрагменты романа по мере их написания, и, поскольку начало публикации совпало с эпидемией «свиного гриппа», многие читатели поначалу восприняли ее как документальную хронику – настолько реалистичным казалось всё, о чем в ней рассказывалось. Однако формальное правдоподобие описываемых автором событий (поверить в мир, гибнущий от болезни, куда легче, чем, скажем, в зомби-апокалипсис или даже ядерную войну) – определенно не главная причина столь долгого успеха «Вонгозера». Правильней будет сказать, что Вагнер удалось ухватить и с неуютной достоверностью зафиксировать то чувство, когда внешняя чернота просачивается внутрь человеческой души, становясь ее органической и неотделимой частью.
Москва охвачена эпидемией какого-то нового гриппа и закрыта на карантин. Понемногу становится ясно, что локализовать беду не удалось, город погиб, и герои – мирные буржуа из Подмосковья – вынуждены бежать с насиженных мест в глушь, подальше от проклятой столицы, прихватив с собой только самое необходимое. В путь они отправляются странным и разношерстным составом – главная героиня, ее муж, ее шестнадцатилетний сын от первого брака, отец мужа – бравый пожилой супермен, бывшая жена мужа, не простившая и не прощающая свою удачливую соперницу, пятилетний сын мужа от первой жены, и троица соседей – карикатурный «новый русский», его красавица-жена и их бессловесная трехлетняя дочка. Всем вместе им предстоит преодолеть тысячу с лишним километров по стремительно дичающей, лишающейся признаков цивилизации местности, чтобы добраться до крошечного домика на карельском озере, где они рассчитывают переждать конец света.
Роуд-муви в подобных декорациях просто обречено превратиться в фильм-катастрофу, что и происходит с «Вонгозером» практически сразу. Охваченная хаосом и смятением страна, где деньги обесценились, а продовольствие, чистая вода и бензин – единственный залог спасения, оказывается ареной, на которой герои вынуждены постоянно преодолевать страх, а главное – принимать тяжелые, порой безнравственные решения. Гонка на выживание оборачивается в буквальном смысле гонкой, в которой героям придется постоянно оттирать бортом других таких же бедолаг, пытающихся, как и они, спасти себя и близких.
Нет, об убийствах или, допустим, каннибализме речь, слава богу, не идет. Герои не расчеловечиваются полностью – в сущности, они остаются тем, кем были изначально: обычными, нормальными, незлыми людьми. Но украсть по мелочи, отвести глаза от чужой трагедии, не помочь, обмануть, не поделиться важнейшей информацией, обеспечивая себе тем самым копеечную фору, – всё это становится для героев «Вонгозера» повседневной практикой. А параллельно с почти не заметными этическими сдвигами, спровоцированными внешним адом, в душе героини бушует сепаратное и не видимое снаружи пламя, обусловленное иссушающей и не находящей выхода ревностью.
Как любой культовый феномен, за годы своего сетевого бытования «Вонгозеро» обросло колоссальным корпусом комментариев, обсуждений и претензий. Практически все люди, пишущие о романе Яны Вагнер, непременно отмечают многочисленные неточности и натяжки – в диапазоне от неправильно описанного ружейного механизма до заметно превышающего статистическую норму количества счастливых совпадений. Всё это (а еще неудачную развязку – одновременно предсказуемую и неполную, слабые диалоги и раздражающий поток истерической рефлексии главной героини) в самом деле можно поставить Яне Вагнер в вину. Однако мгновенная теплая эмпатия по отношению к героям, острое ощущение «это всё – правда, это про меня, я поступил бы так же» не то, чтобы перекрывает недостатки романа, но смещает фокус в сторону неутешительного авторского вывода: если начнется эпидемия, беги быстро, не оглядывайся, не жалей никого, кроме своих, и не слишком полагайся на нравственный закон внутри нас – в действительно трудные моменты он не сработает.[27]
Виктор Мартинович
Ночь[28]
В романе белорусского интеллектуала, искусствоведа и писателя Виктора Мартиновича конец человеческой цивилизации приходит по причине куда менее прозаической, чем привидевшаяся Яне Вагнер эпидемия. В его версии над землей однажды просто не восходит солнце, и мир навеки погружается в холод и мрак. Главного героя – нам он знаком под именем Книжник – это событие застает в его минской квартире, под завязку набитой бумажными книгами, в обществе собаки Герды, с которой он делит одиночество после разрыва с любимой женщиной, уехавшей от них куда-то в Азию. В постапокалиптическом мире эти самые книги составляют основу благосостояния Книжника: сдавая их в аренду, он накапливает валюту нового мира – батарейки (теперь их именуют «цинками»), и живет по местным меркам неплохо – во всяком случае, в относительном тепле и сытости. Но в один прекрасный день (или ночь – в мире, лишенном света, понятия эти тоже лишаются смысла) тоска по любимой погонит Книжника за пределы родной Грушевки: с рюкзаком, набитым «цинком», и с верной Гердой у ноги он отправится в путешествие на восток, в кишащую то ли вымышленными, то ли реальными чудовищами неизвестность, – в прямом смысле слова на край ночи.
С этой точки в романе Мартиновича стартует настоящий парад литературных аллюзий и ассоциаций, сменяющих друг друга едва ли не быстрее, чем меняются декорации вокруг бредущего сквозь мрак Книжника. Поначалу автор прозрачно намекает, что перед нами новая версия «Снежной Королевы» – на это указывает не только имя четвероногой спутницы главного героя, но и то, что встреченные героем злодеи, выслушав его душещипательную историю, немедленно меняют гнев на милость и помогают ему в точности как Принц, Принцесса и Маленькая Разбойница помогали девочке Герде. Однако понемногу Андерсен уступает место Данте, шествующему сквозь Ад навстречу своей Беатриче, Данте в свою очередь сменяет Карлос Кастанеда, на смену кастанедовскому мистическому галлюцинозу приходят мотивы рыцарского романа (или, если угодно, волшебной сказки) с непременным испытанием героя, а сквозь них отчетливо проступает библейская история Иова. Для того, чтобы искупить свой грех и заслужить право на встречу с любимой (а заодно понять метафизическую природу постигшей мир катастрофы), Книжник должен последовательно лишиться всего, что было ему дорого. Более того, даже там, где первооснову не удается восстановить однозначно, всё равно сохраняется ощущение рефлексивной вторичности текста, манерной и намеренной игры одновременно и с читателем, и со всей литературной традицией сразу.
Сказать, что эти изыски идут роману исключительно на пользу, в общем, нельзя. Цепляясь за особо милые авторскому сердцу аллюзии, повествование нещадно пробуксовывает и тормозит, в то время как скучные, но конструктивно необходимые детали Мартинович демонстрирует читателю с видимой неохотой и только когда совсем уж припрет. Так, к примеру, таинственный демиург – могущественный и всеведущий провожатый Книжника, диковинный гибрид Гэндальфа и Дона Хуана, – возникает лишь на 300-й странице из 480, в тот момент, когда сюжет очевидным образом заходит в тупик, а до этого ничто не предвещает его появления и вообще существования. Ну, а выверенная искусственность и отстраненность всего повествования исключают непосредственную эмоциональную вовлеченность – мы не боимся за Книжника, не мерзнем вместе с ним, не голодаем, не оплакиваем его утраты. Стеклянная стена, отделяющая читателя от героя, стоит нерушимо.
Однако если совершить небольшое усилие, отрешиться от жанровых стереотипов и перестать, наконец, ждать от повествования динамики, эмоций и драйва, выяснится, что «Ночь» Виктора Мартиновича – вещь, отнюдь не лишенная достоинств. Обаятельная – не вполне русская, но очень близкая русскому читателю – холодноватая ирония, тонкая и разнообразная стилистическая игра, изобретательная многослойность оказываются несколько неожиданной, но в целом приемлемой заменой ужасу, надежде и восторгу, которых мы привыкли ожидать от постапокалиптического романа.
Дмитрий Глуховский
Пост[29]
В отличие от «Вонгозера» и «Ночи», лишь примеряющих на себя постапокалиптическую личину, аудиосериал «Пост» Дмитрия Глуховского более всего соответствует традиционным представлениям о жанре. Этому трудно всерьез удивиться: в свое время именно цикл романов «Метро», действие которых также происходило на руинах человеческой цивилизации, превратило молодого дебютанта Глуховского в литературную суперзвезду. Однако по сравнению с «Метро» «Пост», бесспорно, шаг вперед – и, пожалуй, немного в сторону. На сей раз ладная, предсказуемо жуткая история о мире после конца света служит выразительной и неприятно прозрачной метафорой сегодняшних российских проблем. В принципе, подобный подход трудно назвать таким уж новым (постапокалиптика – жанр традиционно предполагающий второе дно), но – и вот это уже действительно редкость – Глуховскому удается сохранить идеальный баланс между бесхитростной увлекательностью и сумрачной метафоричностью.
Действие сериала начинается на ярославском Посту – одновременно и населенном пункте, и пограничной заставе, за которой земли возрожденной Московской империи заканчиваются, а начинаются тянущиеся вплоть до Владивостока неисследованные пустоши. Рубежом нынешней русской ойкумены служит Волга – отравленная, дышащая смертельно-опасными испарениями, текущая не водой уже, но зеленой кислотой река. Именно здесь живут и несут свою условную, в общем-то, вахту обитатели Поста – сто с небольшим человек, включая стариков и малолетних детей. Условную потому, что из-за моста через реку уже много лет никто не являлся – и, хотя обитатели Поста привычно ходят в караулы и следят за железнодорожным полотном, особым рвением в деле защиты государственных границ никто не пылает. Москва далеко, связь с ней пунктирная, да и заречье кажется неопасным, так что куда больше возможного вторжения местных жителей волнует дефицит тушенки, взаимоотношения с расположенным неподалеку китайским колхозом и истинно деревенская, утлая и беспросветная скука.
Но всё меняется, когда с разницей в пару дней происходят два важных события. Из Москвы в бывший Ярославль прибывает отряд казаков во главе с атаманом – им предстоит экспедиция за реку, поскольку в возрождающейся столице вновь решили заняться собирательством русских земель. А из-за реки на Пост впервые за много лет приходит человек – глухой и истощенный иеромонах Даниил, проповедующий смерть бога и грозящий жителям Поста новым – несравненно более ужасным – концом света. Его приход и отъезд казаков на ту сторону моста запускают череду драматичных событий, в ходе которых главным героям – живым, понятным и очень узнаваемым – предстоит примерить на себя роль трехсот спартанцев, вступить в борьбу с силами ада, а заодно узнать много нового о том, как именно мир и Россия погибли в предыдущий раз.
Москва – краса земель, источник благосостояния и защиты, богатая и процветающая настолько, что в ней даже работает уличное освещение (немыслимая по меркам полуголодного и нищего Поста роскошь), – внезапно обретает черты страшного спрута, исторически греховного – а потому обреченного – нароста на теле огромной страдающей страны. И только очень наивный слушатель сможет не уловить в этой идее прямой аналогии с днем сегодняшним.
Аудиосериал – не вполне книга, да и вообще продукт для российского читателя (или, вернее, слушателя) относительно новый. В этом смысле «Пост» – динамичный, цельный, идеально адаптированный для восприятия на слух, – определенно лучший выбор для знакомства с этим форматом. Ну и, конечно же, отдельным бонусом станет великолепное авторское исполнение, по сути дела, превращающее сериал в полноценный аудиоспектакль и открывающее в Дмитрии Глуховском совершенно новую и неожиданную – актерскую – ипостась.
Курс – детектив
Чем больше читаешь, тем сильнее соблазн абсолютизации своего читательского опыта: кажется, что, если что-то вдруг стало выпадать из твоего персонального круга интересов, значит, эта область литературы переживает упадок или по крайней мере застой. Нечто похожее произошло за последние пару лет в моих отношениях с детективом: меня всё сложнее удивить неожиданным поворотом событий, всё реже по-настоящему захватывает интрига, и на этом основании я начинаю подозревать, что, вероятно, что-то не в порядке с самим жанром. Как пишут на сайте «Медуза», «на самом деле нет»: с детективом всё в полном порядке, в нем появляется множество интереснейших направлений, имен и трендов – просто что-то сбилось в моих читательских настройках, и сейчас этот тип литературы радует меня меньше, чем в прежние годы. И всё же некоторое количество отличных, хороших или просто добротных детективов я вам порекомендую.
Борис Акунин
Не прощаюсь[30]
Когда речь заходит о фандоринском цикле Бориса Акунина, положение критика становится несколько неловким: все желающие купить и прочесть новый роман сделают это в любом случае, а тотальный страх спойлеров практически исключает возможность сколько-нибудь осмысленного разговора о собственно тексте. Однако есть набор вещей, которые с определенными оговорками согласен узнать наперед даже самый завзятый спойлерофоб – ими по возможности и ограничимся.
Во-первых (и это, пожалуй, самое важное), «Не прощаюсь» – не настоящий детектив. Вернее, в текст романа инкорпорировано целых три детективных интриги: одна совсем крошечная, на страничку, вторая чуть посолиднее, и еще одна – относительно большая, примерно на треть книги, в явном виде отсылающая читателя к известному сериалу «Адъютант его превосходительства». Однако роман писался определенно не ради них: основной предмет Акунина на сей раз – нравы России времен Гражданской войны. Перемещаясь из Самары в Москву, потом в удаленный северный монастырь, а оттуда в Харьков и Таганрог, Эраст Петрович проводит последовательную ревизию «черной» (анархистской), «зеленой» (махновской), «белой», «красной» и даже «коричневой» (цвета дерьма) правд, разрывающих страну на части, и все их находит, в общем, одинаково негодными и пагубными.
Второе важное свойство «Не прощаюсь» закономерным образом вытекает из первого: уложить такой объем материала в 400 с небольшим страниц можно только путем беспощадного уплотнения и сжатия. Как результат, все кусты в романе изобилуют роялями, страстная и долговечная любовь зарождается в сердцах героев без малейшей прелюдии, подобно удару молнии, многообещающие нити самым бессовестным образом обрываются, а яркие исторические персонажи вроде террориста Бориса Савинкова (его Акунин выводит под именем Виктора Саввинова) или знаменитого анархиста Волина (Арон Воля) вынужденно довольствуются положением камео.
Третье свойство романа (говоря об Эрасте Петровиче, трудно не заразиться его привычкой всё раскладывать по пунктам), также следующее из первого, состоит в том, что, намечая важные сюжетные повороты скупым пунктиром, Акунин в то же самое время совсем не скупится на эпизоды, композиционно избыточные, но важные с точки зрения общей концепции. Так, экскурсия Фандорина в «зеленую» деревню нужна только для того, чтобы позволить герою познакомиться еще с одним срезом общественных настроений. Конечно, читателю, ожидающему какого-никакого экшна и мучительно давящемуся авторской скороговоркой там, где наконец хоть что-то начинает происходить, мириться с этими неспешными интерлюдиями будет непросто. Еще сложнее будет не то, что полюбить, но хотя бы научиться уверенно различать героев второго плана, очерченных даже не тремя, а одним небрежным штрихом.
На этом плохие новости заканчиваются и начинаются если не совсем хорошие, то во всяком случае терпимые. Будучи и в самом деле «последним из романов» (такой несколько несуразный подзаголовок, если помните, имела некогда «Коронация»), «Не прощаюсь» явно рассчитан в первую очередь на фанатскую аудиторию и содержит несколько приятных реверансов в ее сторону. Так, нынешняя возлюбленная Эраста Петровича оказывается дочкой той самой Вареньки, которая сохла по Фандорину во времена «Турецкого гамбита». Маса вспоминает о событиях, относящихся к периоду «Алмазной колесницы», «Коронации» и «Черного города», а актер Громов-Невский перемещается в «Не прощаюсь» прямиком из «Весь мир театр».
Но главным сюрпризом для читателя станет внезапная материализация на страницах нового романа бывшего контрразведчика, красавца-блондина, футболиста и шахматиста Алексея Романова – героя полузабытого акунинского цикла «Смерть на брудершафт». Романов, призванный олицетворять положительного носителя «красной» правды, изящно перекидывает мостик от фандоринского цикла к «Шпионскому роману», прозрачно намекая, что рыцарственные добродетели Эраста Петровича не угаснут без следа, но найдут достойного наследника и преемника в лице принципиального и вместе с тем человечного сотрудника «органов». Таким образом, в конце туннеля маячит если не свет, то во всяком случае продолжение – хотя и не совсем прямое.
Еще одно удачное решение – включение в текст множества старых фотографий, запечатлевших как реальных исторических персонажей, так и условного Алексея Романова (лица нигде не разглядеть, но видно, что блондин). Складывается впечатление, что Григорий Чхартишвили внимательно прочитал В.Г.Зебальда и решил взять на вооружение его манеру раздвигать границы повествования за счет псевдо-документального визуального ряда. Образы старой Москвы и лица людей, которым довелось пережить исторические события, описанные в романе, и правда добавляют объема и неожиданной глубины акунинскому тексту – как всегда, несколько механистичному и одномерному. Ну, а магистральная идея романа (нет «хороших» и «плохих» сторон, выбор между ними условен, зато есть хорошие и плохие люди, и персональные симпатии работают куда надежнее абстрактных идеалов) при всей банальности относится к числу тех, что почти не портятся от многократного повторения.