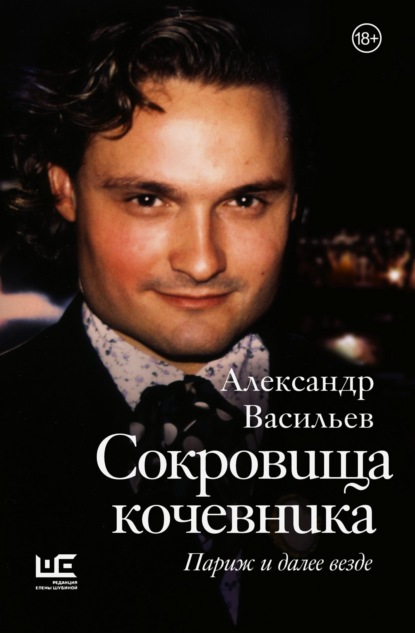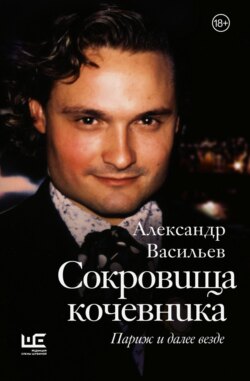
000
ОтложитьЧитал
Эрте
Кого совершенно не выносили ни Добужинский, ни Бушен, так это Романа Петровича Тыртова – художника, прославившегося на весь мир под емким псевдонимом Эрте, возникшим из его инициалов. В отличие от своих коллег, Роман Петрович обожал светскую жизнь, постоянно посещал рестораны и светские рауты, был завсегдатаем русского кабаре Людмилы Лопато. Он пудрился, надевал крахмальные воротнички, очень любил бриллиантовые броши, носил парик, жилеты и приталенные пиджачки… Словом, походил на Дроссельмейера, выглядел очень гламурно и моложаво – в отличие от Добужинского и Бушена, которые не считали Эрте настоящим художником. Популистом – да, модным иллюстратором – безусловно, но художником… никогда! Людмила Лопато окрестила его «бабушкой Эрте».
Эрте дважды входил в моду с разницей в 50 лет. Когда в 1970-х годах на экраны вышли фильмы «Великий Гэтсби», «Смерть на Ниле», «Кабаре» и «Багси Мэлоун», которые идеализировали эпоху ар-деко двадцатых годов, стиль ретро стал безумно популярным. Благодаря интересу к этой декаде, на авансцену вернулись некогда знаменитые художники той поры – Соня Делоне, Тамара Лемпицка и, конечно, Эрте.
Роман Петрович оказался предприимчивым человеком. Уловив это веяние, он начал популяризировать свои очень узнаваемые рисунки через печать на ткани, на полотенцах, фарфоре, плакатах… Он написал книгу воспоминаний, которая разошлась бешеным тиражом. Ни Добужинский, ни Бушен, надо заметить, мемуаров не оставили.
Эрте прожил всю жизнь в Булони на улице Гутенберга в доме номер 21. Это предместье Парижа, небольшой городок, который находится на границе 16-го квартала и Булонского леса, в 1900-е годы был любимым местом прогулок у аристократов. Чтобы понять, что такое Булонь, рекомендую всем посмотреть фильм «Жижи», в котором главную роль сыграла моя приятельница – актриса и балерина Лесли Карон. Кроме нее в этом изумительном мюзикле снимались Морис Шевалье, Луи Журдан и Эва Габор. Действие картины разворачивается как раз в Булонском лесу, зрители видят эти красивые выезды в каретах, скачки, прекрасных дам в шляпах… Сегодня Булонский лес стал ночной клоакой Парижа. Проститутки прогуливаются по аллеям леса в шубках и пальто, накинутых на абсолютно обнаженные тела. За вознаграждение они распахивают их, демонстрируя товар, так сказать, во всей красе. По другим аллеям бродят жиголо и тоже распахивают перед желающими пальто, показывая все, что можно, и все, что нельзя.
Эрте, который уйдет из жизни в 1990-м году, прожив в Булони на улице Гутенберга несколько десятилетий, застанет обе эпохи – и ту, что ближе к сюжету фильма «Жижи», и ту, что с жиголо и проститутками.
В то время, когда мы с Романом Петровичем познакомились, ему было за девяносто. На полу перед входной дверью его квартиры лежал коврик с инициалами «Р.Т.». Такие же инициалы были выбиты на табличке под звонком. Дверь мне открыла его помощница по хозяйству. С сильным испанским акцентом она поинтересовалась по-французски:
– Вы к месье? – И, дождавшись моего кивка, пригласила: – Проходите, он вас ждет.
В своей пятикомнатной квартире Эрте жил совершенно один, если не считать нескольких кошек, которые большую часть времени проводили на его рабочем столе. Когда он рисовал, а рисовал он почти до ста лет, кошки завороженно следили за тем, как хозяин водит карандашом по бумаге. При этом на рабочем столе Романа Петровича царил идеальный порядок – никакого художественного бардака, ни одной пылинки, потрясающие перья и кисточки… Все очень изысканно. Я бы сказал, что дом Эрте был в стиле «цирлих-манирлих»: есть такое немецкое выражение, что значит – совершенно манерно. Свет горел приглушенно-желтый. Создавалось впечатление, будто ты в музейном пространстве. Никакого яркого света, дабы не выгорали рисунки.
В стену, которая разделяла холл и кабинет Романа Петровича, был встроен огромный аквариум с экзотическими рыбами – точь-в-точь как в ресторанах с морской кухней. Сквозь воду и плавающих рыб можно было следить за тем, кто вошел в квартиру. Но что меня поразило больше всего, так это бар, представлявший собой огромный бокал. Нажатием специальной кнопки бокал раскрывался пополам, демонстрируя начинку в виде множества бутылок с самыми дорогими напитками. В основном это были аперитивы, ликеры и дижестивы. Снаружи этот бокал был исписан автографами знаменитых гостей Романа Петровича – киноактеров, художников, режиссеров… По молодости лет многих имен я попросту не знал. Большинство было подписано 1936–1938 годами. Но я запомнил автограф американской кинозвезды Клодетт Кольбер – закадычной подруги Эрте. Они часто вместе путешествовали. Особенно любили выезжать на остров Барбадос в Карибском море, где плавали наперегонки, когда обоим было уже за девяносто лет. На Барбадосе Клодетт Кольбер и скончалась, там ее кремировали и похоронили.
Еще одним интересным предметом интерьера в квартире Эрте был потрясающий секретер, раскладывавшийся на манер пятистворчатой ширмы. Первые створки раскрывались как ставни, и гости видели рисунки хозяина, затем раскрывались вторые створки – и рисунков становилось еще больше. Это была экспозиция его работ, которая, конечно, могла меняться, но, я думаю, что долгие годы она не обновлялась. Будуар художника украшало огромное зеркало с мраморным подзеркальником, уставленным многочисленными серебряными коробочками и флакончиками с гравировкой «Эрте». Это были пудреницы, мушечницы, футляры для гребешков и расчесок, полиссуаров и других маникюрных принадлежностей.
По-русски Роман Петрович говорил очень грамотно, без всякого акцента. Когда переходил на французский, то это был старофранцузский язык с очень интересными и вышедшими из обихода оборотами. К примеру, он употреблял слово еще из мушкетерских времен plaît-il, что означает «позвольте переспросить». Его в то время уже не использовали. Также Эрте блестяще говорил на английском, испанском, немецком и датском. Языки ему давались легко. Но вместе с тем он был очень рад возможности поговорить со мной по-русски.
Первое, о чем я спросил у Романа Петровича при знакомстве, как он делает свои эскизы.
– У меня нет ни одного черновика, – ответил он. – Я рисую набело, потому что эскиз полностью рождается в моей голове, его остается только перенести на бумагу.
Эрте с большой охотой давал мне подробные интервью о своей жизни. С раннего детства, не проявляя особого интереса ни к кораблям, ни к пушкам, Роман стал рисовать. Вот что он рассказал мне:
– Я начал рисовать в три года цветными карандашами, а в шесть лет нарисовал свою первую модель платья. Это был эскиз вечернего платья для моей матери, который она отдала портнихе. Платье имело большой успех. Когда мать увидела, что мое увлечение рисованием серьезно, она представила меня знаменитому русскому живописцу Илье Ефимовичу Репину. Он похвалил стиль моих работ и дал мне первый урок рисования.
Роман Тыртов впервые побывал в Париже в возрасте семи лет в 1900 году на Всемирной выставке вместе с матерью и сестрой. С тех пор парижские воспоминания не давали ребенку покоя, он решил жить в этом городе во что бы то ни стало. В Петербурге он занимался рисованием в студии художника Лосевского.
Роман Петрович вспоминал:
– Когда я успешно окончил гимназию, отец предложил мне выбрать подарок, и, к неудовольствию отца, я попросил заграничный паспорт.
Но каково бы ни было отношение Петра Ивановича Тыртова – адмирала, директора Инженерно-морского училища – к просьбе сына, он дал свое согласие на поездку. Как известно, русские адмиралы слово держали. И в 1912 году юный художник отправляется самостоятельно в Париж, ставший впоследствии его второй родиной. В Россию он больше никогда не возвращался. Кстати, портрет отца Эрте кисти Кустодиева нашелся в фондах Третьяковской галереи.
Заботы о хлебе насущном в Париже заставили художника искать работу в маленьком модном Доме «Каролин». Он рассказывал:
– Я жил тогда очень скромно в меблированной квартире… Мой первый год в Париже был очень труден, к тому же хозяйке модного Дома «Каролин» мои рисунки вовсе не понравились, и в один прекрасный день она заявила: «Молодой человек, занимайтесь в жизни чем угодно, но никогда больше не пытайтесь стать художником по костюмам, у вас из этого ничего не получится». Сказав подобное, она выкинула в корзину мои эскизы.
Сегодня Дом «Каролин» не помнят даже самые дотошные историки моды, герой же моего повествования стал всемирно известным. Ущемленный в честолюбии молодой художник, вытащив из корзинки свои рисунки, положил их в конверт и отправил Полю Пуаре. На следующее утро в меблированной комнате его уже ждало письмо с приглашением от самого Пуаре.
В мастерской Пуаре Эрте разрабатывал модели пальто, платьев, шляп и причесок, оформлял вместе с художником Хосе Саморой спектакль «Минарет» для парижского театра «Ренессанс» весной 1913 года. (Во время работы над костюмами к «Минарету» Эрте общался с печально известной голландской авантюристкой Матой Хари, в то время танцевавшей в театре «Ренессанс».) Эрте подал мне идею собирать не только его эскизы, но и эскизы его коллеги, Хосе Самора, которыми я пополнил коллекцию моего Фонда. Именно за время работы у Пуаре художник создал свой неповторимый стиль иллюстраций моды, который и сегодня зовется «стилем Эрте». Теперь я собираю эскизы Хосе Саморы с таким же рвением, как эскизы Эрте, – их у меня в коллекции уже 16.
В мае 1913 года рисунки за подписью Эрте были впервые напечатаны в роскошном модном журнале «Gazette du Bon Ton», слава его постепенно росла, а стиль изнеженно-утонченных рисунков явно свидетельствовал о близости к дягилевской эстетике. Но до конца своих дней Эрте отрицал какое бы то ни было влияние Бакста на свое творчество, утверждая, что черпал вдохновение в персидских миниатюрах и краснофигурных греческих вазах, виденных еще в Эрмитаже… Также он вдохновлялся иллюстрациями знаменитого Обри Бёрдслея, называл того любимым художником и работал всю жизнь в том направлении, которое Бёрдслей породил.
Летом 1914 года, проработав у Пуаре 18 месяцев, Эрте покидает этот Дом моды и создает собственную коллекцию. Коллекцию эту ему отшивает первая портниха Пуаре – этот инцидент послужил поводом для судебного процесса против Эрте, который Пуаре выиграл. Это вызвало охлаждение отношений между двумя создателями моды, длившееся до самой смерти Пуаре в 1944 году.
В один из дней мы договорились о видеоинтервью для русского телевидения, но я вместе со съемочной группой и журналистками Катей Уфимцевой и Мариной Боровик опоздал на целый час. Есть у нас одна национальная особенность – мы живем по принципу «срослось и не срослось». Срастается редко. Ведь для того чтобы срасталось, нужно что-то делать. А Париж всегда был городом чрезвычайно привлекательным, полным соблазнов. Хочется и в музей заглянуть, и в магазин забежать, и сфотографироваться на фоне красивой витрины, а потом мы попали в пробку… Подумаешь – что нам этот старичок Эрте. Подождет! Роман Петрович был тогда страшно разгневан. В своем уже очень почтенном возрасте он знал истинную цену времени. Снятый фильм показали по Первому каналу, который, кажется, тогда назывался ОРТ. В кадре я и Эрте. Я задаю вопрос – он по-русски отвечает. Как сейчас помню, на мне был белый пуловер. Но о том, кто берет интервью, почему-то ничего не сказали – ни подписи, ни титра. Позднее фильм размагнитили и пленку смыли. Россия тогда до Эрте не дозрела. А теперь выставка Эрте прошла и в Эрмитаже, и в московском РОСИЗО. Я посетил обе, остался очень доволен.
Одной из самых главных покровительниц Эрте в Париже была русская хозяйка ночных кабаре Елена Мартини. Она вновь пригласила Эрте рисовать афиши для своего знаменитого «Фоли-Бержер», в котором сама когда-то начинала в качестве танцовщицы. Мартини прославилась своей знаменитой фразой: «Мне не нужна река из бриллиантов. Если я хочу реку, я прорываю ее в парке своего имения». В ее замке Вильменон на севере Франции Эрте создал волшебные интерьеры, и сегодня этот замок является музеем искусства Эрте. Стеганая спальня с альковом, мебель, составленная из рогов животных.
Светильники в замке по эскизам Эрте делал англо-китайский скульптор-ювелир Питер Чен, мой знакомый по Глазго. Он говорил, что Эрте хорошо рисовал, но ничего руками не лепил. Появление на сегодняшнем рынке бесчисленного количества бронзовых скульптур по его эскизам является просто коммерческой популяризацией наследия этого талантливого иллюстратора, к нему прямого отношения не имеющей. Последнюю свою работу, бродвейский мюзикл, Эрте начал в 97 лет, поскольку обладал неуемной творческой энергией, а это – дар Божий!
До последних дней Эрте любил путешествовать. Он постоянно находился в пути между Мальоркой, где строил свою летнюю резиденцию, Лондоном, Нью-Йорком, Барбадосом и Парижем. Во время поездки в 97 лет на остров Маврикий Эрте внезапно заболел и был перенаправлен на частном самолете американских друзей в Париж, где и скончался в госпитале «Кошен» в пасхальную субботу, 21 апреля 1990 года в 4 часа утра. В больнице Эрте составил список приглашенных на траурную церемонию, я был в их числе.
Отпевание состоялось в парижском Кафедральном соборе Александра Невского. Гроб из красного дерева, выполненный по его эскизу, был весь усыпан цветами, которые принесли танцовщицы-«голяшки» из «Фоли-Бержер», выступавшие в созданных им костюмах. Эрте похоронили на Булонском кладбище в семейной могиле, где покоятся его родители.
Душеприказчиком стал водитель, датчанин по происхождению, который работал и жил с ним много лет. Он же, вступив в права наследования, устроил большую распродажу вещей Эрте. Мне удалось приобрести какое-то количество рисунков. Всего в моей коллекции 16 эскизов. Но Роман Петрович создал их более тысячи. Одно время они стоили по 10 000 долларов за лист, потом интерес спал, а с ним спала и цена.
Появилось множество подделок, однако о том, как определить безошибочно оригинал, мне рассказывал сам Эрте. Все его подлинные эскизы обязательно на обороте имеют штамп с надписью по-французски «Со стола Эрте». Если такого штампа нет, будьте уверены, что этот рисунок – копия его ассистентов. Дело в том, что Роман Петрович работал в эпоху, когда не было ксерокса, а театральные мастерские требовали копии эскизов для работы. Портные, обувщики, шляпницы – всем нужно по экземпляру. Поэтому ассистенты через стекло и лампу на просвет просто перерисовывали эскизы.
Я не купил ни одного листа без штампа «Со стола Эрте». Это было довольно дорого. Но ведь для того мы и работаем. И если кого-то любим – надо покупать. Нравится вам Любовь Орлова – купите автограф. Любите Эрте – купите рисунок. Очень часто обеспеченные дамы мне говорят: «Так недорого продавался Айвазовский, а я не купила, хоть возможность и была. Теперь жалею». Вот чтобы не жалеть – покупайте. Конечно, при наличии возможности. Художникам нужны вы как коллекционер, а вам нужно это искусство. Это не только удовольствие, это их энергия. Вы чувствуете близость.
Первый спектакль
Моей мечтой была работа во французском театре. Я выходец из театральной семьи и получил профессиональное образование в Школе-студии МХАТ. Но выйти на профессионалов в театральном Париже не так просто.
Катрин Бодимон, родная сестра моей супруги Анны, крутила роман с театральным режиссером Жаном-Пьером Дуньяком, учеником Григория Хмары и Тани Балашовой. Но именно в тот 1982 год Дуньяк был без работы, а «женуля» моя совсем не хотела способствовать моей театральной карьере.
В Париже у меня было несколько подруг, с которыми я познакомился еще в Москве, где они проходили стажировку по русскому языку. Возвращаясь во Францию, каждая из них оставляла мне свой телефон со словами: «Приедешь в Париж – звони, я тебе помогу». Если честно, из них не смог помочь практически никто, но было бы неправдой сказать, что они не делали попыток. Одна из них, дочь офицера Национальной жандармерии, сказала:
– Папа мне не велел общаться с тобой, ты иностранец, пока еще не французский гражданин, поэтому я с тобой могу гулять только вокруг казармы.
И мы гуляли вокруг казармы. Еще одна, милейшая Лор Дюбурдье, жившая в родительском особняке в Медоне, приняла меня радушно и помогла сделать самое главное – CV, или Curriculum Vitae, что в переводе с латыни означает «биография» (сейчас бы сказали – резюме). В ней я перечислил всю свою творческую работу в Москве, а ее было немало. Эта биография сильно помогла мне при поиске работы.
Другая – Изабель Дешан, дочь французского посла на Коморских островах, сказала:
– Я тебя так люблю, что я тебе помогу. У меня есть знакомое кафе на Монпарнасе, где требуется бармен, и я тебя туда устрою.
Я подумал: ну разве это хорошо – быть барменом?
– Тебе деньги будут платить, еще и блинов наешься!
Блинную, куда меня решила устроить Изабель, держал бакинец. Увидев меня, он обрадовался:
– Я тебя хорошо знаю, ты же «Будильник» вел. Беру тебя на работу!
(Детскую передачу «Будильник» я вел на Первом канале вместе с актрисой Надеждой Румянцевой в начале 1970-х годов.)
Мне надо было мыть бокалы и жарить блины. Первый блин, конечно, получился комом, второй подгорел, а третий можно было смело подавать посетителям.
Блинная располагалась в Пассаже, у входа в кинотеатр, и люди в ожидании сеанса или по окончании его заходили к нам перекусить, выпить кока-колы, лимонада и редко – винца. Отдельной категорией посетителей были работавшие на бульварах проститутки. Одна из них мне особенно запомнилась. Миниатюрная, как мне казалось, не выше 150 сантиметров, длинноволосая блондинка лет сорока, с выдающейся грудью и огромной связкой ключей в руках.
Обслужив очередного клиента, моя новая знакомая заглянула в блинную, чтобы пропустить стаканчик красного вина.
– Откуда ты приехал? – поинтересовалась она.
– Из Советского Союза.
При упоминании Советского Союза на лице этой дамы отразилась гримаса сострадания.
– Хочешь, я тебя обслужу в полцены?
Мое жалованье в блинной составляло 20 франков в день. Что можно было купить на эти деньги? Ничего. Максимум – один раз скромно пообедать. К тому же человек, которого я временно заменял, вскоре вернулся на свое рабочее место, и мне пришлось из блинной уйти. Не могу сказать, что очень горевал по этому поводу, ведь в это самое время моя приятельница Аньес Мори, также проходившая стажировку в МГУ, сказала:
– Ты хочешь найти работу в театре? Я тебе помогу.
Аньес была дочерью главы протестантской церкви Франции и безумно любила Россию. Она обожала русскую литературу, поэзию Марины Цветаевой, музыку, подробно изучала язык и переживала бурный роман с очень красивым артистом Московского театра имени Пушкина Алексеем Булатовым, внешне напоминавшим купца Калашникова. Аньес познакомилась с ним в Москве и, в конце концов, вытащила в Париж. Не знаю, вышла ли она за него впоследствии замуж, но Алеша Булатов прожил во Франции несколько лет.
Аньес сообщила, что с ней в одном подъезде живет актер Фредерик Моро – любовник популярного театрального режиссера Евы Левинсон. Для меня, конечно же, это были все пустые звуки – Фредерик Моро, Ева Левинсон… Но Аньес настаивала на знакомстве.
Получив от нее телефон, я позвонил и представился по-французски. На том конце провода мне ответили по-русски с сильным польским акцентом. Оказалось, Ева Левинсон, до того как стать режиссером, переводила с русского на польский Иона Друцэ, знаменитого молдавского драматурга.
– Приезжай ко мне в 14-й квартал, – тут же сказала она.
Поскольку я сам жил в 14-м квартале, то дошел пешком.
Меня приняла невысокого роста, стройная женщина с совершенно библейской внешностью: орлиный профиль, черные, вьющиеся мелким бесом волосы, карие глаза, очень светлая кожа…
Я показал диапозитивы, на которых были сцены из спектакля «Волки и овцы», оформленного мною перед самым отъездом во Францию. Ева посмотрела эти диапозитивы на просвет:
– Надо же, ты работал в каком-то очень большом театре.
– В большом – не большом, но профессиональном, – без лишней скромности подчеркнул я.
– Это очень хороший уровень, ты мне полностью подходишь! Я готова дать тебе работу.
Ева предложила мне трехмесячный контракт на сумму в шесть тысяч франков в месяц. По советским меркам – огромные деньги, что-то около 600 рублей. Для сравнения напомню, что в блинной мне платили 20 франков в день, а в Москве моя стипендия Станиславского составляла 90 рублей. Я понял – это мой звездный час.
Мне предстояло оформить спектакль по пьесе «Папесса Иоанна», написанной известным в ту пору драматургом Одиль Эрет. Это реальная история римского папы Иоанна VIII, который был женщиной и родил ребенка во время одной из процессий. Надо заметить, что с тех пор каждый новый папа проходит специальную проверку на мужественность. В присутствии двух десятков кардиналов очередного кандидата сажают в специальное кресло с отверстием в центре. Один из кардиналов забирается под сиденье и проверяет под папской сутаной наличие мужского естества. Эта традиция сохранилась по сей день. И вот что интересно – пьесу Одиль Эрет издали отдельной книжкой с моими иллюстрациями. Я послал один экземпляр в библиотеку Ватикана и получил благодарственное письмо.
Но вернемся в Париж лета 1982 года. Подписав контракт, я сразу получил аванс. Это позволило мне купить краски и бумагу для эскизов. Когда я сказал Еве Левинсон, что собираюсь идти за тканями в «Дрейфус» на рынке Сент-Пьер, она сказала:
– Молодец, мы туда все ходим!
Сама Ева Левинсон была родом из Варшавы. Во Францию она приехала к своей тетке, которая во время войны бежала из Польши и поселилась в Иври, в квартире, обставленной мебелью в стиле ар-деко. Помню гостиную с диванами необычайно графично обитыми рытым бархатом с геометрическим рисунком – просто мечта эстета! Она немало работала в качестве личного ассистента знаменитого французского режиссера Антуана Витеза, ученика Григория Хмары. Высокий, остроносый и худощавый Антуан тут же меня приметил:
– Ты же русский? Я тебе тоже дам работу, будешь оформлять «Чайку».
С большим энтузиазмом я принялся рисовать эскизы костюмов к чеховской пьесе, которую уже однажды оформлял в Школе-студии МХАТ в постановке Киры Николаевны Головко. Закончил в рекордно короткие сроки и позвонил Витезу.
– Эскизы готовы! Куда мне их принести?
– Какие эскизы? – растерялся он.
– Как же? Эскизы к «Чайке».
– А я уже совсем забыл о тебе и поручил эту работу другому художнику, Янису Коккозу.
Это одна из особенностей французов. Они часто что-то обещают или предлагают, потому что пришлось к слову. То, что вам предложат сегодня, может быть забыто завтра. Я тогда понял: если предложение не подкреплено контрактом и авансом – соглашаться нельзя.
Но вернемся к Еве Левинсон. Одну из главных мужских ролей она поручила, конечно же, своему юному любовнику Фредерику Моро. Играл он довольно бледно, но красиво смотрелся на сцене. Другую значительную роль поручили бывшему актеру театра Витеза, известному Жан-Пьеру Журдену, который пришел в восторг от моих костюмов. Ставился спектакль в городе Пуатье на сцене Регионального центра драматического искусства. Почему именно там, ведь во Франции очень много регионов-департаментов, и у каждого свой бюджет на культуру? Ева, конечно же, подавала прошение практически в каждый, но откликнулись на идею поставить «Папессу Иоанну» только в Пуатье. Возможно, потому что в городе находится старинный храм Нотр-Дам-ля-Гранд XI века эпохи раннего католицизма, построенный в романском стиле.
Моя жена Анна довольно скептически отнеслась к необходимости моей поездки в Пуатье.
– Сколько тебе заплатят? – спросила она.
– Шесть тысяч франков.
– Шесть тысяч?! – воскликнула Анна, которая зарабатывала ту же сумму в Министерстве внутренних дел в отделе таможни. – Тогда, конечно, поезжай. Тебе там гостиницу снимут?
И вот я впервые приехал в Пуатье. Ева Левинсон первым делом повела меня в ресторан. Тут состоялось мое знакомство с высокой французской кухней, состоящей из нескольких традиционных блюд. Это почти всегда бланкет из телятины, андуйет, антрекот, сюпрем де пуле. Ни одно из названий мне ни о чем не говорило, ведь в СССР в ту пору не было культа еды, а тем более культа мяса, который существует во Франции. В Москве приходилось есть, что дают: курочку – хорошо, рыбку – прекрасно, макарошки по-флотски – тоже неплохо. В СССР мы чаще всего ели домашнюю еду, мама делала пиццу, заливную рыбу, мусаку, баранину по-болгарски… Но мы мало были знакомы с ресторанным меню, тем более с французской кулинарией.
В ресторане города Пуатье я заказал блюдо с самым, на мой взгляд, интересным названием – андуйет. Оказалось, это колбаса, похожая на сардельку. Есть даже такое французское ругательство – «андуй», что означает «ты прост, как сарделька». Но тогда меня все поражало – приглушенный свет, белые крахмальные салфетки, мягкие диваны, свечи на столе.
Нас поселили в самом центре Пуатье, откуда я каждый день пешком добирался до культурного центра, где решил все сделать так, как меня учили в Школе-студии МХАТ: художник – то есть я – сидит за главным столом, а за другими столами в поле моего зрения портнихи и закройщицы со своими машинками. Но во Франции так не принято, и Анни, моя ассистентка, которая шила костюмы, сказала, что всякая иерархия – это полный снобизм, что она, сама художник, тоже хочет творить и начальство ей не требуется. Тогда я брался за нитку с иголкой и собственноручно пришивал камни, кружево, аппликации…
Когда выяснилось, что декорации должны быть живописными, я с благодарностью вспомнил свою практику в Большом театре, которая совпала с подготовкой спектакля «Бал-маскарад» в постановке Семена Штейна. Автором роскошных декораций был Николай Бенуа. Его уроки длились, быть может, не больше недели, но запомнились мне на всю жизнь. С тех пор декорации во многих театрах мира я писал сам. Так было и в Пуатье, и в Анкаре, и в США, и в Лиссабоне, и в Чили… Я знал, как расчертить квадраты метр на метр, как на эти квадратики перенести рисунок, как заполнить их клеевой краской… Я не считаю себя великим театральным живописцем, далеко нет. Но мне хотя бы знакома техника, потому что многие вообще не представляют, как подступиться к этому.
Я должен был написать итальянский пейзаж эпохи Средневековья. Причем пейзаж располагался внутри огромного гардероба, потому что по задумке Евы Левинсон главная героиня живет в современном мире, воображает себя Папессой Иоанной и однажды, заглянув в гардероб, обнаруживает внутри вместо платьев средневековую Италию. Я расписал внутренние створки этого шкафа, получилось очень красиво и романтично. Но была проблема. В кухне у главной героини должна была стоять газовая плита, которую Ева велела мне приобрести.
– Но я не так давно приехал из Москвы и понятия не имею, где продают винтажные газовые плиты, – сказал я.
Ева была непреклонна:
– Это твое дело найти плиту. Я тебе плачу – ищи.
К счастью, актер Жан-Пьер Журден меня утешил:
– Не расстраивайся. Есть такой магазин бывших в употреблении хозяйственных товаров, который называется «Эмаюс». Наподобие Красного Креста, туда люди отдают ненужные вещи – посмотри там.
Я поехал в «Эмаюс» и за копейки купил плиту, которую можно было подключить, – и она работала!
Кроме плиты требовалось привезти из Парижа в Пуатье ткани, нитки, украшения, кисточки и тесемочки… Но я понятия не имел, где расположены магазины, в которых все это можно купить. Интернета в ту пору не существовало, и я не мог, как сейчас, загуглить, где продаются пуговицы, где можно купить бахрому, где взять венчальные короны и кресты для священников, а где найти бусы и обувь… Если ты не владеешь этой информацией, ты никому не нужен.
– Ты художник, тебе платят – ищи, – тоном, не терпящим возражений, заявила Ева Левинсон.
– А ты не можешь мне подсказать?
– Я тебе плачу, это не мое дело.
Ева Левинсон оценила, что я расписал шкаф и нарисовал декорацию, но при этом я оставил капли краски на полу культурного центра, и она сказала:
– Тут не Кремль. Ты сейчас возьмешь тряпку, щетку и порошок и всё будешь мыть.
– А что, нет уборщицы? – удивился я.
– Уборщицы все остались в вашем Советском Союзе. Здесь ты и художник, и уборщица.
В тот момент, когда я, сидя в джинсах на полу, оттирал краску, мне сообщили, что умер Брежнев. Актриса, игравшая кормилицу Папессы Иоанны, сказала по-французски: «Ты знаешь, ваш-то копыта отбросил. Теперь у вас будет другая жизнь». Я от неожиданности выронил из рук скребок. Мне казалось, что Леонид Ильич будет жить вечно.
Мытье полов в Пуатье раз и навсегда приучило меня к аккуратности. Мне настолько не понравилось орудовать скребком и тряпкой, что в других театрах я полы не пачкал, поскольку точно знал: уборщицы не будет.
Были еще проблемы. Исполнительница главной роли параллельно работала статисткой в кино, играла в эпизодах у Висконти и при этом мнила себя звездой первого ранга. Звали ее Катрин Кальве. Дамой она была красивой, но капризной и своенравной. Она мне сказала: «Твоя корона тяжела». Облегчить митру, головной убор Папессы, я никак не мог, потому что по задумке Евы Левинсон она представляла собой птичью клетку с живой канарейкой внутри. Во время репетиций негодующая артистка так вертела головой, что канарейка в конечном итоге взбесилась – пришлось заменить ее искусственной птичкой.
Прошло время. Я получил контракт на создание декорации к юбилею огромного трехэтажного антикварного магазина в центре Парижа – «Лувр антикваров», и у меня взяли большое интервью для одного из французских журналов. Вообще во Франции любая публикация – это событие, особенно для приезжего человека. И вдруг я встречаю Катрин Кальве, которая нарочно пришла в «Лувр антикваров», чтобы меня повидать.
– Ну, Васильев, ты такой рывок сделал в Париже, – сказала она. – Ты на улице Риволи, о тебе пишут в прессе, а я так и осталась в массовке кино.
Тогда же Катрин попросила меня подарить ей театральный грим советского производства для ее коллекции гримов из разных стран мира. Я эту просьбу выполнил. Грим мне передали с оказией из Москвы. Получив черную пластмассовую коробочку с надписью «ВТО», Катрин Кальве призналась:
– Я с тобой была очень жестока тогда, в Пуатье, потому что чувствовала себя звездой. А теперь все наоборот – ты звезда!
Но вернемся в Пуатье. В пьесе «Папесса Иоанна» действовали три кардинала, для которых в том же самом Красном Кресте мне удалось купить подлинные, вышитые золотом облачения католических священников, что произвело большое впечатление на Еву Левинсон. Однако у каждого кардинала в руке должно было быть по жезлу. Эти жезлы создавали крестовину, на которую верхом садилась Папесса. Все материалы, которые я использовал, прогибались или ломались.
- Дом на Старой площади
- Сокровища кочевника. Париж и далее везде