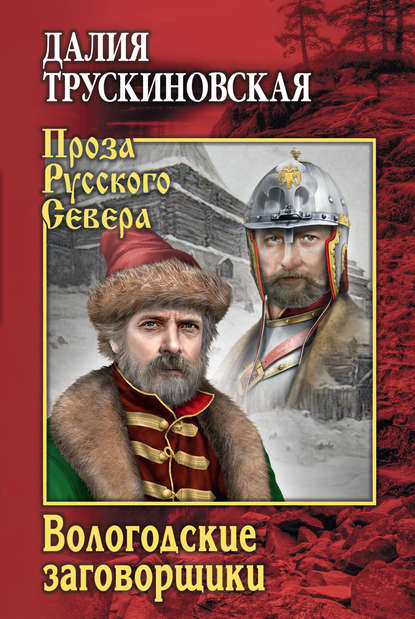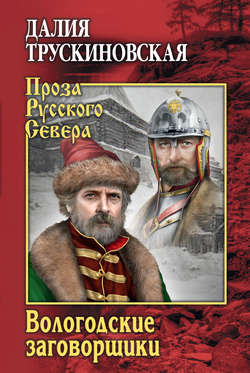
000
ОтложитьЧитал
– Он не обучен, – вдруг испугавшись, сказал старый подьячий. – Не справится, осрамится.
– Обучат! Сперва подсказывать будут, потом запомнит. Я сам алтарничаю, знаю!
Вот и вышло, что счастливый Гаврюшка вместе с длинноногим Насонком, едва за ним поспевая, помчался к Успенскому собору.
– Что имя-то у тебя такое? – спросил Гаврюшка.
– А что? Обычное имя. У нас пол-Вологды Насонов.
– Отродясь такого не слыхивал.
– Мало ли – не слыхивал он. Вологда наша – Насон-град, вот и мы – Насоны.
– Да что за святой такой?
Насонко даже остановился от неожиданности.
– Ты что, Святого Писания не читал? Апостолов поименно не знаешь?
– Знаю! – возмутился Гаврюшка. – Всех двенадцать!
– А Насон – он от семидесяти! Ты у отца Памфила спроси – он тебе про семьдесят апостолов растолкует. И отчего Вологда так зовется. Насон и Сосипатр – вот как их звали, и когда справляли их память – в тот самый день крепость заложили, и царь ей так зваться велел. А было это вскоре после Муромской. Может, ты и про Муромскую Богородицу не слыхал?
– Отчего же не Сосипатр-град?
– Оттого, что натощак не выговорить!
Чтобы попасть к храму поскорее, Насонко повел Гаврюшку речным берегом. Там довольно высоко была проложена подходящая тропинка, что вела к кремлю, к Софийским воротам.
– Что за река, как звать? – спросил Гаврюшка.
– То наша Вологда. У вас град Москва и река Москва, у нас – так же. Запоминай, сам тут ходить будешь.
– Коли возьмут…
– А чего не взять? Ты же не дурак.
– И куда ваша Вологда впадает?
– А в Сухону.
– А Сухона – куда?
– Да в самое море, поди… – неуверенно ответил попович. – У нас суда строят да к морю их отправляют. И идут они долго, купцы сказывали, и Вологда петляет, и Сухона. А что с моря к нам везут – так тоже по рекам.
Речка Вологда по зимнему времени использовалась вовсю – по ней были проложены санные колеи, бабы-мовницы заставили мужиков пробить проруби для полоскания белья. Сверху были видны очертания устроенной на Крещенье купели, которую давно затянуло льдом. Как полагается, на берегу стояли бани, и из других прорубей, что выше по течению, туда таскали ведра с водой. И там же баловались дети – съезжали с крутого берега на лед кто на салазках, а кто и на собственной заднице. Гаврюшка только вздохнул: он сам себя почитал уже взрослым, а страх как хотелось съехать хоть на клоке рогожи и пронестись чуть ли не до другого берега.
– Запоминай дорогу, – сказал попович. – Я тебя всякий раз водить не стану.
Кремль, который вологжане звали Насон-городом, как ему и полагается, стоял на возвышенном месте. Гаврюшка только фыркнул: далеко ему до московского, хоть стены каменные, но башни – деревянные. Сам невелик, а башен, как оказалось, двадцать три. Вошли Гаврюшка с Насонком через Софийские ворота – и сразу оказались возле собора.
– Вот Соборная площадь, а там у нас Торговая площадь, – сказал Насонко. – Слышишь, как галдят? С первых же денег сбегай, найди пряничный ряд, там посмотри, в которой лавке лучшая яблочная пастила, попроси отведать. Она у нас знатная!
Увидев храм, Гаврюшка удивился. Ему два или три раза доводилось бывать в Московском кремле с дедом – когда тот видел получше. И запомнил Гаврюшка московский Успенский собор. Тут же глазам не поверил: словно кто-то взял его и перенес в Вологду. Точно такие же пять глав-луковиц на толстых шеях, и окна – узкие и длинные, и соразмерность всех его частей. Но здешний храм обнесен каменной оградой с железной решеткой.
– Его еще прежний государь поставить велел, сам место указал, – похвастался Насонко. – Он ведь живал тут у нас. Сказал звать так: соборная Софийская церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы.
– Должно быть, много тут попов служит…
– А немного. Храм-то построили, снаружи все чин чином, внутри – и конь не валялся… ох, прости Господи! Один лишь Иоанновский придел в божеский вид привели, и там службы идут. Там и будешь пономарничать.
Принял Гаврюшку в храме старенький отец Памфил.
– Говоришь, службе не навычен? Хорошо, что сразу повинился, – сказал батюшка. – И хорошо, что пришел. Тебя Господь направил – чтобы в Светлую седмицу ты уже служил. Я тебя беру. Вот первое послушание – канунник в порядке содержать, огарочки прибирать, вон для них ведерко. Потом – лампадки возжигать на иконостасе и у чтимых образов. Прибираться будешь в алтаре…
– Как, батюшка?
– Ты что, не видал, как бабы полы моют и пыль стирают? Вот точно так же, чадушко. Не баб же в алтарь пускать. Так что и в алтаре, и в ризнице. Освоишься, начнешь понимать службу – тут тебе доверю кадило, чтобы загодя готовил и вовремя подавал. Потом плат будешь подавать – причастникам уста утирать. Тебя ведь ко мне сам Господь привел, я тебя научу Церковь любить. Сам знаешь – кому Церковь не мать, тому Бог не отец.
– Благословите идти, батюшка, – сказал Насонко. – Меня дома ждут.
– Отцу Амвросию кланяйся. Ступай, чадо.
Гаврюшке было стыдно спрашивать о плате. И он думал, что о деньгах должны договариваться старшие. Но отец Памфил сам повел об этом речь.
– Миряне платят за требы, чадо, и с каждых крестин, с каждого венчания и отпевания пономарю копеечка перепадает. А требы у нас часты. Вологда – город большой, и женятся люди, и помирают… Есть и еще приработок. Пойдем-ка в алтарь, там у меня большая Псалтирь лежит.
Впервые в жизни Гаврюшка оказался в этом святом месте. Даже встал на пороге, не решаясь войти. Но батюшка напомнил: вот тут и придется труждаться, порядок блюсти, полы мыть. Потом он наугад раскрыл Псалтирь и велел читать.
Дед выучил внука читать четко, не частить, чтобы каждое слово звучало веско и вразумительно. Гаврюшка знал, что не опозорится. Ему попался сороковой псалом.
– Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его, и живит его, и да ублажит его на земли и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его…
Гаврюшка был потрясен тем, что вот он – в алтаре, и читает такой замечательный псалом, и вдруг он понял, что это не царь Давид говорил Господу о каких-то давних делах, а он, Гаврюшка Деревнин, просит великой милости в неведомой беде.
Отец Памфил дослушал до конца и сказал:
– Лепота! Не думал, что отрок с таким дивным понятием читает. Ну, с голоду ты не помрешь. Когда придут ко мне сговариваться насчет отпевания, я тут же тебя выведу. Ты ведь знаешь – над покойником всю ночь Псалтирь читать надобно. К утру, знамо дело, будешь носом клевать, но заплатят хорошо, и если срядиться за десять алтын, могут и алтын сверху накинуть.
Обнадеженный Гаврюшка взялся чистить канунник, стараясь сделать его как можно опрятнее, чтобы заслужить доверие отца Памфила.
Два дня он живмя жил в храме. Ему там понравилось – народу много, певчие поют сладкогласно, дед – далеко, Авдотья и ее дочки со своими дурными разговорами – тоже далеко, чего ж не жить? Опять же – долг скопившийся Господу отдал: отец Памфил исповедал его и допустил до причастия. Домой Гаврюшка прибегал поздно, мать наскоро кормила его, и он растягивался на полу, на толстом войлоке.
На третий день случилось неожиданное.
Видно, такова была Божья воля, что Гаврюшка увидел нечто странное.
Состоял в причте здоровенный детина Матвей – на том Матвее целину бы поднимать, пустоши распахивать, а он на клиросе басом поет и втихомолку с певчими бранится. Гаврюшка не то чтобы его невзлюбил – а несколько побаивался, хотя Матвей на него вовсе внимания не обращал. Уж больно огромен был тот Матвей.
Утром, после того как отец Памфил после причастия обратился к пастве с проповедью и отпустил всех с миром, несколько богомолиц осталось. Ничего в этом удивительного вроде не было – не успели свечек к образам понаставить, хотят с батюшкой о требе уговориться. Одна, про это Гаврюшка уже знал, ждала мужа-певчего, чтобы увести домой, пока не увеялся с приятелями пьянствовать. Гаврюшка, получив приказ протереть пол и шествуя с ведром воды в алтарь, и не взглянул бы на них, кабы не услышал голос.
Женщина спрашивала Ивановну, горбатую бабку, что по доброте душевной помогала следить за порядком в храме, о певчем Матвее, который-де, как его узнать, и Гаврюшка признал голос. Он удивился, искоса глянул на богомолицу – это была Авдотья. Правда, не нарядная, как полагалось бы, идя в церковь, пусть даже и в Страстную неделю, а вовсе в черном плате на голове, так низко надвинутом – не то чтобы ее лицо кто мог разглядеть, но и сама она видела лишь тот пятачок церковного пола, по которому ступала.
Очень удивившись, для чего бы ей вдруг понадобился верзила Матвей, Гаврюшка отошел в сторонку и стал исподтишка наблюдать. О всех делах семьи, связанных с церковью, он знал – и не понимал, зачем бы деду посылать Авдотью, когда передать на словах, что нужно, мог внук.
Тем более, что благодарственный молебен уже отслужил отец Амвросий, и других треб у семейства не предвиделось…
Авдотья же, быстро подойдя к Матвею, что-то ему шепнула, он кивнул, и тогда она, оглянувшись, передала ему некий сверточек. А потом без лишних разговоров вымелась из храма.
Гаврюшка чуть ведро не выронил.
Авдотья не была знакома с Матвеем, завести знакомство не желала, все, что ей требовалось, – сверточек передать.
Не понимая, что бы это значило, Гаврюшка решил сперва все рассказать деду, потом передумал: дед женат на Авдотье, нажалуешься на нее – и сам же потом виноватым окажешься. Такое с ним в детстве случалось. И потому он в тот же вечер обо всем рассказал матери.
Настасья никакого греха в передаче сверточка сперва не усмотрела – мало ли, кто-то из московских соседей попросил об услуге. Задумалась она уже потом. Ведь ни с кем из соседей деревнинское семейство, спешно собираясь в дорогу, и словом не обмолвилась, никто на двор не забегал, хотя, хотя…
Она вспомнила: Антип вызывал Авдотью на двор, когда привели возника с санями. Не Ивана Андреевича, а Авдотью. Она сказала потом, что смогла, выпросившись в церковь, передать весточку крестному. Может, в церкви ей кто-то и дал тот сверточек в холстинке?
Но ее размышлениям помешали доченьки – уже вроде помолились и спать легли, а вдруг поссорились из-за серебряного наперстка.
Поскольку Гаврюшка приходил довольно поздно, Настасья кормила его ужином отдельно. И их разговора никто не слышал.
Утренняя трапеза была рано – так Деревнин семейство приучил. И за этой трапезой Аннушка с Василисушкой принялись чирикать, как два милых воробушка: им, вишь, охота совершить богоугодное дело, малое паломничество, обойти все вологодские храмы. Настасья посмеивалась – ей была ясна причина такого богомольного усердия. И она понимала девиц: в Москве они всю зиму просидели взаперти, так хоть в Вологде погулять, размять ноженьки.
Авдотья также просила мужа за дочерей. На пасхальную службу весь город в церквах собирается – а им одним, что ли, дома сидеть?
– Да и я с ними пойду, – сказала она. – Я ведь тоже ничего тут еще не видела, только торг да Варлаамовский храм. Вчера там молилась, а ведь тут, сказывают, в кремле знатный храм есть, Успенский.
Она по привычке называла крепость посреди Вологды кремлем – ведь в каждом городе есть свой кремль, вологжане же чаще называли ее Насон-городом.
Гаврюшка знал, что Авдотья и соврет – недорого возьмет. Он невольно посмотрел на нее с любопытством, не понимая, к чему такое странное вранье. И взгляды встретились.
Никто не заметил этого поединка взглядов.
Авдотья даже рот приоткрыла – словно для беззвучного «ах». И глаза у нее округлились. Но тут же она с собой совладала.
Гаврюшка понял: Авдотья сообразила, что он ее видел в храме. Но почему из этого нужно делать великую тайну – он не понял. Настасья также поймала Авдотью на вранье, но промолчала: глупо встревать в чужие дела, свекор, может, и поругает Авдотью, да потом с ней помирится, а виноват окажется тот, кто правду сказал. И она под столом тихонько наступила сыну на ногу: молчи, мол!
И Гаврюшка промолчал.
Он был отрок сообразительный. В доме, где считали и берегли каждую получку, он тоже многое измерял деньгами. И он решил: было бы очень хорошо, кабы Авдотья заплатила за молчание. Деньги за пономарскую службу придется отдавать деду, а то, что даст Авдотья, – матери, на сестриц. Она уж вздыхала, что ножки у них растут, новая обувка вот-вот потребуется, не в лаптях же с онучами их водить.
Но Авдотья, поев, куда-то исчезла, и Гаврюшка, быстро собравшись, убежал в Успенский храм.
Глава 3
Настасьино счастье
Женщины пытались устроиться поудобнее в небольшой светлице. Все, что не требовалось сей же час, снесли вниз, в подклет. Первым делом пристроили в углу образа. Другой угол, дальний и теплый, отвели Деревнину, там поставили для него лавку. Всем прочим пришлось до лучших времен привыкать спать на полу. Отдельно приготовили место для Авдотьи с дочками, отдельно – для Настасьи с дочками, ближе к дверям – для Гаврюшки, мамки Степановны и Феклушки. Антип же уговорился, что будет пока ночевать на конюшне у Гречишниковых, там можно в тулуп завернуться да в сено зарыться. Опять же – весна на носу, пусть и потеплеет позже, чем обыкновенно в Москве. А летом спать на сеновале – удовольствие.
Деревнин был недоволен – не так он себе представлял купецкое гостеприимство. Он догадался, что выдворение гостей в съемную горницу – затея Анны Тимофеевны, которой вовсе не хочется держать в своих покоях лишних детей и женщин. И он привык жить в комнате один – не только во время постов, когда муж и жена спят раздельно, а во всякое время. Тут же одиночество отменялось, и надолго.
А Мартьян Гречишников, что бы Деревнин ни бурчал о нем, сидя в своем уголке, как раз заботился о своем благодетеле, которого сманил в Вологду.
Он при помощи Кузьмы немедленно принялся восстанавливать старые знакомства и заводить новые. Три дня ходил по лавкам, был и на Торговой площади, и в Гостином дворе, не говоря уж о том, что под боком, – Ленивой площадке, смотрел цены, сравнивал товары, задавал вопросы. Вечером братья Гречишниковы и сами в гости ходили, и гостей принимали, разговоры велись все те же – о товарах и ценах. Но не только.
На четвертый день, когда уж смеркалось, Мартьян Петрович заявился к деревнинскому семейству.
Настасья как раз была в подклете, разбирала узлы и ужасалась: сколько же всего нужного оставлено в Москве…
– Заходи, Мартьян Петрович, – сказал Деревнин. – Прости, что у нас тут словно Мамай прошел. Все в одной комнате ютимся, и тут же доченьки мои играют. И усадить-то тебя некуда.
В голосе был явный упрек.
– Я с доброй вестью, Иван Андреич, – ответил Гречишников. – Живет в Вологде черной сотни купец Анисимов. Хоть и черной, а богатство у него немеряное. Его приказчики дорогие меха скупают, он своих людей за рыбьим зубом посылает, их на Двинской губе все поморы знают, они с самоедскими князьками поладили. Поморы для него ходят к Мангазее, туда остяки и тунгусы провозят ясак и много чего на продажу, так они это берут.
– Мангазея?.. – спросил Деревнин.
– Да, там теперь и острог, и свой воевода. Не на пустое же место тунгусы с самоедами ясак везут. Анисимовские люди еду на Пустоозеро, там сходятся с самоедами, сделки ведут без денег, выменивают у самоедов соболей на сукно, холсты, сало, кольчуги, толокно. Артемий Анисимов – он оборотистый. Он один из первых с Москвы прибежал. Купил двор, осенью ему пристройки поставили, четыре сруба на подклетах, и наверху светлицы, живет хорошо, нам бы не хуже. А у него молодая жена Ефимья, и он ей угождает. Сам знаешь, как это делается. Мониста и серьги уж в укладки не вмещаются.
– Уж знаю… – проворчал Деревнин. Он уже не умел так угождать Авдотье, как хотя бы десять лет назад, и, чтобы жена не дулась, покупал спокойствие в доме подарками – пока еще мог делать подарки.
– Так вот, приехал сюда Анисимов со всем двором, опричь хором, и, понятно, притащил всех комнатных баб своей дуры. И что бы ты думал, Иван Никитич? Одна вдовушка в Москве за столько лет жениха не сыскала, а в Вологде огляделась, подцепила, повенчалась и ушла к нему жить. Другая и вовсе померла. Анисимовская женка шумит: все ей не так, ходить за ней некому! А вологодскую бабу не желает – они-де так лопочут, что не разобрать. Врет, конечно. Вот я и подумал о твоей Настасье. Сперва с самим Анисимовым переговорил: есть-де чистая вдова, примерного поведения, говорит на московский лад – не придерешься. Потом моя Терентьевна побежала, с Ефимьей Анисимовых толковала. Могут взять твою Настасью… погоди, не возражай! Могут взять вместе с дочками. У Ефимьи единое чадо – Оленушка, ей седьмой годок, ей подружки нужны.
– А какую ей положат плату? – спросил благоразумный старый подьячий.
– Для начала пусть за стол для себя и дочек послужит. Сумеет той взбалмошной Ефимье угодить – Анисимов отблагодарит. Ему покой в доме дороже золота и яхонтов.
– Эх…
Деревнин сказал одним своим «эх»: не думал, что доживу до того дня, когда невестку, вдову покойного Мишеньки, сам, своими руками, отдам в услужение к купчихе. Но там Настасья с дочками наверняка будет сыта. А ему, Деревнину, все заботы меньше – на три рта.
– И скажи ей – пусть не кобенится. В анисимовским доме богатейшие купцы бывают. Глядишь, кто на нее и заглядится. И возьмет, на троих детей не поглядит.
– Гаврюшку не отдам! – возмутился Деревнин.
– Ну, стало, Гаврюшку при себе оставишь, – усмехнулся Гречишников. – А ты не забыл ли часом, что у тебя две дочки на выданье? Пора о женихах подумать. Зови Настасью! Я же по одному дельцу еще съезжу и вернусь.
– Дарьица, беги за матушкой, – приказал дед.
Настасья, когда ей свекор сообщил о затее Мартьяна Петровича, перепугалась до полусмерти.
Она была настоящей теремной затворницей. При матушке своей – только в сад летом да в церковь Божию; выдали замуж за Михайлу – тоже нигде не бегала, одно знала – мужу угождать и деточек растить; помер Михайла – так себя блюла, как не всякой благочестивой вдове удается. Даже вольных речей, какими ключница Марья развлекала Авдотью, не слушала. И вдруг – в чужой дом, к незнакомым людям?
Но свекор, которого она привыкла слушаться, приказал: иди и служи той Ефимье честно, будешь всегда сыта и довольна, и с детками своими вместе; глядишь, и Гаврюшке что-либо перепадет. И не век же сидеть в Вологде – рано или поздно прогонят с Москвы панов, можно будет вернуться и опять зажить по-прежнему.
Как свекра ослушаться?
Но он велел принарядиться, и это смутило Настасью: никаких таких особенных нарядов у нее не водилось. Ну, есть одна, всего одна, красная рубаха-исподница, к ней шитые жемчугом запястья. Есть три летника[2] – синий, лазоревый и зеленый, две распашницы есть, к ним – вошвы[3], расшитые пестрыми шелками, есть еще кортеля[4], подбитая мехом, есть опашень[5] с серебряными пуговками, из красного сукна… телогрея есть, что еще?.. Не густо! Прочее, что было, перешила для дочек.
Выручила Авдотья.
Большой дружбы меж ними не было, но и не ссорились. Порой даже объединялись против Ивана Андреевича, не давая ему быть слишком строгим к детям. И вот Авдотья, вызвав на крылечко, сказала:
– Ты, свет, не его слушай, а меня. Наряжаться не вздумай! И румяниться незачем. Ты – бедная вдова, хочешь, чтобы взяли в дом из милости. Кто ее, ту Ефимью, знает – может, страшнее черта. А коли ты покажешься красивее, чем она, то держать при себе такую красу она не захочет. Ей, я чай, нужны комнатные женщины невзрачные, чтобы рядом с ними она была – царица! Опять же – пост еще не кончился, нечего наряжаться.
Настасья согласилась и с помощью Авдотьи собрала себе наряд – не так чтобы совсем смирный, но и достаточно скромный. Летник – синий, опашень взяла у мамки Степановны, неразбери-поймешь какого цвета, главное – темный. Поверх волосника, в который упрятала русые косы, надела тот убрус[6], что носила дома, его концы когда-то были богато расшиты жемчугом, теперь жемчуг был спорот и приготовлен для дочек. Кику[7] Настасья тоже одолжила у мамки Степановны – у нее их были три. В последний миг вынула из ушей висячие серьги, вдела «лапки». Совсем без сережек-то нельзя, неприлично. Не инокиня, чай. Эти «лапки» с синенькими камушками ей покойная матушка вдела, когда ушки только прокололи, потом их же Настасья вдела сперва своей Дарьюшке, потом своей Аксиньюшке. Теперь внучкам свекор велел носить другие серьги, побогаче, а эти лежали в укладочке.
Только собралась – а тут и Мартьян Петрович пожаловал.
– Готова? Вот и славно, – сказал он. – Сейчас же тебя и отвезу.
Оставив детей на Авдотью и Степановну, Настасья принарядилась и отправилась с Гречишниковым к Анисимовым.
Мартьян Петрович из тех лошадей, что шли в обозе, оставил двух, прочих продал, да еще сильного вороного возника, Никитин подарок, за которого хорошо заплатил Деревнину. Конюх Никанор его одобрил, а братец Кузьма сказал: чем в Вологде хорошего мерина искать, лучше этого забирай. Оставалось прикупить санки, в которые закладывать красавца, и он раздобыл отличные – чтобы, разъезжая по своим купецким делам, выглядеть достойно. Кучером посадил красивого парня Ермила, служившего у него в московских лавках в молодцах. Нужно ли открывать в Вологде свою лавку, Мартьян Петрович еще не понял; пожалуй, пока стоило вести торговлю со склада, куда будут приезжать за товаром хоть из Ярославля, хоть из Твери.
Гречишников усадил Настасью в санки, сам сел рядом, укутал ноги медвежьей полстью – и поехали.
Анисимовы жили тут же, в Верхнем посаде. Главной улицей там была Васильевская, она же постепенно переходила в Кирилловскую дорогу, которой вологжане ездили в Кириллов Белозерский монастырь. Проходила Васильевская через Каменье, и там поставил себе хоромы купец Анисимов. Хоромы на вид были не так чтоб хороши – из еловых бревен, строенные без единого гвоздя, окна – малы, крыши – под слоем земли, что, по мнению вологжан, могло уберечь от возгорания и пожара.
Но внутри Анисимов с домочадцами уже отлично обустроились, хотя, по словам Гречишникова, московские палаты были не в пример обширнее и краше. Окна купец велел делать слюдяные, не бычьим же пузырем их затягивать. Слюду велел ставить «монастырскую», красивую. Отыскал он и печников. Не так много было в Вологде слюдяных окошек, и печей с дымоходами, большинство вологжан топили избы по-черному, да и теплые церкви также.
Покои Ефимьи, стоявшие на трех высоких подклетах, имели свое крыльцо, довольно просторное – Настасья даже позавидовала: вот где хорошо было бы летом сидеть да рукодельничать! Сада, правда, не было, а Настасья выросла там, где даже небогатый человек имел при доме сад. И она подумала: куда же деточек летом выпускать, где им качели ставить?
Мартьян Петрович окликнул дворовую девку, что вынесла с поварни два ведра помоев, приказал взбежать к хозяйке и сообщить: приехала-де купецкая вдова, Настасья, Деревниных. Вскоре сверху прибежала девчонка – забрать Настасью.
– Ступай с Богом, – сказал Гречишников. – А меня в поминание впиши – хотя не тебе услугу оказал, а Ивану Андреичу. Молись, чтобы Господь мне прибыль послал. Потом, Бог даст, и для Авдотьи дельце сыщем. Может, прясть с дочками будет. Не пропадете!
Ефимья сама вышла Настасье навстречу. Увидела ее Настасья и обомлела: такой красавицы не то что на всей Москве, а и во всем царстве, поди, нет. В своих комнатах купчиха особо волос не прятала, из-под волосника были малость видны толстые золотистые косы, а пряди, что обрамляли лоб, пушились – их сколько ни смачивай, ни примазывай, гладкими не станут. Губы – алые, пухлые, носик – прямой и чуть вздернутый, щеки – свежие, полные, а глаза…
Как раз из высокого окошка пал свет на личико Ефимьи, и огромные синие глаза вдруг засверкали почище всяких яхонтов. Заговорила красавица – и Настасья увидела мелкие белые зубки, которые сравнить можно было разве что с жемчугом.
– Добро пожаловать, – нараспев сказала Ефимья. – Будешь умна и верна – озолочу! А что ж дочек не привезла?
– Я, Ефимья Савельевна, не знала, приглянусь ли тебе. А деток в холод туда-сюда возить не хотела, я их берегу. И то уже дорогой чуть не застудила…
– Ин ладно, поживи тут денька два. Коли пойдет у нас на лад – пошлю за детками каптану[8]. Да, да, как уезжали с Москвы – мой Артемий Кузьмич нарочно для меня купил у каких-то бояр каптану, в ней, поди, боярыня в Кремль, еще к царице Ирине, ездила! А теперь вот я выезжаю – то в богомольный поход соберусь, то к родне. Это чтобы ветер лица не попортил. Ты когда-либо каталась в каптане?
– Нет, матушка Ефимья Савельевна, – заробев от такой бойкости купецкой жены, тихо ответила Настасья. Каптаны она, конечно, видела – это целый домик на полозьях, и зимой ничего лучше быть не может – ни снег, ни ветер туда не попадают. Не то что в открытых санках от Москвы до Вологды – сколько гусиного жира женщины за эти дни на лица извели, и подумать страшно.
– Стало, и берись за дело. Ты рукоделиям обучена?
– Обучена…
– Глаша, приведи Оленушку! – велела купчиха. – Доченька взялась рушничок вышивать, первый! Швы знает самые простые. Так ты посиди с ней, поучи ее.
Ученье вышло сомнительное. Села Настасья с красавицей Оленушкой в светлице, и только девочка взялась за работу, как снизу мать присылает кусок медового пряника. Пряник съеден, опять иголку – в руки, сделано несколько стежков – снизу мать шлет плошку каленых орешков…
Когда за слюдяным окошком стало темнеть, Ефимия сама пожаловала – посмотреть, много ли вышито.
– И только? – удивилась она.
Настасья не знала, что ответить.
– А я-то думала… – В голосе купецкой жены было сплошное разочарование.
– Пойду я, Ефимья Савельевна. Вижу – не ко двору пришлась, – Настасья поклонилась и вышла на узкую лестницу. Ее шуба и отороченная полоской меха черная бархатная шапка остались в сенях.
Стыдно было до слез. Выходит, всех подвела – и свекра, и Гречишникова. Но не жаловаться же на дитя и на ту сердобольную матушку, которая то и дело шлет чадушку всякие заедки.
Как возвращаться домой – Настасья не знала. Ее привез Мартьян Петрович, на дорогу она не смотрела. И даже в какой улице поселил давнего приятеля Гречишников – тоже не знала. Понимала одно – нужно уходить, опозорилась, нужно уходить… и поскорее…
– Куда ты? – спросила пожилая женщина, богато одетая, очевидно – мамка Ефимьи; очень часто, выходя замуж, девица приводила с собой в новую семью растившую ее мамку, связь с которой была порой прочнее связи с родной матерью.
– Домой, – коротко ответила Настасья.
– Не по душе, что ли, наши хоромы?
Настасья выскочила в сени, там подхватила с лавки свою шубу, нахлобучила шапку и спустилась во двор. Во дворе она спросила первую попавшуюся бабу, где живет купец Гречишников. Баба не знала.
А меж тем ночь опускалась на Вологду, и на анисимовском дворе могли вскоре спустить с цепи сторожевых кобелей.
Настасья решила дойти до ближайшей церкви. Там собираются богомольные бабы и могут знать о Гречишниковых – Мартьян Петрович приехал с большой семьей, со старыми и малыми, и у Кузьмы Петровича тут семья не первый день живет, и старики наверняка ходят куда-то замаливать грехи.
Выскочив за ворота, Настасья стала озираться в поисках прохожих. Как назло, ни одного не было. Зато подкатили к воротам санки, в которых сидели двое и весело хохотали. Кучер окликнул здешнего сторожа, сторож отозвался, санки вкатились под крытые ворота.
Двое мужчин продолжали смеяться, перебрасываясь непонятными словечками. Настасья сперва удивилась, что ничего разобрать не может, потом догадалась: это ж не по-русски!
С языками у московских жителей, а тем паче жительниц, дело обстояло плоховато. Кабы не притащил Расстрига на Москву невесту-полячку с огромной польской свитой – то и этого бы языка ввек не слыхали, потом вообще пришло польское войско. Да и на что иные? Церковнославянскую речь в храме Божьем кое-как все понимали, а если явятся на торг купцы из таких украин, что с трудом понимаешь их лопотанье, то пусть осваивают московский выговор, иначе товар не продадут.
Речь анисимовских гостей ни на какое лопотанье не походила – не то что ни одного знакомого словечка, но и звуки вовсе нерусские.
Ворота за их санками затворились.
Настасья осталась на улице одна…
Впрочем, не одна! Шагах в двадцати от нее на перекрестке стоял высокий плечистый человек в огромном светлом тулупе. Ворот тулупа был поднят. И глядел этот человек на анисимовские ворота.
Настасье впору было к забору прижаться, чтобы этот здоровенный человек ее не заметил. Мало ли – вор, налетчик, насильник?
Она в браке не была счастлива – несчастна, впрочем, тоже не была, муж Михайла не бил, но и ласкать – не ласкал. Когда он помер, Настасья решила: с нее хватит, есть трое деточек, вот ими и следует утешаться. Замуж она не хотела. Прожив несколько лет вдовой, даже не представляла себе, как это – снова оказаться под мужиком.
Человек в тулупе прошелся взад-вперед, замер – и вдруг чуть ли не саженными прыжками оказался рядом с Настасьей. Она вскрикнула, но ему не было дела до перепуганной бабы, он всего лишь хотел оказаться в тени забора. К воротам подъезжали еще одни сани, запряженные приметным возником – с белой звездочкой во лбу.
Настасье отозвались только что спущенные с цепи дворовые псы. Огромные кобели радостно понеслись через двор к забору – им было любопытно, что там творится. Закричал сторож, отгоняя их, чтобы принять припозднившихся гостей. Псы не унимались. И это сильно не понравилось мужику в тулупе.
Ведь если псы примутся с лаем кидаться на забор там, где стоят с другой стороны люди, – выбегут сторожа, мало ли кто приглядывается к купецким хоромам.
– Молчи, Христа ради, – сказал он Настасье. – Молчи, дура…
И она поняла: сейчас произойдет ужасное.
Настасья и не знала, что умеет так звонко и пронзительно визжать.
Мужик пустился наутек, а она, вдруг обезножев, села в сугроб под забором. Там ее и отыскали выскочившие со двора сторож с факелом и еще какой-то человек – видимо, кучер анисимовских гостей.
– Ты, что ли, вопила? – спросил сторож. – Чего расселась, вставай! Или ты тут рожать собралась?
– Ахти мне… – прошептала Настасья.
– Не тебя ли Гречишников сегодня приводил?
– Меня?..
– А чего голосишь на всю округу?
– Мужик… Стоял тут, под забором… кричать не велел…
Настасью выдернули из сугроба и втащили во двор. Она и не поняла, как вознеслась на высокое крыльцо – не Ефимьино, а другое. Потом ее втолкнули в сени.
– Ты чья такова? – спросил вызванный сторожем из хозяйских палат мужчина. – Что у наших ворот забыла?
Настасья растерялась. Так вышло, что, живя в доме свекра, она с посторонними мужчинами вообще никогда не разговаривала. А тут – статный молодец, русые с проседью волосы, коротко остриженные, и борода кудрява, и брови мохнаты, и в плечищах – косая сажень. И зипун на нем богатый, из плотного полосатого шелка, алого с рудо-желтым, какой носят в жарко натопленных комнатах, и рубаха по колено – тонкого холста, и порты также полосатые, одно слово – щеголь.
- Миледи Ротман
- Вокруг да около (сборник)
- Северный крест
- Бедные дворяне
- В краю непуганых птиц (сборник)
- Берег мой ласковый
- Поселение
- Осударева дорога (сборник)
- Ленты Мёбиуса
- Вологодские заговорщики
- В Зырянском крае. Охотничьи рассказы
- Трава-мурава
- Охота на убитого соболя
- Посох вечного странника
- Одиночное плавание
- Позови меня, Ветлуга
- Дома не моего детства
- Росяной хлебушек
- Путешествие в решете