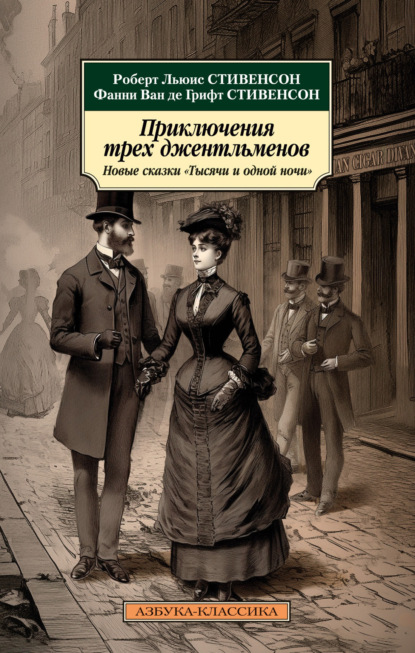Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи»
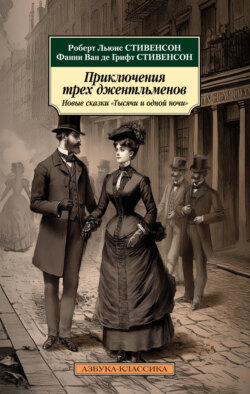
000
ОтложитьЧитал
– Мне показалось, – продолжал Чаллонер, одновременно воодушевленный и удивленный искренностью и прямотой ее ответа, – что я, кроме того, ощутил какой-то странный запах. А еще услышал шум – не знаю, с чем бы его сравнить…
– Тише! – приказала она. – Вы и сами не знаете, какой опасности подвергаете нас обоих. Подождите, подождите немного: как только мы уйдем с этих улиц туда, где нас не смогут подслушать, все разъяснится. А пока не упоминайте об этом. Какое же зрелище являет собой спящий город! – воскликнула она дрожащим голосом. – «И город спит. Еще прохожих мало, – процитировала она, – и в Сердце мощном царствует покой»[9].
– Выходит, сударыня, – сказал он, – вы хорошо знаете литературу.
– И не только литературу, – отвечала она со вздохом. – Я девица, обреченная мыслить не по возрасту серьезно, а судьба моя столь незадачлива, что эта прогулка под руку с незнакомцем представляется мне чем-то вроде краткого затишья между грозами.
К этому времени они добрались до окрестностей вокзала Виктория, и здесь, на углу, юная леди остановилась, отпустила его руку и огляделась с выражением неловкости и нерешительности. Потом, чудесно изменившись в лице и положив ручку в перчатке ему на руку, она произнесла:
– Боюсь даже помыслить, что вы уже обо мне думаете, и, однако, вынуждена обречь себя на роль еще более предосудительную. Здесь я должна оставить вас, и здесь я умоляю вас дождаться моего возвращения. Не пытайтесь преследовать меня или шпионить за мною. Воздержитесь пока от любых суждений о девице, столь же невинной, сколь ваша собственная сестра, и, ради всего святого, не оставляйте меня. Хотя мы и незнакомы, мне более не к кому обратиться. Вы видите, в каком страхе и в какой скорби я пребываю; вы джентльмен, великодушный и смелый, и если я попрошу вас на несколько минут набраться терпения, то заранее уверена, что вы не откажете мне.
Чаллонер нехотя пообещал, и барышня, бросив на него благодарный взгляд, скрылась за углом. Надо сказать, что ее аргументы не совсем достигли цели, ведь у молодого человека не было не только сестер, но и никаких родственниц ближе двоюродной бабушки, жившей в Уэльсе. Кроме того, теперь, когда он остался в одиночестве, чары ее, которым он до сего покорялся безраздельно, стали рассеиваться; отринув с насмешкой свою прежнюю рыцарственность и преисполнившись мятежного духа, он бросился вдогонку. Читатель, если ему случалось примерять на себя славное амплуа ночного гуляки, наверняка знает, что по соседству с крупными железнодорожными вокзалами располагаются таверны, которые открываются очень рано. Вот в такой-то таверне, прямо на глазах у Чаллонера, как раз выходившего из-за угла, и исчезла его очаровательная спутница. Сказать, что он был удивлен, было бы неточно, ведь с этим чувством он давным-давно распрощался. Его охватили невыносимое отвращение и разочарование; мысленно он обрушил поток ругательств на свою чаровницу, оказавшуюся всего-навсего вульгарной обманщицей. Не успела она пробыть в заведении и секунду, как вращающиеся двери его распахнулись снова, и она появилась в компании молодого человека плебейского вида, неуклюжего и грубого. Несколько минут они оживленно переговаривались; потом увалень, толкнув дверь плечом, снова скрылся в пивной, а барышня, уже не размеренным, а весьма быстрым шагом, опять направилась в сторону Чаллонера. Он смотрел, как она приближается, грациозная и изящная, как иногда мелькает, показавшись из-под платья, ее лодыжка, с какой быстротой и девической легкостью она спешит к нему, и, хотя он до сих пор лелеял некоторые мысли о бегстве, по мере того, как расстояние между ним и юной леди сокращалось, поползновения эти самым жалким образом ослабевали. Перед одной лишь красотой он смог бы устоять; решимости струсить и бежать Чаллонера лишили ее несомненные претензии на благородство и светскость. Встретившись с опытной авантюристкой, он без колебаний поступил бы так, как полагал себя вправе, но, не в силах вовсе отказать своей новой знакомой в порядочности, признал себя побежденным. На том самом углу, откуда он тайком шпионил, наблюдая странную сцену с ее участием, и где до сих пор стоял, словно приросши к месту, она столкнулась с ним и, густо покраснев, воскликнула:
– Ах! Как малодушно с вашей стороны!
Столь резкий упрек отчасти вернул дамскому угоднику утраченное самообладание.
– Сударыня, – возразил он, выказывая немалую меру стойкости и отваги, – думаю, до сих пор я не давал вам повода обвинять меня в малодушии. Я с готовностью подчинился вашему желанию сопровождать вас и прошел с вами едва ли не полгорода, и если теперь прошу избавить меня от обязанностей защищать вас, то рядом с вами – ваши друзья, которые с радостью меня заменят.
Она на мгновенье замерла.
– Что ж, хорошо, – проговорила она. – Ступайте, ступайте, и да поможет мне Бог! Вы видели, как я, невинная девица, спасаюсь от страшной катастрофы и как меня преследуют коварные злодеи, и ни жалость, ни любопытство, ни честь не побудили вас дождаться моих объяснений или помочь мне в моих несчастьях. Ступайте! – повторила она. – Воистину, я погибла!
И, в отчаянии всплеснув руками, она бросилась бежать.
Чаллонер глядел, как она удаляется и исчезает из поля зрения, и почти невыносимое чувство вины боролось в душе его с растущим ощущением, что его обманывают. Не успела она скрыться из виду, как первое из этих чувств возобладало; он решил, что был к ней несправедлив и что повел себя с нею, обнаружив совершенно непростительное малодушие и черствость, ведь самый звук ее голоса, манера выражаться, изящная благопристойность ее движений свидетельствовали о полученном воспитании, не давая повода истолковать ее поступки нелестным для нее образом, и потому, испытывая одновременно раскаяние и любопытство, он медленно двинулся за нею следом. На углу он снова заметил ее. Теперь она уже не спешила, а с каждой минутой замедляла шаг, словно подбитая в полете птичка. У него на глазах она вытянула руку, точно пытаясь за что-то удержаться, и в изнеможении припала к стене. Зрелище ее страданий сломило сопротивление Чаллонера. В несколько шагов он догнал ее и, впервые сняв шляпу, в самых трогательных выражениях уверил ее в совершенном почтении и твердом намерении помочь. Поначалу она словно бы не слышала обращенные к ней речи, но постепенно, казалось, стала постигать их смысл; она чуть шевельнулась, выпрямилась и, наконец сменив гнев на милость, порывисто обернулась к молодому человеку лицом, на котором читались одновременно упрек и благодарность.
– Сударыня! – воскликнул он. – Располагайте мною, как вам заблагорассудится!
И он снова, но на сей раз всячески демонстрируя уважение, предложил проводить ее. Она оперлась на его руку со вздохом, от которого сердце его невольно дрогнуло, и они вновь двинулись по пустынным улицам. Но теперь каждый шаг, казалось, давался ей с все большим трудом, словно вспышка негодования совсем измучила ее; она все сильнее опиралась на его руку, а он, словно голубь, прикрывающий своего птенца крыльями, нежно склонялся над своей поникшей подопечной. Ее физическая изнеможенность не сопровождалась упадком духа, и, вскоре услышав, что его спутница вновь заговорила игривым, чарующим тоном, он не мог не надивиться ее внутренней гибкости и способности противостоять обстоятельствам. «Я хочу забыться, – произнесла она, – забыться хотя бы на полчаса!» – и точно, с этими словами, казалось, забыла о своих горестях. Перед каждым домом она останавливалась, придумывала имя его владельца и кратко обрисовывала его нрав и положение в обществе: здесь жил старый генерал, за которого ей предстояло выйти пятого числа следующего месяца, тут стоял особняк богатой вдовы, неравнодушной к Чаллонеру, и, хотя она по-прежнему тяжело опиралась на руку молодого человека, ее грудной, приятный смех услаждал его слух. «Ах, – вздохнула она, объясняя свое поведение, – в такой жизни, как моя, нельзя упускать ни минуты счастья!»
Когда они, двигаясь в такой неторопливой манере, добрались до начала Гросвенор-плейс, ворота Гайд-парка как раз отворялись, и растрепанную и запачканную толпу ночных гуляк впускали в этот рай, полный приветных лужаек. Чаллонер и его спутница влились в общий поток и какое-то время молча шли посреди этого разношерстного, оборванного сброда; однако, по мере того как один за другим оборванцы, устав от ночных скитаний, опускались на скамьи или исчезали на укромных дорожках, широко раскинувшийся парк вскоре поглотил последнего из этих непрошеных гостей, и парочка осталась в одиночестве с благодарностью наслаждаться утренней тишиной и покоем.
Вскоре они набрели на скамейку, стоявшую у всех на виду на дерновом холме. Молодая леди огляделась с облегчением.
– Как хорошо, – проговорила она, – здесь по крайней мере нас не подслушают. Выходит, здесь вы узнаете и оцените мою историю. Мне невыносима мысль о том, что мы могли бы расстаться, а вы полагали бы, что понапрасну удостоили вашей доброты и благородства ту, кто их не заслужила.
Тотчас после этого она опустилась на скамью и, жестом велев Чаллонеру сесть поближе, начала излагать историю своей жизни в следующих словах, выказывая великое удовольствие.
История об Ангеле Смерти
Отец мой был уроженцем Англии, сыном младшего брата великого, древнего, но не титулованного семейства и в силу каких-то обстоятельств, совершенного проступка или превратностей судьбы, вынужден был бежать из родных краев и отринуть имя своих предков. Он избрал своей новой родиной Соединенные Штаты и, не пожелав задерживаться в больших городах с их утонченностью, изнеженностью и сибаритством, предпочел немедленно двинуться на таинственный Дикий Запад вместе с разведывательной партией переселенцев-колонистов, решивших обосноваться на «фронтире». Он был необычным путешественником, ибо не только отличался смелостью и предприимчивостью, но и обладал знаниями во многих областях, прежде всего в ботанике, которую особенно любил. Потому-то не стоит удивляться, что спустя всего несколько месяцев сам Фримонт[10], формальный глава отряда, стал искать его совета и считаться с его мнением.
Как я уже сказала, они двинулись на до сих пор неведомые земли Дикого Запада. Какое-то время они шли вдоль колеи, оставленной караванами мормонов, и указателями пути в этой огромной, печальной пустыне служили им скелеты людей и животных. Потом они немного отклонились к северу и, утратив даже эти мрачные и зловещие путеводные знаки, оказались в краю, где царила совершенная, гнетущая тишина. Мой отец часто, в подробностях рассказывал об этом гибельном странствии: его отряду попадались одни только скалы, утесы, голые камни да бесплодные пустоши, сменявшие друг друга; ручьи и речки встречались лишь изредка, и ни зверь, ни птица не нарушали тягостного безмолвия. На четвертый день запасы их настолько истощились, что решено было объявить привал, разойтись во все стороны и попытаться добыть хоть какую-то дичь. Разложили большой костер, чтобы дым его созывал охотников в лагерь, и каждый участник экспедиции вскочил на коня и отправился на вылазку в лежащую окрест пустыню.
Мой отец скакал много часов вдоль гряды отвесных утесов, черных и страшных, подступавших к его тропе с одной стороны, и безводной долины, сплошь испещренной валунами и напоминавшей развалины какого-то древнего города, с другой. Наконец он набрел на след какого-то крупного животного и, судя по отметкам когтей и клочкам шерсти, оставленным на колючем кустарнике, заключил, что это американский коричный медведь необычайных размеров. Он дал шпоры своему коню и, продолжая преследовать добычу, выехал к водоразделу двух рек. За образовавшим этот водораздел горным кряжем простирался причудливый непроезжий ландшафт, пестревший валунами и кое-где оживляемый редкими соснами, возвещавшими близость воды. Потому отец привязал здесь лошадь и, полагаясь на свое верное ружье, пеший устремился в дикую, безвестную пустошь.
Вскоре среди царящего вокруг безмолвия он различил где-то справа шум текущей воды и, выглянув из-за горного гребня, был вознагражден представшей перед ним сценой, в которой чудо природы непостижимым образом сочеталось со зрелищем человеческого несчастья. Журчание воды доносилось от ручья, со дна узкого, извилистого ущелья, по отвесным, едва ли не гладким стенам которого на протяжении целых миль человек не мог бы выбраться. Превращаясь в полноводную реку во время дождей, ручей этот, верно, наполнял все ущелье от одного скалистого берега до другого, солнечные лучи проникали туда только в полдень, а ветер в этой узкой и сырой «воронке» дул ураганный. И однако, на дне этой лощины, прямо внизу, взору моего отца, заглянувшего за гребень утеса, открылось печальное зрелище: примерно с полсотни мужчин, женщин и детей лежали, рассеявшись по берегу, кое-как устроившись среди камней. Некоторые распростерлись на спине, иные вытянулись на земле ничком, никто из них не шевелился, и, насколько мой отец мог заметить, все обращенные к нему лица казались чрезвычайно бледными и изможденными, и время от времени сквозь журчанье ручья слуха моего отца достигал тихий стон.
Пока он разглядывал эту сцену, какой-то старик, пошатываясь, поднялся на ноги, снял с себя одеяло, которым прикрывался, и с нежностью закутал им девушку, сидевшую, прислонясь спиной к жесткому утесу. Казалось, девушка не заметила этого самоотверженного поступка, а старик, поглядев на нее с трогательной жалостью, вернулся на свое прежнее ложе и улегся на траву, ничем не укрытый. Однако эта сцена не осталась незамеченной даже в этом лагере умирающих от голода. На самой окраине привала человек с белоснежной бородой, по-видимому преклонных лет, стал на колени, тихонько, стараясь не разбудить остальных спящих, дополз до девушки и – трусливый злодей, – к неописуемому негодованию моего отца, совлек с нее оба покрова и вернулся с ними на свое место. Здесь он лежал какое-то время, устроившись под неправедно добытыми одеялами, и, как показалось отцу, притворялся спящим, но вдруг приподнялся на локте, окинул зорким взглядом своих спутников, быстро засунул руку за пазуху и положил что-то в рот. Судя по тому, как задвигались его челюсти, он что-то жевал; в лагере, где царил голод, он сохранил запасы еды и, пока его спутники лежали в забытьи, сломленные приближением смерти, тайно восстанавливал силы.
Отец мой пришел в такую ярость, что вскинул было ружье, и впоследствии объявлял, что, если бы не случай, застрелил бы мерзавца на месте. Тогда я поведала бы вам совсем другую историю! Но мести его не суждено было свершиться: не успел он прицелиться, как заметил медведя, крадущегося вдоль уступа несколько ниже того места, где он притаился; и он, уступая охотничьему инстинкту, разрядил ружье не в человека, а в зверя. Медведь судорожно рванулся в сторону и упал в речную заводь; выстрел эхом прокатился по каньону, и уже спустя миг весь лагерь был на ногах. Издавая почти нечеловеческие крики, спотыкаясь, падая, отталкивая друг друга, мучимые голодом странники бросились на добычу, и, пока мой отец по уступу спускался к ручью, многие уже утоляли свой голод сырым мясом, а более брезгливые принялись разводить костер.
Его появление поначалу никто не заметил. Он стоял посреди этих едва держащихся на ногах, мертвенно-бледных марионеток, его оглушали их крики, однако их внимание было всецело приковано к медвежьей туше; даже те, кто слишком ослабел и не в силах был подняться, лежали, повернувшись лицом к вожделенному зрелищу, не сводя глаз с разделываемого медведя, и мой отец, стоя, словно невидимый, среди этих мрачных суетящихся призраков, чуть было не расплакался. Кто-то дотронулся до его плеча, и это вернуло его к действительности. Обернувшись, он лицом к лицу столкнулся со стариком, которого чуть было не убил, и спустя минуту понял, что перед ним не старик, а человек в расцвете лет, с волевым, выразительным и умным лицом, отмеченным следами усталости и голода. Он поманил моего отца под сень утеса и здесь, едва слышным шепотом, стараясь не возбудить подозрений своих спутников, умолял дать ему бренди. Мой отец взглянул на него с презрением. «Вы напомнили мне, – произнес он, – о моей обязанности. Вот моя фляжка: полагаю, в ней достанет бренди, чтобы привести в чувство всех женщин вашего отряда, а начну я с той, кого вы прямо у меня на глазах лишили одеял». И с этими словами, не обращая внимания на его мольбы, отец повернулся спиной к эгоисту.
Девушка все еще полулежала, привалившись спиной к утесу; она уже настолько погрузилась в глубокий сон, преддверие смерти, что не замечала царившую вокруг ее ложа суету, но, когда мой отец приподнял ее голову, поднес к ее губам фляжку и заставил ее или помог ей проглотить несколько капель живительной влаги, она открыла усталые, измученные глаза и слабо улыбнулась ему. Мир не знал улыбки более трогательной в своей прелести, глаз более глубокой фиалковой голубизны, более искренних, отражающих всякое движение души! В этом я уверена твердо, ведь именно эти глаза улыбались мне, когда я лежала в колыбели. Оставив ту, кому суждено было стать впоследствии его женой, провожаемый завистливым взглядом седобородого, который к тому же не отставал от него ни на шаг, мой отец обошел всех женщин отряда, влив в рот каждой хоть несколько капель бренди, а остатки разделил между мужчинами, нуждавшимися в том более прочих.
– Неужели ничего больше не осталось? Неужели мне не достанется ни глотка? – вопросил седобородый.
– Нет, не достанется, – отвечал мой отец, – а если захотите есть, советую вам поискать еды у себя в кармане.
– Ах! – воскликнул седобородый. – Вы судите обо мне превратно. Вы думаете, я из тех, кто цепляется за жизнь, движимый эгоизмом или страхом? Но позвольте сказать вам, если бы погиб весь караван, мир вздохнул бы с облегчением. Это не люди, а отбросы общества, мухи в человеческом обличье, кишащие в трущобах европейских городов, несносные и докучливые, я сам подобрал их в грязи и в скверне, нашел на навозной куче или у дверей пивной. И вы сравниваете их жизни с моей!
– Вы мормонский миссионер? – спросил мой отец.
– Что ж, – со странной улыбкой воскликнул седобородый, – если вам угодно, назовите меня мормонским миссионером! В моих глазах этот сан ничего не стоит. Если бы я был всего-навсего вероучителем, то безропотно умер бы вместе с остальными. Но я врач и могу открыть миру тайные знания и изменить будущее человечества, а значит, во что бы то ни стало должен был остаться в живых. Потому-то, когда мы разминулись с главным караваном, попытались срезать часть пути и забрели в это затерянное, бесплодное ущелье, мысль о неминуемой гибели истерзала мою душу, превратив мою прежде черную бороду в седую.
– И вы врач, – задумчиво произнес мой отец, глядя в лицо собеседнику, – которого клятва обязывает помогать попавшим в беду?
– Сэр, – отвечал мормон, – моя фамилия Грирсон; вы еще услышите обо мне и поймете, что я исполнял свой долг не перед этим сборищем нищих, а перед всем человечеством.
Мой отец обратился к остальным членам отряда, которые теперь достаточно пришли в себя, чтобы слушать и воспринимать его речь; он сказал им, что немедленно отправится к своим друзьям за помощью, и добавил:
– Если вам снова будет грозить голодная смерть, оглядитесь и увидите, что сама земля в изобилии дает вам пропитание. Вот, посмотрите, здесь, внизу, в трещинах этого утеса, растет желтый мох. Поверьте, он не просто съедобный, но и вкусный.
– Надо же! – воскликнул доктор Грирсон. – Вы знаете ботанику!
– Не я один, – парировал мой отец, понизив голос. – Видите, вот тут мох уже кто-то обобрал. Я не ошибся? Не вы ли запасли его себе на черный день?
Вернувшись к сигнальному огню, отец обнаружил, что товарищи его в тот день поохотились на славу. Тем легче было ему убедить их поделиться добычей с мормонским караваном, и на следующий день оба отряда двинулись к границам Юты. Расстояние, которое им предстояло преодолеть, было не столь уж велико, но следовали они по местности каменистой, испещренной оврагами и валунами, засушливой, да и добывать еду здесь было трудно, и потому странствие их растянулось почти на три недели, и у отца появилось довольно времени, чтобы хорошенько узнать и оценить спасенную им девушку. Я назову свою мать именем Люси. Упоминать ее фамилию я не вправе; она вам, без сомнения, известна. Какая череда незаслуженных несчастий забросила эту невинную деву, истинное украшение своего пола, прелестную, получившую самое утонченное воспитание, обладающую благородством и изысканным вкусом, в ужасный караван мормонов, – тайна, которую я не могу вам открыть. Достаточно сказать, что, даже выдерживая эти удары судьбы, она нашла сердце, достойное ее собственного. Своей страстностью узы, связавшие моего отца и мою мать, возможно, были хотя бы отчасти обязаны странным, необычайным обстоятельствам их знакомства; их взаимное чувство не знало преград ни божественных, ни человеческих: ради нее мой отец решился оставить свои честолюбивые устремления и отринуть свою прежнюю веру, и не прошло и недели их совместного странствия, как мой отец покинул свой отряд, принял веру мормонов и получил обещание, что, когда караван прибудет к Большому Соленому озеру, ему будет отдана рука моей матери.
Мои родители вступили в брак, и на свет появилась я, их единственное дитя. Мой отец чрезвычайно преуспел в делах, всегда хранил верность моей матери, и, хотя вы можете мне не поверить, полагаю, в любой стране мало нашлось бы семейств более счастливых, чем то, в котором я увидела свет и выросла. Не стану скрывать, что, невзирая на наше благополучие, самые фанатичные и благочестивые из мормонов избегали нас как нетвердых в вере еретиков: впоследствии стало известно, что сам Янг[11], этот внушающий благоговейный трепет тиран, косо смотрел на богатства моего отца, но тогда я об этом не догадывалась. Я всецело покорялась мормонской доктрине, принимая ее с совершенной невинностью и доверием. У некоторых из наших друзей было по многу жен, но таков был обычай, и почему это должно было удивлять меня более, нежели само установление брака? Время от времени кто-то из наших богатых знакомцев исчезал, семейство его рассеивалось по миру, его жен и дома делили между собою старейшины мормонской церкви, а поминали о нем не иначе, как только затаив дыхание и со страхом качая головой. Когда я сидела тихо-тихо и о присутствии моем забывали, взрослые касались подобных тем, сидя вечером у огня; я словно до сих пор вижу, как они невольно ближе придвигаются друг к другу и испуганно оглядываются, а по их перешептываниям я могла заключить, что кто-то из наших единоверцев, богатый, почтенный, здоровый, в расцвете лет, кто-то, может быть, всего неделю тому назад качавший меня на коленях, чуть ли не мгновенно пропал из дому, из круга семьи, исчез, словно промелькнувшее в зеркале отражение, не оставив следа. Без сомнения, это было ужасно; но таковою представлялась мне и смерть, подчинявшая всех равно одному неумолимому закону. И даже если беседа становилась чуть громче и чуть несдержанней, даже если ее все чаще прерывало зловещее молчание и многозначительные безмолвные кивки и до меня долетали произнесенные шепотом слова «ангелы смерти», под силу ли было дитяти постичь эти тайны? Я слышала о них, подобно тому как иной, более счастливый, ребенок мог услышать в Англии о епископе или благочинном, – с таким же смутным почтением и не испытывая желания узнать о них более того, что мне уже известно. Жизнь повсюду, и в обществе, и в природе, основана на принципах довольно страшных: я видела безопасные дороги, цветущий в пустыне сад, благочестивых прихожан, собравшихся в церкви на молебен; я осознавала, с какой нежностью лелеют меня родители и какими благами, невинными в своей приятности, они меня окружают; так зачем мне допытываться, какие жуткие, зловещие тайны лежат в основе, казалось бы, честного, нравственного существования.
Поначалу мы обосновались в городе, но, прожив там совсем недолго, перебрались в прекрасный дом в глубокой лесистой долине, оглашаемой мелодичным журчаньем ручья и почти со всех сторон окруженной раскинувшейся на двадцать миль гибельной, каменистой пустыней. От города нас отделяло тридцать миль; туда вела всего одна дорога, оканчивавшаяся у нашей двери; в остальном поблизости пролегали только верховые тропы, не проезжие зимой, и потому мы жили в одиночестве, которое европейцы не могли бы даже вообразить. Единственным нашим соседом был доктор Грирсон. На мой детский взгляд, от городских старейшин с бородами, оставленными только вдоль подбородка, с напомаженными волосами, и от невзрачных, умственно неразвитых женщин, составлявших их гаремы, старый доктор, с его корректными манерами, умением держаться в обществе, негустыми белоснежными волосами и бородой и пронзительным взглядом, отличался весьма выгодно. Однако, хотя он был едва ли не единственным гостем, бывавшим у нас в доме, я так никогда не смогла до конца избавиться от ощущения страха, охватывавшего меня в его присутствии, и тревогу эту питало то обстоятельство, что он жил в совершенном одиночестве и держал в строжайшей тайне свои занятия. Дом его отстоял от нашего всего на милю или две, но располагался в совсем ином месте. Он стоял, возвышаясь над дорогой, над отвесным обрывом, тесно прижавшись к гряде нависающих над ним утесов. Казалось, природа стремилась подражать здесь делам рук человеческих, ведь обрыв был совершенно гладким, ни дать ни взять передняя часть крепостного бруствера, а утесы имели равную высоту, словно бастионы средневекового замка. Даже весной этот печальный вид ничто не оживляло: окна по-прежнему выходили на равнину, покрытую белыми, как снег, солончаками, переходившими на севере в череду холодных каменистых кряжей, которые именуют в тех краях сьеррами. Помню, два или три раза мне случалось проходить мимо этого устрашающего жилища, и, заметив, что дом этот вечно стоит с закрытыми ставнями, что из трубы его не поднимается дым и что он кажется совершенно заброшенным, я сказала родителям, что когда-нибудь его непременно ограбят.
«Никогда! – откликнулся мой отец. – Не найдется вора, который осмелился бы туда проникнуть», – и в голосе его послышалась странная убежденность.
Наконец, незадолго до того, как на мою несчастную семью обрушился страшный удар, мне удалось увидеть дом доктора в новом свете. Отец мой занемог, мать не отлучалась от его постели, и мне разрешили отправиться, под присмотром нашего кучера, в уединенный дом примерно в двадцати милях от нас, где оставляли для нас посылки. Наша лошадь потеряла подкову, ночь застала нас на полпути к дому, и время клонилось уже к трем часам утра, когда мы с кучером, одни в легкой повозке, добрались до того участка дороги, что пролегал под окнами доктора. Ясная луна плыла по небу; скалы и горы в ее ярком свете казались особенно одинокими и пустынными; но докторский дом, расположенный наверху, над высоким обрывом, вплотную к нависшим утесам, не только сиял всеми своими окнами, словно пиршественный чертог, но окутывался клубами дыма из большой трубы на западной его оконечности, столь густыми и обильными, что они на протяжении миль висели, не рассеиваясь, в неподвижном ночном воздухе, а огромная тень их простиралась в лунном свете на поблескивающей поверхности солончака. Подъехав поближе, мы стали, кроме того, отчетливо различать в окрестной тишине равномерный вибрирующий звук. Поначалу он напомнил мне биение сердца, а затем перед моим внутренним взором предстал образ некоего великана, погребенного в толще гор и все же, с невероятным трудом, переводящего дыхание. Я слышала о железной дороге и, хотя и не видела ее, решила было спросить у кучера, не похоже ли это на шум поезда. Однако тут я заметила странное выражение, промелькнувшее в его глазах, и бледность, внезапно покрывшую его лицо то ли от страха, то ли от лунного света, и слова замерли у меня на устах. Поэтому мы поехали дальше в молчании, пока не поравнялись с ярко освещенным домом, как вдруг, без всякого предупреждающего шороха, раздался взрыв такой силы, что земля задрожала, а по горам прокатилось, оглашая утесы, громовое эхо. Столп янтарного пламени вырвался из трубы и опал, рассыпавшись мириадами искр, и тотчас же окна на миг озарились рубиновым светом, а затем погасли. Кучер невольно натянул поводья, сдерживая лошадь, а эхо все еще рокотало, отдаваясь от скал более далеких, как вдруг из погрузившегося теперь во тьму дома раздались пронзительные вопли – мужские или женские, понять было невозможно, – дверь распахнулась, и в лунном свете наверху длинного склона из дома вырвалась какая-то фигура, вся в белом, и принялась плясать, подскакивать, бросаться ниц и кататься по земле, словно в муках. Тут я уже не смогла удержаться от крика, кучер принялся охаживать кнутом бока лошади, и мы стремглав полетели по неровной, ухабистой дороге с риском для жизни, и кучер не осадил лошадь, пока не повернул за гору и перед нами не показалось ранчо моего отца с его широко раскинувшимися зелеными рощами и садами, безмятежно спящими в лунном свете.
Это приключение оставалось единственным в моей жизни до тех пор, пока мой отец не достиг высот материального благополучия, а мне не исполнилось семнадцать лет. Я была по-прежнему невинна и весела, как дитя, ухаживала за своим садом и в простодушной радости резвилась на холмах, а если я и останавливала взор на своем отражении в зеркале или в каком-нибудь лесном ручье, то лишь для того, чтобы искать и узнавать в нем черты своих родителей. Однако страхами, столь долго угнетавшими других, была теперь омрачена и моя юность. Однажды, знойным пасмурным днем, я сидела на диване; открытые окна комнаты выходили на веранду, где моя мать расположилась с вышиванием, а когда к ней присоединился мой отец, пришедший из сада, то их беседа, которую я прекрасно могла расслышать, столь потрясла меня, что я словно приросла к месту, не в силах пошевелиться.
– Нас постигло несчастье, – после долгого молчания произнес отец.
Я услышала, как мать, пораженная, повернулась к нему, впрочем пока не проговорив ни слова.
– Да, – продолжал отец, – сегодня я получил список всего своего имущества, повторяю, всего – даже того, что я тайно одолжил людям, уста которых запечатаны ужасом, даже того, что я собственными руками зарыл в пустынных горах, где за мной не могли подсматривать даже птицы небесные. Неужели самый воздух переносит секреты? Неужели самые холмы делаются прозрачными? Неужели самые камни, на которые мы ступаем, сохраняют отпечатки наших ног, дабы затем выдать нас? О Люси, зачем прибыли мы в такую страну!
- Московская сага. Книга 1. Поколение зимы
- Московская сага. Книга 2. Война и тюрьма
- Московская сага. Книга 3. Тюрьма и мир
- Звезды смотрят вниз
- В глуби веков
- Сожженная карта
- Женщина в песках
- Ночь нежна
- Великий Гэтсби
- Чужое лицо
- Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия
- Поднятая целина
- Карьера Ругонов
- Моя кузина Рейчел
- Человек-ящик
- Мария Стюарт
- Тайное свидание
- Совсем как человек
- Козел отпущения
- Шерли
- Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой
- Мерзкая плоть
- Элегантность ёжика
- Бог как иллюзия
- Черный квадрат (сборник)
- Мария Антуанетта
- Жажда любви
- Моряк, которого разлюбило море
- Сын Зевса
- Письма незнакомке
- Остров Проклятых
- Чтец
- Портрет художника в юности
- Нетерпение сердца
- Циники. Бритый человек (сборник)
- Трактир «Ямайка»
- Последняя любовь в Константинополе
- Ищу человека (сборник)
- Умеющая слушать
- Маленькие мужчины
- Юные жены
- Взрослая жизнь
- Падение ангела
- Храм на рассвете
- Пригоршня праха
- Сказки, рассказанные на ночь
- Пророк
- Маракотова бездна
- Женщина в белом
- Когда опускается ночь
- Таящийся у порога
- Иные боги
- Война миров
- Блеск и нищета куртизанок
- Воспитание чувств
- Утраченные иллюзии
- Агнес Грей
- Похождения бравого солдата Швейка
- Под покровом ночи
- Север и Юг
- Незнакомка из Уайлдфелл-Холла
- Офицеры и джентльмены
- Возвращение в Брайдсхед
- Знак четырех. Собака Баскервилей
- Шерлок Холмс. Его прощальный поклон
- Самая лёгкая лодка в мире
- Шум прибоя
- Суер-Выер
- Портрет Дориана Грея
- Рассказы о необычайном
- Последний магнат
- Гость Дракулы и другие странные истории
- Камо грядеши
- Книги стихов
- В тусклом стекле
- Дом у кладбища
- За гранью времен
- Загадочный дом на туманном утесе
- Кладовая солнца
- Мгла над Инсмутом
- Лабиринт
- Последний из могикан
- Тарантул. Трилогия
- Похищенный. Катриона
- Вальпургиева ночь
- Призрак Оперы
- Виннету. Сын вождя
- В окопах Сталинграда
- Дочь короля Эльфландии
- Старомодная девушка
- История кавалера де Грие и Манон Леско
- Белый Клык
- Записки о Шерлоке Холмсе
- А зори здесь тихие… Завтра была война. Аты-баты, шли солдаты
- До свидания, мальчики!
- Живи и помни
- Все начинается с любви…
- Галерея женщин
- Чучело
- The Raven / Ворон
- Остров Крым
- Доводы рассудка
- Маленькие дикари
- Клены в осенних горах. Японская поэзия Серебряного века
- Орландо. Волны. Флаш
- Сожженная карта. Тайное свидание. Вошедшие в ковчег
- Время и боги
- Преступная добродетель
- Лисьи чары
- Житейские воззрения кота Мурра
- Повесть о жизни. Книги I–III
- Старшая Эдда
- Повесть о жизни. Книги IV–VI
- Доживем до понедельника
- Мистические истории. Абсолютное зло
- Холодный дом
- Рассказы о привидениях
- Эпос о Гильгамеше
- Поезд из Венеции
- Птицы и другие истории
- Мистические истории. Фантом озера
- Мельница на Флоссе
- Исповедь
- Красное и белое, или Люсьен Левен
- Джек и Джилл
- Рука и сердце
- Соперницы
- Вошедшие в ковчег
- Удольфские тайны
- Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи»
- Клич перелетных гусей. Японская классическая поэзия XVII – начала XIX века в переводах Александра Долина
- Мистические истории. Призрак и костоправ
- Мистические истории. Ребенок, которого увели фейри
- Мистические истории. День Всех Душ
- Золотая лихорадка
- Дочь Ивана, мать Ивана
- Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно
- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном
- Дети подземелья
- Горе от ума
- Большие надежды
- Холм грез. Тайная слава
- Главная улица
- Вендиго
- Зов Ктулху
- Роза и ее братья
- Мистерии
- Гептамерон
- Галантные дамы
- Борьба с безумием. Гёльдерлин. Клейст. Ницше
- Силуэт женщины
- Победитель получает все
- Роза в цвету
- Песнь Бернадетте
- Повесть о несбывшейся любви
- Плоды земли
- Окаянные дни
- Изгнанник. Литературные воспоминания
- Мортон-Холл. Кузина Филлис
- Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди
- Люди Бездны
- Монах
- Чаша жизни
- В сиреневом саду
- Самсон назорей. Пятеро
- Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим
- Аргонавты Времени
- «Николай Николаевич» и другие сочинения