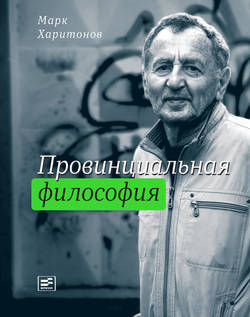
000
ОтложитьЧитал
– Зоя? – осторожно примерил он новое имя на языке и внимательно взглянул на нее. – Зоюшка… Ну-ну…
Всякий раз, глядя на нее, он заново удивлялся, до чего она оказалась на него похожа, – насколько вообще может походить детское личико с нежной кожей и еще сглаженными чертами на лицо некрасивого сорокалетнего мужчины с искривленным носом и все выше лысеющим теменем. Тетя Паша со стороны заметила это куда раньше. Впрочем, дочка – чего ж тут было удивляться.
Присутствуя на музыкальных занятиях матери, Зоя обнаружила редкостную способность учиться «вприглядку», следя за чужой игрой: пальцы ее с подстриженными ноготками шевелились над коленками, как над невидимыми клавишами, повторяя движения игравшего, даже предупреждая их, и когда он допускал сбив, она не удивлялась – это был ее собственный сбив. Нот Зоя не учила; круглые, черные, похожие на букашек значки вызывали у нее необъяснимую неприязнь, которая обозначалась словом «грязь» – общим для самых разных вещей: зола из печки, чаинки в стакане, клоп на стене – все это называлось «грязь» и было неприятно до подкатывающей тошноты. С возрастом словечко это ушло в разряд смешных младенческих нелепостей, но странные пристрастия и антипатии сохранялись стойко, они относились не только к вещам, но и к их названиям. Слова для нее могли иметь приятный или неприятный запах, быть солоноватыми или приторно-сладкими, они имели свой особенный цвет, форму, характер; одни были как клубы белого тумана или брызги молока, другие остро царапали или заставляли передергиваться, как прикосновение к скользкой холодной лягушке. Имя Заира вызывало у нее сопротивление из-за черного, кругленького, подпрыгивающего «р», с которым у нее не было ничего общего; но, конечно, объяснить этого она не умела, тем более что говорила плохо. Воспитанная при матери, в уединенных играх, она привыкла больше бормотать сама с собой и нередко смущалась звука собственного голоса; к тому же после частых простуд у нее остались увеличенными миндалины, выговор был слегка гундосый, невнятный – даже Анна Арсеньевна не всегда сразу понимала ее. Но стоило переспросить – Зоя тотчас замолкала, и от нее уже нельзя было добиться ни слова. Со стороны она производила впечатление вялой и ко многому равнодушной, но могла поразить вдруг необычайным упрямством; глаза ее под выпуклыми припухлыми веками казались сонливыми, и лишь внезапное словечко или вопрос выдавали своеобразную скрытую работу мысли.
Выучившись читать в четыре года, Зоя не увлекалась книгами и предпочитала рассказы вслух; она вообще не утруждала себя внешним напряжением. Однажды она попросила отца рассказать ей сказку. «Про кого же тебе рассказать?» – механически переспросил Прохор Ильич. – «Про себя». Он в ту минуту не сумел придумать ничего лучшего, как приписать себе приключение с джинном, выпущенным из бутылки, и лишь потом, из сетований жены, понял, как это было неосторожно. Теперь девочка желала, чтобы папа участвовал во всех сказках; вернее, это была одна бесконечная сказка, где Прохор Ильич скакал на сером волке, доставал живую и мертвую воду, сражался с драконом, ловил в реке говорящую щуку и расстилал скатерть-самобранку. Особого разнообразия ей не требовалось, она слушала одно и то же снова и снова – с той поразительной способностью переживать каждый раз насвежо все встречи и опасности, какая свойственна одним детям, – как будто в очередном пересказе все может обернуться по-иному, чем накануне. Анна Арсеньевна радовалась, замечая у девочки восхищенную нежность к отцу, но при этом побаивалась, что в ее сознании складывается образ несколько фантастический. Она вообще с тревогой думала иногда, что неумело воспитывает дочь, слишком потакает ее причудам, все ей позволяет: рыться в земле, возиться в лужах, так что руки у Зои всегда были в цыпках, а мордашка измазана; получалось, будто та сама направляет свое воспитание, а она идет у нее на поводу. Тогда она пробовала отучить Зою от некоторых фантазий – например, доказать ей, что незачем каждый раз вылавливать из чая все до единой чаинки, ничего не будет страшного, если их и выпить. Через полчаса девочку вырвало, и она два дня пролежала в постели с признаками острого отравления. Беспокойство Анны Арсеньевны возрастало с приближением школы. Чтобы подготовить дочку к общению со сверстниками, она стала почаще выводить ее за калитку, к соседским детям. Против ожиданий Зоя легко, хоть и без интереса, подключилась к их играм. В ней не было деревенской диковатости и пугливости, наоборот, она даже слишком запросто подступала к любому, точно не подозревала о возможности недоброй или отчужденной встречи, о каких-то условностях; к взрослым она обращалась бесцеремонно, как к равным себе, и Анна Арсеньевна поняла главный свой воспитательный просчет: девочка совсем не ориентировалась в реальных отношениях. Она была не по возрасту простодушна и доверчива. Как-то один из мальчиков отобрал у нее майского жука, заявив, что все жуки в воздухе принадлежат ему, он лишь на время их выпустил, – и Зоя совершенно в это поверила. В другой раз она прибежала домой, возбужденная удивительным открытием: кто-то показал ей, что кроме полной круглой луны, которую все видели сейчас низко над деревьями, существовала еще одна, в овраге. Разубедить ее в таких случаях бывало непросто, окончательным авторитетом она признавала разве что отца. Но сам Прохор Ильич явно недооценивал весомости своих слов и действий, он подходил к своей воспитательной роли с недопустимым легкомыслием. Однажды Зоя зачем-то выпросила у матери кусок сахара и убежала с ним в сад; лишь к вечеру она согласилась объяснить родителям, что, если посадить сахар на грядке, из него, оказывается, вырастет сахарная свекла. Анна Арсеньевна только улыбнулась и повела ее спать. Но утром Зоя ворвалась к ней с ликующим криком и потащила за руку на участок; посреди вскопанной грядки там торчал невероятный кустик, увешанный кубиками зрелого рафинада. Прохор Ильич был уже во дворце; Анна Арсеньевна с трудом дождалась его прихода, и поздно вечером, когда Зоя уже спала, между ними состоялся очень серьезный разговор.
– Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, – говорила Анна Арсеньевна, возбужденно шагая по просторной комнате. – Я и так допустила ошибку, воспитывала девочку возле себя, рассказывала почти исключительно сказки. Она и так напичкана бесконечными фантазиями, и они значат для нее гораздо больше, чем мы с тобой думаем. Это надо как-то выправлять, а не подливать масла в огонь.
– Что ж тут плохого? – возражал Прохор Ильич. Он сидел за столом и заправлял огромную, размером с крупную сосиску, авторучку – в нее входил целый пузырек чернил; он вообще любил необычные вещи; у него были карманные часы размером и толщиной с серебряный рубль, зажигалка в виде маленького пистолета, вполне способного пугать прохожих, музыкальная кофемолка, для которой в Нечайске не было зерен, но которая при вращении ручки очень чисто играла начальные такты Героической симфонии. – Что ж тут плохого? – повторил он, рассеянно завинчивая крышку. – Она счастливая, если может так искренне жить в мире своего воображения.
– Жить в мире воображения! – Анна Арсеньевна остановилась среди комнаты, сложив руки на груди; румянец возбуждения на ее щеках пошел пятнами. – Все хорошо в меру. Она совершенно не ориентируется в жизни. Ее любой может обмануть, разыграть, забить голову вздором. Ты видишься с ней раз в неделю, и для тебя эти разговоры всего лишь забавны.
– Она же еще малышка. Пройдет. Житейский опыт – дело возраста.
– По тебе не скажешь, что возраст все меняет. Удивительно, как она смогла оказаться столь похожей на тебя.
– Моя дочь!
– Тем более есть о чем тревожиться. Уж ты-то знаешь, что простодушие может быть опасным. Тебе оно стоило ноги.
– Простодушие! – хмыкнул Прохор Ильич. – Ты все-таки мало ценишь меня, Аннушка.
Жена вскинула на него быстрый взгляд.
– Что ты хочешь сказать?
– Я понимаю, ты мечтала видеть во мне актера и ошиблась в своих ожиданиях. Признаю и склоняю голову. Более того – расписываюсь. Но ты недооцениваешь во мне артиста, – Прохор Ильич значительно поднял перед собой авторучку-сосиску; тень от высокой лампы нарисовала над его шишковатым носом темные усики, придав всему несимметричному лицу какое-то клоунское выражение. – Вот это прискорбно.
– О господи, я серьезно, Проша.
– Я, может быть, тоже… Впрочем, и тут я не настаиваю. Серьезность для меня – штука сомнительная. Все принимать всерьез – повеситься можно.
Анна Арсеньевна еще раз прошлась по комнате. Почему-то ей самой захотелось теперь перевести разговор к шутке, но она не могла найти удачного слова.
– А… – неопределенно усмехнулась она. – Эта твоя нынешняя жизнь, беготня, хлопоты, которые занимают все твое время и ни во что окончательно не выливаются, – это все тоже спектакль?
– Ну, это пока репетиции, – прищурился он. – Этюды по системе Станиславского. Присматриваюсь, подбираю исполнителей, воспитываю статистов. Пусть привыкают к моему стилю. Нам с ними не один год работать… кто знает. Великие спектакли, Аннушка, требуют времени. Может, целой жизни. Я сам уточняю свою мысль, нащупываю: чего же я, собственно, хочу? Вон дочкино имя – и то само собой уточнилось. Если ты намекаешь на мою «Золушку», которая все откладывается, то ты не угадала. Отнюдь. Я работаю над ней, совершенствую. Она вырастает в моем мозгу во что-то все более значительное. Представь: разыграть действие на площади перед дворцом. Чтоб в танцах на балу участвовал весь город, чтоб в двенадцать на башне пробили часы и все, понимаешь, все заволновались: где же Золушка?
– Где ты возьмешь часы с боем?
– Ты тоже призываешь меня не терять чувства реальности? Найдем, если понадобится. Надо будет немного подновить дворец, подкрасить башенки, поставить золотых петушков. Я тут нашел художника, он мне уже сделал эскизы. Гениально! Я так ему и сказал: гениально! Пусть пока полежат. Я еще должен над этим думать… Э, знала бы ты, что творится у меня вот тут! – Меньшутин постукал себя пальцем по лбу. – А мелочи – дело техники. Ты слышала когда-нибудь анекдот о художнике, которому в только что нарисованном пейзаже показалось лишним одно деревце? Он пошел, срубил дерево и перерисовал пейзаж. Привел, так сказать, в соответствие. Это к разговору о чувстве реальности. Между прочим, подлинный факт.
– Мало ли сумасшедших!
– Э, что мы знаем о сумасшествии? – скривился Меньшутин. – Где оно начинается и какова его цена…
Анна Арсеньевна не ответила, лицо ее было задумчивым и как бы печальным. Да Прохор и не нуждался в ответе, он смотрел мимо нее, губы его были приоткрыты в неровной замершей улыбке.
– Неужели ты не можешь просто жить? – вдруг тихо произнесла она. – Со мной, с Зоюшкой?
– А! – Он взвился даже с каким-то воодушевлением, точно давно ожидал это услышать. – Просто! Аннушка, Аннушка, умная моя Аннушка, что значит: просто жить? Если каждый наш день зависит от того, как мы сами повернем его и увидим? Как я сегодня «просто жил»? Проснулся, поел гречневой каши с молоком, надел сапоги и потопал по мосткам, а где нет мостков – по грязи, в обшарпанную церковь, там проверял накладные на инструменты для духового оркестра, выяснял, куда запропастились медные тарелки, потом ждал, пока соберется на репетицию драмкружок, так они и не собрались, оказалось, сегодня футбольная встреча с соседним районом. И все. Пошел домой есть суп с перловкой. Можно и так, можно… кому как удается. Но неужели я зря прочел сотни умных книг? Неужели я не вправе увидеть каждый свой день, каждый момент своей жизни не сам по себе, а в переплетении со всем, что было продумано, сказано, открыто людьми за много веков? Когда, засомневавшись, я открываю в себе Гамлета, а за тарелкой гречневой каши осознаю нечто, роднящее меня с Пантагрюэлем? Давний вздор, будто культура обедняет чувства! Человек и отличается от скота вторичностью своей природы. Когда я могу сыграть свою жизнь… могу строить ее, как ласточка строит свое гнездо – скрепляя частицы обыденного сора живой слюной мысли, воображения. И если Зоюшке это дано в такой мере – почему не назвать ее счастливой?
– Ты такой умный, Проша, – серьезно произнесла Анна Арсеньевна. – Но я не о том. Просто жить – это радоваться простым вещам. По-своему, как умеешь. Вчера утром я попала под град, промокла, но было так хорошо. Вычесывала из волос ледяные зернышки – и мне было хорошо. Вот и все. Цыплята светились в траве, как солнечные зайчики. Зоюшка играла с котенком. С веток падали в лужу капли, он все пытался их поймать – так забавно…
– Не знаю, не знаю, – тяжело морщил лоб Меньшутин. – Все это я тоже читал – где-нибудь у Паустовского.
– Но вот тетя Паша не читала Паустовского…
– А! – вновь с готовностью и сарказмом подхватил он. – Вот еще появился жизненный образец, я так и знал!
– При чем тут образец? Мне просто нравится иногда… как у нее в волосах запутываются пчелы и она высвобождает их своими толстыми пальцами.
– Откуда ты знаешь, что эти насекомые нашептывают ей на ухо? Вдруг выяснится, что она живет в мире, куда более фантастическом, чем все мы, и мерит нас по пчелам – вряд ли в нашу пользу?
– Ты все шутишь.
– Не так уж шучу. Она и мухам покровительствует. Я видел, как она смотрела на парочку, которая сцепилась в воздухе и упала к ней на ладонь.
– Мне это тоже нравится.
– Не знаю, не знаю… – Прохор давно уже не смотрел на нее. – Было и это. Все на свете уже было. И наш разговор где-то был. Можно просто не сознавать этого и видеть в невинности преимущество. Кому как дано. Жить этаким отросточком, верхушечным отросточком на необозримом стволе, и не замечать, что питаешься общими с ним соками, только разыгрываешь некую вариацию. Но мне, может, смиренности не хватает. Мне, может, скучно, тошно, невмоготу ждать, пока моя история выявится сама собой, где-то к концу жизни, и я о ней лишь задним числом догадаюсь. Я, Прохор, я могу кое о чем сам позаботиться. Сравнение с отросточком не для всех верно, кое-кому дано одновременно быть садовником: там привить веточку, здесь подрезать. «Просто жизнь» груба, неотесана. Придать ей форму, смысл невероятно трудно, порой до ужаса. Но если через это пробьешься, тогда все оправданно. Тогда возникает нечто, достойное называться словом «искусство». Для этого себя не пожалеешь.
– А других пожалеешь? – тихо спросила Анна Арсеньевна.
Он резко повернулся к ней.
– Почему ты так сказала? – Голос его сорвался, стал сиплым, и ему пришлось сглотнуть слюну.
– Так… – Ее испугал внезапно страдальческий изгиб его большого рта. – Сама не знаю. Сорвалось.
– А почему сорвалось? – настаивал он. – Нет, ты уж ответь.
– Зачем ты так всерьез… обиделся? Это я вдруг, не подумав. Ты же знаешь, как мы с тобой умеем… для красного словца.
– Нет, нет, в том-то и дело, что не подумав, – требовал он с жаром. – Обмолвка – это подсознательно. Тут не обида, не бойся. Но все-таки скажи.
– Не знаю, Проша. Я не могу объяснить. Ты так говоришь, что я не всегда понимаю. Но у тебя было такое отсутствующее выражение глаз… я испугалась.
– А!
– Нет, господи… я опять не то сказала. Это не так. Я за тебя иногда боюсь.
– Почему?
– Не знаю, смогу ли объяснить, даже сама себе. Я иногда боюсь, что эти мудреные, отвлеченные слова о ножницах, искусстве и спектаклях могут вдруг обернуться чем-то очень реальным – и страшноватым. То, что ты называешь игрой, этюдами, репетицией, для людей жизнь. Да и для тебя тоже.
– Может быть, может быть, – проговорил он без улыбки и взглянул на нее из-под приподнятых бровей; высокий лоб его сошелся крупными изломанными складками. – А ты умница. Умница.
– Постой, я попробую сказать еще. В несерьезности, о которой ты говоришь, есть какое-то опасное высокомерие… неуважение к жизни. Странно говорить так о тебе, но иногда я это чувствую.
– Ты умница, – повторил он.
– Какая уж там умница. – Анна Арсеньевна устало облокотилась о высокую спинку кровати.
– Спасибо, что говоришь со мной так… Я знаю, что произношу слова, которые трудно воспринимать без усмешки. В каком-то смысле меня это и устраивает. Тут ведь не только с другими – с самим собой остережешься. А то вдруг откроешь, что в самом деле ты просто-напросто сумасшедший. И нельзя тебе было иметь детей… опасно. Я сам боюсь иных фантазий, гоню их от себя, но залетит шальная – как от нее избавишься? Вроде бы и не виноват – мысль ведь, не больше. Но я-то знаю: мыслью можно камни сдвигать.
Анна Арсеньевна не отвечала; он продолжал, уставившись в стену невидящими глазами, приоскалив рот в непривычной усмешке:
– Ты умница, умница… Послушай, я скажу тебе то, в чем боюсь признаться сам себе. Я очень люблю вас, тебя и Зоюшку. Если есть у меня немного счастья, так это вы. Не думай, что я не способен этим проникнуться… когда вижу ее в мотыльковом платьице среди цветов… ну и так далее. Но бывают мгновения – именно мгновения – я вдруг чувствую: мне никто и ничто не нужно – только довести до предела идею. Не потому что это принесет мне счастье. Какое! Тут речь вообще не о счастье. Тут черт знает что. Эх, Аннушка, – продолжал он негромко и с горечью, – знаешь ли ты, что в искусстве – да и в любом развитии мысли – может быть много бесчеловечного? В пределе своем это жестокая сфера, тут не станешь рассуждать, что позволено, а что нет, если хочешь дойти до конца, до совершенства. А то лучше и не замахиваться… И тянет, тянет… Начинаешь понимать, почему мы боимся стоять у края обрыва или перевешиваться через высокий подоконник. Не потому, что можем случайно упасть. А потому, что в себе самих осознаем этот соблазн: тянет. Ты, Аннушка, сама не знаешь, как сдерживаешь меня. Если б не ты, я б, и верно, вконец свихнулся. Прости. Не спрашивай за что, но прости.
Голос его совсем осел, ему приходилось то и дело смачивать горло слюной.
– Слышишь? – Он взглянул наконец на жену – и внезапно увидел, что она сидит на кровати, неудобно прислонясь боком и лицом к железной решетке спинки; лицо ее было совершенно белым. – Что с тобой? – испуганно подскочил он к ней. – Тебе нехорошо?
Анна Арсеньевна слабо качнула головой. Вокруг рта ее и на лбу выступил липкий холодный пот. Прохор Ильич помог ей улечься на подушку. Он беспомощно оглядывался, не зная, что еще предпринять.
– Дать тебе какого-нибудь лекарства? Нашатыря?
Анна Арсеньевна покачиванием головы и движением руки дала понять, что ничего не нужно. В эту минуту погас свет; в Нечайске после полуночи нередко отключали электричество, особенно к концу месяца, когда принимались экономить энергию. Меньшутин даже обрадовался этому как поводу захлопотать о чем-то определенном. Он вышел за керосиновой лампой; через некоторое время из кухни донесся грохот опрокинутого таза, потом звон какого-то разбитого стекла. Наконец он вернулся, держа зажженную лампу перед собой. Каждый его шаг причудливо изменял очертания комнаты, тени образовывали новые углы, призрачные плоскости секли одна другую. Он поставил лампу не на стол, а на венский стул у изголовья, сам присел на краешек кровати. Анна Арсеньевна уже немного отошла, хотя испарина еще покрывала ее лицо; над верхней губой она образовала милые капельные усики, поблескивавшие в контрастном свете. Прохор Ильич запоздало спохватился принести еще воды и вновь исчез в темной кухне.
– Какая-то вдруг слабость накатила, – объяснила мужу Анна Арсеньевна, когда он, прогрохотав ведерной крышкой, появился перед ней со стаканом в руке. – Ни сердце, ничто не болело, просто слабость. Со мной так уже несколько раз было.
– Почему ж ты не говорила?
– Так ведь ничего не болит. И потом проходит бесследно. У меня просто появилась какая-то мнительность. Словно мне кто-то внушает, что я долго не проживу.
– Ну, глупости!
– Конечно, глупости. Я стала ужасно беспокойной. Никогда не думала, что окажусь такой наседкой. Отпускаю Зоюшку за калитку, а сама места себе не нахожу. Вчера снился глупейший сон: будто она заболела и лежит под каким-то стеклянным колпаком, а я встречаю в коридоре медсестру и хочу узнать, как Зоя себя чувствует, – вдруг сестра отворачивается и начинает от меня убегать. А я за ней – и бегу, бегу по жуткому бесконечному коридору, мимо дверей из матового стекла, задыхаюсь… Проснулась, как сейчас, вся липкая.
– Надо сходить к врачу.
– А что он мне скажет? Вот, уже прошло. Скорей, к гадалке, чтоб объяснила сны. Бывает, страшный сон даже к добру.
– Конечно, бывает. Помнишь Милевича, жонглера? Ему три ночи подряд снилось, будто у него вместо головы кирпич. А на четвертый день его избрали председателем месткома.
Анна Арсеньевна слабо улыбнулась; у нее были сейчас затененные щеки, черты лица стали четче, точенее; она была красива.
– У тебя хоть нормальные человеческие сны, – грустно сказал Прохор Ильич. – А мне с некоторых пор снится все какой-то театральный вздор, причем много раз одно и то же: будто мы всем семейством должны играть в спектакле, а я пьесы еще в глаза не видел, не знаю роли, но должен выйти на сцену. Сцена вроде комнаты, с дощатым полом, с двумя дверями на противоположных концах, я вхожу с одной стороны, с другой входит Зоя и начинает произносить какие-то вымученные, якобы детские остроты. А я вставляю реплики – по догадке, невпопад; роли никто из нас не знает, а играть почему-то надо. Знаешь, как бывает во сне. И мы импровизируем нестерпимо долго, нудно, с тоской предчувствуя провал, при тишине невидимого зрительного зала – и никак не можем прийти к финалу, развязке, догадаться о фразе, на которой бы все кончилось. Мучительней всего это сознание, что так может длиться бесконечно. И главное, я почти догадываюсь, что это сон, что если б проснулся – все бы стало хорошо. Но нету сил проснуться.
– Мне в школе снилось похожее: будто я не знаю урока… А помнишь, – улыбнулась она, – мы когда-то видели одни и те же сны?
– Еще бы! И угадывали мысли друг друга на расстоянии.
Прохор Ильич оживился. Низкая лампа контрастно освещала снизу его нос и надбровья, сделав их приподнятыми, уменьшив лоб и подтянув кверху уголки губ.
– Ты не ругаешь меня за то, что привез тебя сюда? – спросил он вдруг.
– Что ты, милый! Я уже привыкла. Я так славно здесь живу. И люди здесь такие славные. Трудновато – ну не без этого. Мне так нравится этот лес и тишина. Зоя рассказывала тебе, что к нам сейчас прибегает кормиться белочка?
– Кажется, нет. Меня это с некоторых пор перестало трогать. И звери, и лес – вся эта природа.
– Ты сам это выдумал. Все-таки это неправда, что нельзя просто жить. И неправда, что искусство жестоко. Оно человечно.
– Для зрителя.
– Должно быть и для художника.
– Не будем больше об этом. Наверно, ты права. Я знаю, женщины больше во всем этом смыслят. В жизни, в счастье… – Он вновь заулыбался. – Помнишь, как ты ходила среди вишен и заглядывала в сердцевинку завязей?
– И различала беременных на взгляд.
– И подставляла живот луне, чтобы родить девочку. А помнишь, как тебе позвонили мальчишки-хулиганы и попросили: «Позовите вашу дочку»? А ты ответила: «Ее пока нет».
– Это было не совсем так. Я сказала: «Она будет месяца через четыре». А они собирались просто побаловаться, звонили наугад, такого ответа не ожидали. Как же так, говорят, а мы хотели с ней познакомиться. Я сказала: «Уж потерпите четыре месяца». А сама смеюсь. Они даже обиделись: «Чего смеетесь?»
– И ты ответила: как же не смеяться, когда такое радостное событие, – через четыре месяца будет дочка.
– Они смутились, я почувствовала. «Это правда?» – говорят. – «Правда». – «А если сын?» – «Не сомневайтесь, дочка». – «Тогда желаем вам, говорят, счастливых…» И застеснялись, мальчишки все-таки. Счастливых, говорят, успехов.
– Как это все было невообразимо давно!
– Что ты, совсем вчера!
– Сколько же прошло лет?
– Года три?
– Что ты, лет десять!
– Постой, я тоже совсем сбилась.
– Сколько сейчас Зоюшке?
– Семь.
– Значит, семь с лишним лет назад.
– Неужели так давно?
– Нет, ты права. Какая-то мгновенная доля столетия…
Так они тихо говорили в ту ночь, еще долго вспоминая прекрасные месяцы, когда оба ждали свою Зоюшку, – ни один из них даже в мыслях не усомнился, что семь с лишним лет назад они ждали именно ее, худенькую и большеротую, так похожую на отца: допущенная некогда обмолвка давно стала естественным и искренним убеждением, ибо память человеческая обладает целительным свойством как бы невзначай извлекать и уводить в полунебытие способные ранить осколки, – воспоминание без надрыва проскакивает мимо затененной пустоты. Надо только не бояться доверять своей памяти; супруги Меньшутины обладали этой способностью в высшей степени.
Это сказка о силе воображения, которое может властвовать над жизнью не меньше, чем силы природы, – так скажет через несколько лет Прохор Ильич о своей «Золушке».
5
Тревожный ночной разговор и воспоминание о внезапной бледности жены, об испарине вокруг милого рта – как будто частица живого дыхания вдруг проступила сквозь кожу, осев на ней холодными каплями, – все это сильно подействовало на Меньшутина, почти испугало его, вызвав ощущение глубоко затаенной вины – за многое, за многое, хотя бы уже за то, как он всегда усложнял ее жизнь, не дав сам и доли того, чего она была достойна. Вдобавок примерно в те же дни случилось еще одно происшествие, пустое, но все же неприятно задевшее Прохора Ильича. Неподалеку от их дома, на опушке леса за кладбищем, расположили свой табор залетные цыгане. Синеволосые смуглые женщины в обвислых платьях предлагали на Базарной площади газетные пакетики с анилиновыми красками, ходили с детьми по дворам, выпрашивая молока или чего угодно другого. Анна Арсеньевна, вспомнив страшные, еще из своего детства, истории о цыганах, не отпускала Зою одну даже в сад. Как-то раз, когда Меньшутин шел в свой дворец, его окликнула на площади старуха гадалка, она сидела на приступочке у закрытого ларька среди пестрого тряпичного вороха своих юбок. Прохор Ильич, поколебавшись, подошел. Старуха бесцеремонно уставила на него взгляд круглых глаз с черной, как у животного, кожицей век; в ее желтом лице с черно-седыми усиками и маленьким подбородком было что-то кошачье. Она старательно изучила его ладонь, разложила перед собой засаленные карты и среди прочих обычных фраз двусмысленного гадательного жаргона сообщила Меньшутину, что доживет он до пятидесяти трех лет, что будут у него три дочери и младшая, красавица, каких не видел свет, выйдет замуж за бубнового принца. Прохор Ильич, начинавший слушать с интересом, в этом месте рассмеялся.
– Ну, угодила ты мне, тетка, – сказал он с непривычной для себя неделикатностью; он сам не мог понять, чем его так злит цыганка. – Значит, до этой свадьбы я не доживу.
– Почему?
– А потому что мне уже сорок три и младшая моя красавица еще не родилась.
– Так карты говорят, – засердилась в ответ старуха, усики ее над уголками рта ощетинились, увеличив ее сходство с кошкой, – и Меньшутин понял, что он ее уже видел, она приходила с бидончиком к их дверям, не хотела верить, что у них нет коровы, и зачем-то все норовила оттеснить испуганную Анну Арсеньевну от порога, чтобы войти в дом, пока выглянувший на шум Прохор Ильич не спугнул ее.
– Жульничать, тетка, не надо, – сердито сказал он, поднимаясь с корточек и бросая гадалке трешку (старыми еще деньгами). – У тебя валет ложился под крестовую даму, а не под червовую. Зачем подвинула? И этих двух тузов разбросала не в очередь. Вот как надо было… мы в этой работе тоже кое-что смыслим.
– Не трогай карты, блатняжка чокнутый! – оскорбленно замахала руками старуха. – Я вашего русского гаданья не знаю. Жулик! Сам ты жулик, киштухес чертовый, много ты разбираешься, у, пся твою крев, чтоб у тебя язык к зубам приклеился, стиляжка мохеровый…
И до самых дворцовых ворот Прохора Ильича сопровождал ее гневный голос, собиравший вокруг цыганки все больше зрителей, которым не приходилось еще слышать столь диковинных ругательств, собранных старухой за многие годы странствий по разным местам нашей обширной родины.
Как бы то ни было, эта вздорная болтовня скверно подействовала на Меньшутина и утвердила его в уже принятом намерении отставить все прочее и по-настоящему вспомнить наконец о семье и доме. Надо сказать, на работу это ничуть не повлияло; обнаружилось, что дворец не так уж и нуждается в его постоянном присутствии и хлопотах, без него все шло точно так же, как с ним. Нехитрый механизм обрел инерцию; у Прохора Ильича давно имелись энтузиасты-помощники, в дни танцев им можно было доверять ключи от комнаты с радиолой и пластинками, а самому разве лишь к концу вечера проверять порядок. В цикле приливов и отливов энергии, из коих складывалась его жизнь, наступила пора очередного подъема, и подъем этот был одним из наиболее длительных и умопостижимых. Он даже попробовал делать по утрам гимнастику; Анна Арсеньевна с улыбкой наблюдала, как он, голый по пояс, умывается у дождевой бочки с замшелой затычкой на боку, где вода с ночи уже покрывалась легкой корочкой льда. Начало той осени выдалось ясное и прохладное, по утрам в затененной траве голубела изморозь, и грязь на дороге была твердая, когда Прохор Ильич провожал дочь в школу. Она могла ходить туда и одна, но Анна Арсеньевна беспокоилась, да и ему самому было приятно шагать рядом с ней, все еще сонной, видеть, как она раздавливает каблучком белую хрусткую корочку льда на лужах, слушать ее невнятную болтовню, нести в руках легонький портфельчик. На обратном пути Прохор Ильич заходил в магазин; он взял на себя даже часть стряпни и обнаружил здесь неожиданные познания, почерпнутые, как уверял он, из старинного поваренного руководства Елены Молоховец; во всяком случае, назывались блюда внушительно: какой-нибудь волован из слоеного теста с соусом кумберлянд, кулебяка с сомовьим плесом, а то и вовсе какое-нибудь картофельное фрикасе во фритюре или яйца-кокотт с грибным пюре в чашечках. Что это было на самом деле, трудно сказать, но звучные названия, бесспорно, придавали блюдам особый вкус, и даже если они выходили подгорелыми, оказывалось, что легкий привкус уголька рекомендован рецептом для вящей пикантности. Особенно изощрялся Прохор Ильич в приготовлении грибов. Они ходили в лес почти всю осень вместе с тетей Пашей, не без удивления наблюдая, как грибы растут под взглядом старухи, раздвигают шляпками шуршащие палые листья в том месте, где только что бесполезно прошли другие.
Однажды, наклонясь за грибом, Анна Арсеньевна ощутила сильную боль в пояснице – и почти обрадовалась определенности этой боли; приступы беспричинной слабости пугали куда сильней. Местный врач объявил, что у нее воспаление почечных лоханок, и прописал настой медвежьего ушка, однако для более точного диагноза посоветовал произвести рентген почек. Сделать это можно было только в областной больнице. Анна Арсеньевна ехать пока не захотела, ее пугала одна мысль о тряске: в воспоминании она с каждым годом представлялась все более ужасной. Три года назад от железнодорожной станции к Нечайску начали насыпать рядом со старым трактом новое шоссе, но пока не протянули и десяти километров; самолеты осенью в Нечайске не садились, да самолета она и подавно боялась. К тому же медвежье ушко, видимо, помогло, боль в пояснице не повторялась, и Анна Арсеньевна уговорила мужа повременить с поездкой до зимы, когда путь по снегу станет легче.
- М+Ж
- Рыба. История одной миграции
- Институт сновидений
- Город с названьем Ковров-Самолетов (сборник)
- Последний из миннезингеров (сборник)
- Жили-были старик со старухой
- Против часовой стрелки
- В аду повеяло прохладой
- Орина дома и в Потусторонье
- «Текущий момент» и другие пьесы
- Ваша жизнь больше не прекрасна
- Высотка
- Медведь
- Пламенеющий воздух
- Азартные игры. Записки офицера Генштаба
- Хроника № 13 (сборник)
- Бывший сын
- Поправка Джексона (сборник)
- Свет в окне
- Те, которые
- Девичьи сны (сборник)
- Свечка. Том 1
- Свечка. Том 2
- Сделай, чтоб тебя искали (сборник)
- Замыслы (сборник)
- Мягкая ткань. Книга 1. Батист
- Мраморный лебедь
- Коньяк «Ширван» (сборник)
- Рассказы о животных
- Травля (сборник)
- Барабанные палочки (сборник)
- Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
- Отец мой шахтер (сборник)
- Детство Лёвы
- Озеро Радости: Роман
- Очередь. Роман
- Красный Крест. Роман
- Песнь тунгуса
- Савельев: повести и рассказы
- Чай со слониками. Повести, рассказы
- Шакспер, Shakespeare, Шекспир: Роман о том, как возникали шедевры
- Провинциальная философия: трилогия
- Юби: роман
- Родина моя, Автозавод
- Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х
- Музейная крыса
- Рассекающий поле
- Радуга и Вереск
- Гусь Фриц
- Счастливый Феликс: рассказы и повесть
- Минус 273 градуса по Цельсию. Роман
- Садовник (сборник)
- Продолжая движение поездов
- Голубиная книга анархиста
- Волчок
- Цимес (сборник)
- По фактической погоде (сборник)
- Мечта о Французике
- Холода в Занзибаре
- Собаки Европы
- Возвращение в Острог
- Маргиналы и маргиналии
- Коридор
- Либгерик
- Ксю
- Этот берег
- Площадь Борьбы
- Гомер, сын Мандельштама
- Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной
- Трещина
- Сталинский дворик
- О! Как ты дерзок, Автандил!
- Джек, который построил дом
- Лехаим!
- Среди гиен и другие повести
- Доктор Фауст и его агентура
- В поисках Авеля
- Прошлое в наказание
- Кремулятор
- Лис
- По дороге в Вержавск
- Сапфировый альбатрос
- Долгая жизнь камикадзе
- Медуза
- Время сурка
- Натюрморт с селедкой и без
- Изумрудная муха
- Луша
- Джинсы, стихи и волосы



